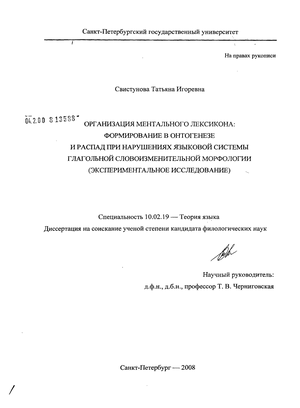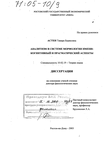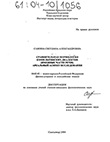Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Гипотезы об организации ментального лексикона и механизмов, обеспечивающих морфологические процедуры 8
1. Двусистемный подход 9
2. Односистемный подход 11
3. Альтернатива дву- и односистемному подходам 13
Глава 2. Двусистемный vs. односистемный подход: данные английского языка 16
1. Данные усвоения языка 16
1.1. Данные по детям с нормальным речевым развитием 16
1.2. Данные по детям со специфическими речевыми нарушениями 26
1.3. Данные по билингвам и изучающим неродной язык 30
2. Данные распада языка 33
2.1. Данные по людям с афатическими нарушениями 33
2.2. Данные по людям с болезнью Альцгеймера 39
3. Данные нейрофизиологических исследований с применением различных методик мозгового картирования 40
Глава 3. Двусистемный vs. односистемный подход: данные разных языков . 45
1. Исландский и норвежский языки 45
2. Итальянский язык 46
3. Немецкий язык 47
4. Испанский язык 48
5. Иврит 48
6. Польский язык 49
7. Русский язык 49
7.1. Этапы усвоения русских глагольных форм детьми 49
7.2. Экспериментальные исследования усвоения глагольной морфологии на материале русского языка 52
Глава 4. Словоизменительные глагольные классы в русском языке 56
Глава 5. Структура и методика эксперимента. Материал исследования 61
1. Структура и методика эксперимента 61
2. Материал исследования 65
2.1. Группы испытуемых. Демографические данные 65
2.2. Обоснование выбора испытуемых и возможности их сопоставления 67
Глава 6. Результаты экспериментального исследования различных групп испытуемых на материале русского языка 73
1. Принципы анализа материала '. 73
2. Результаты эксперимента со взрослыми носителями языка без речевых нарушений 75
3. Результаты экспериментов с детьми дошкольного возраста без речевых нарушений 82
4. Результаты экспериментов с детьми дошкольного возраста с диагнозом ал алия 92
4.1. Испытуемый ВП, 5 лет 93
4.2. Испытуемый ВВ, 5 лет 97
4.3. Испытуемый КА, 5 лет 100
4.4. Испытуемый АП, 5 лет 102
4.5. Испытуемый ГГ, 6 лет 105
5. Результаты эксперимента со студентами-американцами, изучающими русский язык как иностранный 109
6. Результаты эксперимента с пациентами с диагнозом афазия 114
6.1. Испытуемый Пн 116
6.2. Испытуемый Кн 119
6.3. Испытуемый Фд 121
6.4. Испытуемый Пр 124
6.5. Испытуемый Сф 126
6.6. Испытуемый Кр 128
7. Результаты эксперимента с пациентами с болезнью Альцгеймера 132
7.1. Испытуемый Сл 133
7.2. Испытуемый Кз 135
7.3. Испытуемый Бл 137
7.4. Испытуемый Ал 139
7.5. Испытуемый Вр 141
7.6. Испытуемый Пл 143
8. Результаты эксперимента с пациентами с диагнозом шизофрения... 146
9. Сопоставление результатов, полученных в ходе экспериментов со
всеми группами испытуемых. Статистическая обработка 152
Глава 7. Анализ результатов эксперимента на материале русского языка в свете дискуссии об организации ментального лексикона 170
Заключение 177
Список использованной литературы 179
- Двусистемный подход
- Данные усвоения языка
- Исландский и норвежский языки
- Структура и методика эксперимента
Введение к работе
Дебаты вокруг проблемы организации ментального лексикона не утихают в течение последних тридцати лет. В основе этих споров лежит фундаментальное для современной когнитивной науки разграничение процессов, организованных по принципу подобия, и процессов, основанных на правилах. Как отмечается в статье У. Хана и Н. Чатера [Hahn & Chater 1998], это противостояние восходит к двум разным исследовательским традициям.
В лингвистике оба эти подхода нашли отражение, в частности, в исследованиях проблемы регулярности и нерегулярности морфологических процедур. В основном, исследования данной тематики проводились на материале английских глаголов, и в них разрабатывалась роль таких важных для речевой деятельности понятий, как дефолт (стандартное решение), частотность глагольного класса, частота встречаемости того или иного глагола в речи, продуктивность классов, прозрачность морфологической структуры и т. д. Структура ментального лексикона обычно рассматривается в рамках двух основных подходов, тем не менее существуют и альтернативные модели.
Все эти исследования претендуют на то, что предлагаемые в них модели являются универсальными. Однако английский язык не обладает сильно развитой флективной морфологией. В связи с этим возникает вполне логичный вопрос о том, насколько выдвигаемые гипотезы применимы к языкам других типов, к таким как, например, русский. Это и обуславливает актуальность данного исследования.
Целью данного исследования было выявить особенности порождения форм от русских глаголов, с разной частотностью и различных словоизменительных классов, полученных в ходе экспериментов с самыми разнообразными группами испытуемых, и проанализировать их с точки зрения гипотез об устройстве ментального лексикона.
В соответствии с поставленной целью в задачи исследователя входило:
сбор экспериментального материала;
расшифровка и статистическая обработка полученных данных;
выявление и сопоставление особенностей порождения глагольных форм у разных групп испытуемых;
анализ результатов с точки зрения выдвигаемых в психолингвистике гипотез об устройстве ментального лексикона.
Объектом исследования является формирование глагольной словоизменительной морфологии русского языка в онтогенезе и распад при нарушении языковой системы.
Основным методом данного исследования является эксперимент, оформленный в виде микро-диалога, в ходе которого и порождались необходимые формы.
Предметом анализа в данной работе стали глагольные формы 1 лица единственного числа и 3 лица множественного числа настоящего/будущего времени, полученные в ходе тестирования со следующими группами испытуемых:
взрослые здоровые носители языка;
взрослые с афатическими нарушениями;
взрослые с диагнозом шизофрения;
взрослые с болезнью Альцгеймера;
дети дошкольного возраста с нормальным речевым развитием;
дети дошкольного возраста со специфическими речевыми нарушениями;
студенты-американцы, изучающие русский язык как иностранный. Научная новизна в первую очередь определяется как самой
постановкой проблемы (исследование особенностей порождения глагольных форм с точки зрения выдвигаемых в мировой науке гипотез на материале языка с развитой флективной морфологией), так и выбранным экспериментальным методом.
7 Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что полученные
данные русского языка, языка с богатой системой словоизменительных
классов, могут послужить материалом для дальнейшего моделирования
универсальных механизмов ментального лексикона, участвующих в
формообразовании.
Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные данные могут быть использованы при чтении соответствующих лекционных курсов и при создании тестов для определения уровня речевого развития у детей, усваивающих родной язык и иностранцев, изучающих иностранный, или распада языка, обусловленного различными заболеваниями.
Достоверность полученных результатов обеспечивается, во-первых, объемом исследованного материала (всего было проанализировано около 42000 глагольных форм), а во-вторых, статистической обработкой результатов по методу дисперсионного анализа.
Данное исследование является частью большого
психолингвистического проекта кафедры общего языкознания Санкт-Петербургского государственного университета, организованного совместно с Мерилэндским университетом, США и университетом Осло, Норвегия.
Двусистемный подход
Первым экспериментальным исследователем регулярных и нерегулярных процедур в глагольной морфологии была Дж. Берко [Berko 1958]. Она является создателем методики, получившей название wugecr, в которой впервые использовались квазислова для выявления особенностей формирования глагольной морфологии у детей. В этом исследовании было показано, что дети и взрослые использовали регулярную модель прошедшего времени. Тот факт, что взрослые иногда порождали форму прошедшего времени от квазиглагола при помощи нерегулярной модели, позволил Дж. Берко сделать вывод, что дети используют продуктивные правила для создания формы прошедшего времени, а нерегулярные основы образуют подмножества, к которым применяются особые правила, и что эти нерегулярные правила могут иногда продуктивно использоваться. Эта модель, как отмечается в статье Дж. Джеггер и ее коллег [Jaegger et al. 1996], соответствует порождающим теориям, в которых все морфологически сложные конструкты образуются по правилам.
Итак, «двусистемный» подход, отраженный в основном в работах представителей генеративного направления в лингвистике [Pinker 1991, 1999, Markus et al. 1992, Prasada & Pinker 1993, Ullman 1999], подразумевает наличие у человека двух независимых механизмов для обработки регулярных и нерегулярных явлений в языке.
Согласно этому подходу, правильные и неправильные формы относятся к разным подмодулям внутри языкового модуля. Эти подмодули обеспечиваются врождёнными языковыми алгоритмами. Человеческий мозг «генетически» запрограммирован искать регулярные морфологические модели словоизменения, делить все словоформы на правильные и неправильные, а также искать «стандартное правило» или дефолт. Если обратиться к глагольной морфологии, то для образования форм от регулярных глаголов носителем языка используется система символических правил, тогда как нерегулярные глагольные формы целиком извлекаются из ассоциативной памяти. Подобное разделение, как пишут [Pinker & Ullman 2002: 456] является побочным результатом традиционного разделения языка на лексикон и грамматику. Если носитель языка сталкивается с невозможностью извлечения некоторой формы из памяти, то он, как считается, автоматически будет применять дефолтное регулярное правило. Какие же обстоятельства препятствуют извлечению некоторой формы из памяти? С. Линкер [Pinker 1999] выделяет следующие ситуации: 1) случаи с низкочастотными словами (чем ниже частотность слова, тем легче забываются его нерегулярные формы); 2) нетипичное звучание слова, то есть невозможность найти аналогичный глагол и генерализовать модель, по которой он изменяется; 3) случаи употребления слова в определенном контексте, когда, например, английский глагол to fly летать в контексте с птицами будет иметь нерегулярные формы flew, flown, а в контексте с бейсбольными игроками — регулярные/7/W; 4) случаи сокращений и инноваций; 5) иностранные заимствования.
Одним из следствий данной гипотезы является следующее: поскольку нерегулярные глаголы хранятся в ассоциативной памяти, то при порождении форм частотность глагола будет влиять на скорость их извлечения у всех носителей языка и на количество ошибок у детей. Для операций с регулярными глаголами частотность роли играть не должна.
Другой вариант двусистемного подхода представлен в работе Ч. Линга и М. Маринова [Ling & Marinov 1993], они рассматривают речепроизводство как процесс, полностью формируемый правилами и подправилами. Авторы предлагают компьютерную модель «ассоциатор символических алгоритмов» {Symbolic Pattern Associator) порождения глагольных форм в прошедшем времени. Эта модель использует символические правила для фонологических образцов, а результатом обучения являются специфические алгоритмы. В процессе обучения правильные и неправильные глаголы обрабатываются разными модулями. Для правильных глаголов существует небольшое количество правил, описывающих все алломорфные варианты. Для неправильных глаголов используются отдельные фонологические правила. Несмотря на то, что оба класса образуются при помощи правил, авторы настаивают, что действующие механизмы принципиально отличаются. Между тем, Ч. Линг и М. Маринов не уверены, что разница между ними отображает отличие лексикона от грамматики. Создатели модели больше склоняются в сторону гипотезы, что продуцирование и правильных, и неправильных глаголов является частью грамматических операций.
«Двусистемному» подходу противостоит так называемый «односистемный». Эту гипотезу впервые в 1986 году выдвинули Д. Руммельхарт и Дж. МакКлелланд [Rummelhart & McClelland 1986], в дальнейшем она получила развитие в таких работах, как, например, [Plunkett & Marchman 1993, Ramscar 2001, McClelland & Patterson 2002].
Согласно этой теории формы как регулярных, так и нерегулярных глаголов обрабатываются с помощью единого механизма: они извлекаются целиком из ассоциативной памяти. Этот подход был в первую очередь разработан в рамках коннекционизма. Никакие символические правила в этом подходе не признаются. Частотность той или иной формы влияет на скорость ее извлечения из памяти носителем языка. Кроме этого, существует и еще важное отличие односистемного подхода от двусистемного: он предсказывает, что как нерегулярные, так и регулярные глаголы будут чувствительны к частотности классов слов и словоформ, что подтверждено и экспериментально [Stemberger & MacWhinney 1988, Marchman 1997, Alegre & Gordon 1999].
Таким образом, в основе этого подхода лежат два понятия: частотность и аналогия. Если носитель языка сталкивается с необходимостью порождать формы от новых или редких слов, то они образуются по аналогии с теми, которые уже существуют у него в памяти.
Несколько иных взглядом придерживается Дж. Байби [Bybee 1995]. Проблему английского прошедшего времени Дж. Байби объясняет с помощью такого понятия, как схемы. В модели выделяются два вида схем, которые объясняют регулярную и нерегулярную глагольную морфологию. Первый тип схем — это схемы, ориентированные на источник (source-oriented). Они могут быть соотнесены с правильными глаголами и очень отдаленно похожи на то, что в двусистемном подходе называется символическими правилами. Второй тип — это схемы, ориентированные на продукт (product-oriented). Именно этот тип схемы применяется при генерализациях в подгруппах неправильных глаголов. Основанием для применения схемы в данном случае является родовое сходство.
Данные усвоения языка
Интерес к лингвистике детской речи возник очень давно, однако как отдельная дисциплина она складывается до сих пор [Цейтлин 2000: 7-9].
Как известно, речевая деятельность — это процесс порождения и восприятия речи. При этом процесс усвоения языка — это становление и самоорганизация грамматической системы в мозгу [Воейкова 2004], таким образом в задачи ребенка входит конструирование языковой системы, основанное на индивидуальном речевом опыте [Цейтлин 2004]. Для того чтобы начать говорить на каком-либо языке, как минимум, необходимо знание языковых единиц и набора правил, по которым эти единицы соединяются между собой. Естественно, ни взрослый, который не является лингвистом, ни маленький ребенок не в состоянии сформулировать эти правила; таким образом, овладение языковыми правилами и способность их формулировать — это две разные вещи.
В процессе формирования системы родного языка в нормальных условиях ребенок усваивает эти правила самостоятельно, «вытаскивая» их из инпута. В такой ситуации роль взрослого «заключается в большинстве случаев лишь в том, что он в повседневном общении с ребенком поставляет речевой материал» [Цейтлин 2000: 11]. Это пассивная функция родителей. Активная функция заключается в исправлении ошибок ребенка, однако принято считать, что она по сути своей минимальна, обычно родители реагируют не на грамматические ошибки, а на истинность или ложность высказывания [Аврутин 2006: 256].
Д. Слобин [Слобин 1984] отмечает, что правила усваиваются не все и сразу, а постепенно, что приводит к некоторым «ошибкам» в речи детей. Усвоение идет по следующей модели: от общих правил к частным. Эту тенденцию он относит к разряду языковых универсалий при речевом онтогенезе. Также к подобным универсалиям относится и стремление детей избегать исключений (как один из этапов в развитии речи сюда попадает сверхгенерализация, то есть стремление ребенка употреблять усвоенное правило во всех теоретически возможных случаях), и тот факт, что ошибочный выбор происходит всегда в рамках требуемого функционального класса или подкласса.
Детская речь входит в область интересов не только лингвистов, но и психологов. При этом каждый ставит свои задачи. Лингвистов интересует детская речь либо как самостоятельный объект, достойный детального анализа и изучения, либо в связи с проблемой усвоения неродного языка (так как вопрос, являются ли эти процессы похожими или нет, до сих пор остается открытым и в рамках разных подходов решается по-разному). Для психологов детская речь, скорее, важна или как источник представлений о процессе социализации ребенка, или как источник для изучения познавательных процессов вообще [Фрумкина 2001: 106].
К этому необходимо добавить, что для лингвистов генеративного направления тот факт, что маленькие дети, чьи интеллектуальные способности еще не достигли уровня взрослого человека, «знают» ограничения, накладываемые на языковые правила, является одним из доказательств врожденности языка [Пинкер 2004: 31-36]. Исследователи-генеративисты [Пинкер 2004: 37, Хомский 2005: 125-127] настаивают на существовании специального генетически обусловленного «языкового органа» {language acquisition device, сокращенно LAD), благодаря которому и возможно формирование языковых алгоритмов [Chomsky 1985]. Он состоит из набора универсальных принципов, присущих всем естественным языкам. А дальше ребенок по мере своего развития, благодаря получаемому извне инпуту, устанавливает необходимые параметры для этих универсальных принципов.
Однако далеко не все исследователи детской речи придерживаются идеи о врожденности языкового механизма, которой позволяет усваивать, язык. Необихевиористы в психологии и лингвисты, придерживающиеся коннекционистской модели, как и представители функционального направления, напротив, считают, что главным фактором при усвоении языка является именно научение.
Рассмотрим некоторые теории, касающиеся усвоения ребенком морфологии. К таким моделям можно отнести теорию естественной морфологии, разрабатываемую В. Дресслером и его последователями [Dressier 1985, Dressier & Gagarina 1999, Воейкова 2004] и теорию М. Томазелло [Tomasello 2003], основанную на принципе главной роли «употребления» (usage-based theory).
Исландский и норвежский языки
Исследования усвоения исландской и норвежской глагольной морфологии детьми [Ragnasdottir et al. 1999, Simonsen 2000, Simonsen 2001] показали, что на порождение форм прошедшего времени влияют как частота самого слова, так и частота словоизменительного класса, к которому оно относится. Это явление было обнаружено для сильных (нерегулярных) и слабых (регулярных) глаголов, что вступает в противоречия с предсказаниями двусистемного подхода.
Также в данных исследованиях утверждается, что наличие морфологически сложной парадигмы сказывается и на скорости усвоения. В исландском языке глагольная система сложнее, чем в норвежском. В соответствии с этим фактом, у исландских детей наблюдается некоторая задержка в усвоении сильных (нерегулярных) глаголов по сравнению со своими норвежскими сверстниками.
В частности, исследование порождения глагольных форм в норвежском языке детьми в возрасте четырех, шести и восьми лет и взрослыми носителями [Simonsen 2000] показало, что очередность усвоения глагольных классов зависит от частотности класса (сначала усваивается наиболее частотный регулярный класс, затем менее частотный регулярный класс, а затем нерегулярный). Чем выше частотность класса, тем больше вероятность того, что его морфологическая модель будет использована при сверхгенерализации. Также в этом исследовании отмечается, что с возрастом происходит снижение употребления детьми дефолтного класса, что вызвано появлением и активном использованием других моделей.
Данные экспериментов с норвежскими детьми со специфическими речевыми нарушениями [Simonsen & Bjerkan 1998] показали, что лучше всего они справлялись с образованием форм большего регулярного класса, а хуже всего — с нерегулярными формами.
Также на материале норвежского языка исследовались пациенты с афатическими нарушениями и болезнью Альцгеймера [Simonsen & Lind 2002, Simonsen et al. 2004]. Эти исследования показывают, что если у пациентов с афатическими нарушениями в первую очередь нарушен морфологический компонент, то у людей с болезнью Альцгеймера — семантический, что отражается и на характере ошибок в формообразовании.
В [Orsolini & Marslen-Wilson 1997, Orsolini et al. 1998, Matcovich 1998] было показано, что, как и для норвежского с исландским, частотность как самого глагола, так и класса, к которому он относится, влияет на порождение форм. Также было выявлено, что фонологическая схожесть влияет не только на порождение форм от нерегулярных глаголов, но и на порождение форм, относящихся к дефолтному продуктивному первому спряжению на -are. Данный факт противоречит двусистемному подходу. [Eddington 2002] также удалось успешно смоделировать особенности порождения форм итальянского глагола разными испытуемыми с помощью коннекционистской сети.
Однако исследование [Walenski et al.] людей с болезнью Альцгеймера на материале итальянского языка показало, что у этих испытуемых нарушены процессы порождения глагольных форм от нерегулярных глаголов как реально существующих, так и квази, однако регулярные остаются полностью сохранными. Данный факт полностью совпадает с результатами англоязычных пациентов с болезнью Альцгеймера из [Ullman et al. 1997]. Естественно, что авторы трактуют это в пользу двусистемного подхода и говорят, что явление нейрофизиологического двойного разделения является универсальным.
Исследования множественного числа существительных и причастий прошедшего времени в немецком языке [Marcus et al. 1995, Clahsen 1999] показали, что регулярные и нерегулярные правила обрабатываются разными механизмами даже в языке с чуть более сложной флективной морфологией, чем в английском. Наиболее интересным фактом, обнаруженном на материале немецкого языка, является то, что дефолтность модели, по которой происходит генерализация, не зависит от частотности, что, по мнению этих исследователей, не может быть смоделировано в рамках коннекционистского подхода. Например, наиболее частотным суффиксом причастий в немецком языке является -еп, однако в качестве дефолта применяется менее частотный суффикс . Однако У. Хану и Р. Накису [Hahn & Nakisa 2000] удалось смоделировать это явление в рамках коннекционистских сетей.
Немецкое словоизменение исследовалось и с помощью различных методик мозгового картирования. В работе А. Берета и соавторов[Вегейа et al. 2003] использовалась методика fMRI, с помощью которой было установлено, что есть разделение в активации зон мозга при порождении форм от регулярных и нерегулярных глаголов, и это соотносится с аналогичными исследованиями на материале английского языка . Как и большинство исследователей этого направления, они трактуют это в пользу двусистемного подхода.
Структура и методика эксперимента
В настоящий эксперимент вошли глаголы четырех классов: -aj класса, -а класса, -/ класса и -ova класса. Глаголы -aj класса {читать — читаю) относятся к I спряжению, основа настоящего времени заканчивается на /aj/. Глаголы -а класса {писать — пишу) также относятся к I спряжению, основа прошедшего времени заканчивается на гласный /а/; у них могут возникать чередования конечного согласного основы в настоящем времени (есть глаголы, где чередования не возникают: жаждать, орать «кричать», сосать, стонать), в этот же класс входят также глаголы с основой на ///, например, лелеять, сеять и некоторые другие. Глаголы -і класса {носить — ношу) относятся ко II спряжению, основа инфинитива заканчивается на // /, основа настоящего времени заканчивается на согласный, в первом лице единственного числа настоящего времени возникает чередование конечного согласного основы. Глаголы -ova класса {рисовать — рисую) относятся к I спряжению, основа инфинитива заканчивается на /ova/, в основе настоящего времени возникает чередование /ova/ с lujl.
Свойства этих классов можно свести в следующую таблицу:
В эксперименте использовались частотные, редкие и квазиглаголы каждого класса (список всех глаголов представлен в таблице 5). Квазиглаголы были образованы от реальных путем замены одного или нескольких звуков в начальном сегменте слова, поэтому такие изменения не приводили к переходу глагола в другой словоизменительный класс. Частотность глаголов определялась по частотному словарю Л. Н. Засориной [Засорина 1977] (см. таблицу 6). Включение в экспериментальный материал глаголов разной частотности позволило посмотреть, во-первых, влияет ли частотность на количество правильных ответов в том или ином классе, а во-вторых, сымОдна из групп испытуемых (взрослые с афатическими нарушениями) участвовала в эксперименте, состоящем из 60 глаголов: пять частотных глаголов, пять редких и пять квазиглаголов, образованных от частотных, в каждом классе. Этот тест в дальнейшем будет называться шестидесяггшглаголъным. Другие — в эксперименте со стимульным материалом из 80 глаголов: пять частотных глаголов, пять редких, пять квазиглаголов, образованных от частотных, и пять квази, образованных от редких. Этот тест в дальнейшем будет называться восьмидесятиглаголъным.
В качестве стимула в эксперименте выступал либо глагол в форме инфинитива (первый вариант теста), либо глагол в форме множественного числа прошедшего времени (второй вариант теста). Каждый испытуемый участвовал в обоих вариантах теста. Глаголы предъявлялись в случайном порядке. Тестируемых просили образовать форму первого лица единственного числа настоящего времени и форму третьего лица множественного числа также настоящего времени. Тестирование было оформлено в виде микро-диалога. Тест со стимулами в форме инфинитива: — Я хочу играть. А ты?.. — Я тоже хочу играть. — А сейчас ты?.. — Я играю. — А Маша и Петя?.. — Они играют. Тест со стимулами в форме прошедшего времени: — Маша и Петя вчера играли. А сейчас они?.. — Играют. — А ты?.. — Играю.
Эксперимент проводился устно, записывался одновременно и на магнитофонную ленту, и на бумагу. Полученные таким образом данные расшифровывались, а потом вносились в таблицы, как индивидуальные, то есть по одной для каждого испытуемого, так и общие, а затем подвергались статистической обработке по методу дисперсионного анализа с помощью статистической пакета SPSS6. итировать ситуацию столкновения с новым словом.