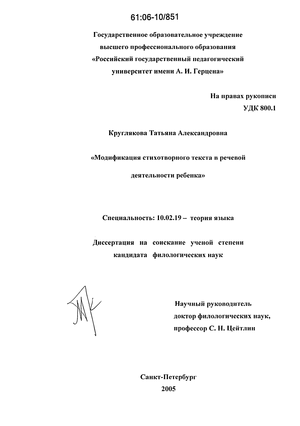Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Типы модификаций текста 19
1.1. Модели восприятия и репродуцирования текстов: к истории вопроса 20
1.2. Типы модификаций текста по виду речевой деятельности 37
1.3. Структурные типы модификаций 43
1.4. Типы модификаций по факторам регулярности и частотности 55
1.5. Помехи, вызывающие модификации текстов 59
1.6. Интенциональные и неинтенциональные модификации 72
1.7. Изменение основных характеристик текста 80
1.8. Выводы 90
Глава 2. Неинтенциональные замены на этапе восприятия 93
2.1. Причины фонетических модификаций 94
2.2. Направления фонетических замен 112
2.3. Характер фонетических изменений 129
2.4. Отражение процесса понимания в текстах с фонетическими заменами 137
2.5. Семантические замены 148
2.6. Выводы 157
Глава 3. Неинтенциональные замены на этапе думання 160
3.1. Причины синонимических и грамматических замен 161
3.2. Направление синонимических замен 166
3.3. Грамматические замены как показатель активного протекания репродуцирования 181
3.4. Отражение процесса репродуцирования в текстах считалок 194
3.5. Особенности заполнения лакун при репродуцировании 202
3.6. Выводы 213
Заключение 215
Источники материала 219
Использованная литература 227
- Модели восприятия и репродуцирования текстов: к истории вопроса
- Типы модификаций текста по виду речевой деятельности
- Причины фонетических модификаций
- Причины синонимических и грамматических замен
Введение к работе
Когда маленькие дети читают наизусть стихи или поют песни, продуцируемые ими тексты оказываются иногда довольно далеки от своих оригиналов. Ошибки возникают очень часто, и анализ их причин позволяет судить не только об уровне языкового и когнитивного развития ребенка-репродуцента, особенностях воспроизводимых текстов или благоприятности / неблагоприятности условий аудирования, но и о механизмах самого репродуктивного процесса.
На необходимость анализировать ошибки при изучении процессов речепроизводства и речевосприятия неоднократно указывалось в классической лингвистической и психологической литературе. Так, А. М. Пешковский отмечал, что ошибки «... открывают иной раз глубокие просветы в области физиологии и психологии речи» [Пешковский, 1925, с. III]. А. А. Леонтьев рассматривал речевую ошибку как «своего рода сигнал «шва» в речевом механизме, разошедшегося под влиянием тех или иных обстоятельств» [Леонтьев А., 1967, с. 58].
Л. В. Щерба, писавший о языковом материале как о совокупности результатов говорения и понимания, отмечал неразрывное единство этих аспектов речевой деятельности. Большую роль ученый отводил анализу отрицательного языкового материала - речевого высказывания с отметкой «так не говорят», уделяя большое внимание исследованию этого материала [Щерба, 1974а, с. 33]. Стихотворные тексты, модифицированные детьми, безусловно, представляют собой ценный «отрицательный языковой материал», свидетельствующий о сбоях, происходящих как на этапе говорения, так и в момент восприятия.
Результаты слушания не даны нам в опыте, и единственная возможность судить о них — исследовать другие виды деятельности, на которые аудирование оказывает непосредственное влияние. Как отмечала
Н. Е. Богуславская, наиболее полно результат слушания представлен, когда «целью ответного акта говорения является более или менее полное воспроизведение прослушанного текста» [Богуславская, 1992, с. 3]. Анализ продукта воспроизведения позволяет сделать выводы о некоторых особенностях процесса восприятия на слух речевого сообщения, его хранения в памяти и последующего отсроченного репродуцирования, о специфике восприятия стихотворного текста не только детьми, но и взрослыми слушателями.
Актуальность исследования. Развитие психологии чтения и стилистики художественного текста в первой половине XX века определило внимание ученых и писателей к проблемам индивидуального прочтения литературных произведений. С признанием роли читателя в осмыслении художественной литературы было связано появление призывов воспитать достойного читателя, высказанных на разных уровнях. Л. В. Щерба писал о необходимости воспитывать «умение внимательно читать», создавать «новые кадры писателей и читателей» [Щерба, 1957, с. 97]. С.Я.Маршак мечтал о «талантливом читателе». Такой читатель, по его словам, «перестает быть только читателем. Он становится участником всего, что пережил и перечувствовал поэт <...> Читатель должен и хочет работать. Он тоже художник - иначе мы не могли бы разговаривать с ним на языке образов и красок» [Маршак, 19716, с. 87]. Однако, как отмечается в методической литературе, «обучение критическому и вдумчивому чтению на практике сведено к минимуму» [Gomez-Villalba, Perez Gonzalez, Maldonalo Jurardo, 1996, p. 301].
Развитие навыков адекватного понимания произведений художественной литературы должно базироваться на фундаментальных исследованиях в области восприятия текста. Ю. А. Сорокин писал: «Выяснение закономерностей взаимодействия реципиента и текста дает возможность <...> функционально ориентировать тексты на определенные
социальные (профессиональные) группы реципиентов, что позволяет оптимальным образом управлять коммуникативными процессами социума» [Сорокин, 1985, с. 6].
В обширной литературе, посвященной проблемам восприятия текста, имеются некоторые данные о восприятии ребенком произведений художественной литературы. В работах А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина и их последователей с позиций психологии исследуются процессы восприятия сказок и басен [Бодрова, 1981; Запорожец, 1948; 1986; Циванюк, 1974; Эльконин, 1960]. В трудах педагогов и методистов по развитию речи описываются некоторые механизмы восприятия детьми художественных произведений [Алиева, 1991; 1996а; 19966; Гурович, Береговая, Логинова, 1992; Карпинская, 1964; Любина, 1996; Павлова, 1999; Ушакова, 1972 и др.]. В фольклористической литературе изучаются особенности языка фольклорных произведений и прослеживается их зависимость от возраста и социальной принадлежности исполнителя, условий восприятия и воспроизведения текстов [Виноградов, 1930; Дети-сказочники, 1995; Маляшенко, 1981; Мерлин, 1978; Радзиховская, Терехова, 1983; Чередникова, 2002; Элиаш, 1930].
Начало изучения детских репродуцированных текстов в рамках лингвистики были положено К. И. Чуковским, который не только собрал большую коллекцию фактов детской речи, где нашло отражение и переконструирование стихотворений и песен детьми, но и сделал некоторые выводы о характере детских вариантов известных текстов в книге «От двух до пяти» [Чуковский, 1990]. Глава, посвященная «переконструированию» стихотворных текстов, включена в учебное пособие С. Н. Цейтлин «Язык и ребенок. Лингвистика детской речи» [Цейтлин, 2000, с. 227-231]. В лингвистических исследованиях, посвященных вопросам восприятия, встречаются отдельные данные, описания экспериментов, размышления над тем, как протекает процесс восприятия стихотворных произведений
взрослыми слушателями [Белянин, 1988; Венцов, Касевич, 1994; Гвоздева, 1998; 2002; Леонтьев А., 2003; Лотман, 1970; Масленникова, 2002; Пищальникова, 1999; Сахарный, 1989 и др.] и детьми [Биева, 1984; 1986; Гарганеева, 2001; Гаспаров Б., 1996; Елина, 1978; Зотова, 1989; Мурзин, Штерн, 1991; Ушаков, 1928; Штерн, 1992; 1993 и др.]. Исследуется характер цитат и их роль в становлении коммуникативных навыков дошкольников [Гарганеева, 2004; Елисеева, 2001; Комольцева, 2000]. Имеется литература, посвященная репродуцированию детьми (главным образом, школьниками) прозаических текстов в естественных и экспериментальных условиях [Биева, 1986; Богуславская, 1992; Болховских, 1995; Гармаш, 1996; Горелов, 20036; Киркинская, 2004; Костылева, 2004; Пенягина, 1995; Погребкова, 2004; Сазонова С, 1995; Черногрудова, 2004; Щербина, 1995], в том числе детьми-билингвами [Дубинина, 2004]. Однако специального исследования, направленного на изучение восприятия и воспроизведения стихотворного текста реципиентами разных возрастов, выполненного с позиций лингвистики и психолингвистики, не предпринималось. Недостаточная теоретическая и практическая разработанность проблемы определили выбор темы исследования и обусловили ее актуальность.
Объектом исследования явились модификации, которым подверглись произведения классической русской поэзии, детские стихи и популярные песни в исполнении дошкольников.
Такой выбор продиктован тем, что исполнение стихов и пение песен представляет собой особый случай репродуцирования. При передаче прозаических текстов отсутствует естественная установка на дословное воспроизведение оригинала. Рассматривая общие вопросы восприятия, С. Л. Рубинштейн отмечал, что «практически для нас существенно именно значение предмета, потому что оно связано с его употреблением: форма обычно не имеет самодовлеющей ценности...» [Рубинштейн, 1989, с. 276]. Исследователями разработаны методики экспериментов, в ходе которых
перед испытуемыми ставится специальная задача по возможности дословно воспроизвести прослушанное, но, анализируя материал, полученный экспериментальным путем, нельзя забывать о том, что некоторые данные найдут объяснение в особых условиях эксперимента, в большей или меньшей степени далеких от условий естественного воспроизведения текстов. Читая наизусть стихи или напевая песни, в большинстве случаев люди стремятся к сохранению не только смысла, но и формы, в которую этот смысл был облечен автором, поэтому отступления от исходного текста могут быть расценены как ошибки, а не как результат намеренного пренебрежения точностью передачи авторской мысли.
Мы рассмотрели ошибки, которые допускают при репродуцировании дети. Очевидно, что ребенок, воспринимая стихи, неизбежно совершает больше ошибок, чем взрослый слушатель. «Вся литература для ребенка преждевременна, ибо вся говорит о вещах, которых он не знает и не может знать», - замечала М. И. Цветаева, анализируя собственное детское восприятие пушкинской поэзии [Цветаева М., 1984, с. 329].
Кроме того, изучение детских ошибок при репродуцировании может быть плодотворно и для выведения общих законов восприятия и запоминания, так как дети не стесняются воспроизводить тексты, которые оказались недостаточно разборчивыми или плохо сохранились в памяти. Е. Г. Биева отмечала, что «в период интенсивного развития речемыслительной деятельности, когда языковая активность предстает в неавтоматизированной форме, многие процессы, скрытые от наблюдения на более поздних этапах, оказываются экстериоризированными» [Биева, 1986, с. 31].
Хотя репродуцирование ритмически упорядоченной речи отмечено рядом особенностей (они будут рассмотрены отдельно), несомненно, что анализ модификаций, возникающих при воспроизведении стихотворений,
позволяет выявить некоторые механизмы процессов восприятия, запоминания и припоминания любых, а не только поэтических, текстов
Цель настоящего диссертационного исследования - дать объяснение причин детских модификаций стихотворных текстов посредством анализа особенностей их слухового восприятия и запоминания.
Задачи исследования.
Реализация намеченной цели исследования предполагает решение следующих задач:
1) разработать типологию модификаций на основе сравнительного
анализа исходных и производных текстов;
выяснить, какие типы модификаций возникают на различных этапах процесса репродуцирования текстов, и определить их причины;
описать особенности детского восприятия стихотворного текста и определить, какие типы восприятия свойственны детям дошкольного возраста;
исследовать основные закономерности хранения текста в памяти, подкрепить гипотезу ассоциативного строения памяти, выведенную экспериментальным путем, наблюдениями над спонтанной речевой деятельностью;
5) определить универсальные и дифференциальные элементы в
способах интерпретации детьми исходного текста, значение
индивидуальных стратегий репродуцирования.
Материал исследования.
В качестве материала для анализа использовались только те случаи модификации стихотворного текста, когда произведение исходно воспринималось ребенком со слуха. Мы предположили, что изменения, которым подвергаются тексты в процессе чтения и аудирования, не являются полностью идентичными. На существенную разницу стратегий ознакомления с литературным текстом детей, умеющих и не умеющих
читать, указывает Хуан Сервера: «Должны существовать принципиальные различия в программировании контактов с литературой ребенка трех лет, который еще не умеет читать и испытывает большие языковые затруднения, и ребенка семи-восьми лет, который читает бегло <...> [Cervera, 1995, р. 199].
Мы рассмотрели ошибки которые, допускают дети, не умеющие читать, воспринимающие исполняемые ими стихи и песни исключительно на слух. Такое ограничение необходимо, так как дневниковые записи, аудио-и видеоматериалы, посвященные детям, овладевшим грамотой, не всегда дают возможность судить о том, каким путем стихотворение было заучено ребенком, а следовательно, делать выводы об особенностях слухового или зрительного восприятия.
Кроме того, ребенок, уже научившийся читать, воспринимая стихотворение на слух, начинает размышлять над тем, что раньше не привлекало его внимания. Значительно увеличивается количество вопросов о смысле отдельных слов и выражений, уменьшается доля имитаций стихотворной речи, лишенных значения для самого исполнителя. Вероятно, некоторые особенности, характеризующие детское восприятие и передачу звучащей стихотворной речи, будут связаны не только с возрастными особенностями реципиентов, но и со спецификой канала, по которому поступает информация. Подтверждает это предположение и тот факт, что взрослые, напевающие популярные эстрадные песни, слова которых они никогда не видели напечатанными, допускают «детские» ошибки.
Нами было проанализировано 1700 модификаций стихотворных текстов из речи 36 детей. Основным источником материала послужили лонгитюдные наблюдения над речью шестерых русскоязычных детей без отклонений в речевом развитии. Автором велись выборочные дневниковые и аудиозаписи, отражающие наблюдения за речевым развитием собственных дочерей - Веры Л. и Нины Л. - в возрасте от двух с половиной до шести с
половиной лет. В течение четырех лет автор в рамках проекта Института антропологических и психолингвистических исследований Макса Планка (Неймеген, Нидерланды) проводил еженедельные видеозаписи, фиксировавшие речевое поведение трех мальчиков (Яши Л., 3; 1-6; 10; Паши А. 1; 11—4;3, Олега Б. 1;4—5;4) и одной девочки (Ани Л. 1;3-5;10). Перед нами стояла специальная задача записывать обычное поведение детей и их родителей, которые часто читали вслух книги, заучивали стихи и пели песни. В результате в нашем распоряжении оказались материалы, позволяющие судить о том, как дети читают стихи, начиная с первых совместных с взрослыми попыток и оканчивая моментом овладения грамотой, и сопоставить детские и материнские стратегии репродуцирования.
В работе использованы аудиозаписи интервью с 17 воспитанниками детского сада «Чудоград» (6 мальчиков и 11 девочек в возрасте 3-6 лет без отклонений в речевом развитии), которые читали как специально выученные, так и свои любимые стихотворения, и факты, зафиксированные в родительских дневниках и аудиозаписях, хранящихся в Фонде данных кафедры детской речи РГПУ им. А. И. Герцена и опубликованных кафедрой дневниках [Две девочки: Соня и Надя, 2001; От двух до трех, 1998]. В исследовании были использованы аудиоматериалы и дневниковые записи речи трех девочек из русскоязычных семей, без отклонений в речевом развитии Лады Н. (3-^ г.), Поли О. (3-4 г.), Лизы С. (3-4 г.), предоставленные их матерями - студентками и аспирантками РГПУ им. А.И.Герцена.
К анализу привлекались записи фольклорных стихотворных текстов -классическое собрание считалок Г. С. Виноградова [Виноградов, 1930] (517 текстов с многочисленными вариациями), материалы, собранные нами в 1996 г. в детских садах №№ 32 и 34 г. Санкт-Петербурга (50 вариантов известных текстов). Обращение к записям текстов считалок как к объекту психолингвистических исследований представляется важным. Взгляд на фольклорный текст с позиций теории восприятия речи помогает объяснить
некоторые языковые особенности считалок и по-новому осветить проблему вариативности в фольклоре. В фольклористике до последнего времени не предпринималось попыток сопоставительного изучения вариантов, отношение исполнителя к тексту и его отношения с текстом не рассматривалось в психолингвистическом аспекте.
В качестве дополнительных источников мы использовали сведения,
содержащиеся в автобиографической и мемуарной литературе [Берберова,
1999; Вересаев, 1946; Горький, 1971; Зощенко, 1994; Короленко, 1976;
Пантелеев, 1966; Толстая, 2001; Цветаева А., 1995, Цветаева М., 1984;
Чуковская 2000; Шварц, 1990], в заметках автобиографического характера
на Интернет-форумах [;
; ;
; ;
; ] и в устных
интервью-воспоминаниях (500 фактов), а также модификации
стихотворных произведений в текстах детских книг (140 фактов).
Теоретическая база исследования.
Исследуемая тема находится на стыке областей различных гуманитарных дисциплин и требует применения комплексного анализа -обращения к методам, используемым в психолингвистике, стилистике художественного текста, психологии, фольклористике.
Для выработки представлений об особенностях детского восприятия художественного текста оказались существенными положения, высказанные авторами различных теорий восприятия [Венцов, Касевич, 1994; Залевская, 1990; 2005; Зимняя, 2001; Леонтьев А. 1970; 1979а; 1997; 2003; Мурзин, Штерн, 1991; Штерн, 1992]. Наше исследование базируется на принципах и методах, разработанных в рамках психопоэтики [Леонтьев А., 2003; Пищальникова, 1999; Сорокин, 1985], стилистики декодирования [Арнольд, 1999а; 19996], лингвофольклористики [Виноградов, 1930; Никитина, 1982].
Методы исследования.
На этапе сбора эмпирических данных, как следует из обзора источников материала, были использованы следующие методики: лонгитюдное наблюдение посредством видео- и аудиозаписи, ведение выборочного дневника, структурированное интервью. Экспериментальные методики получения материала, обычно предпочитаемые в психолингвистических исследованиях, не использовались сознательно, что, по-видимому, требует отдельного обоснования.
Несмотря на то, что подготовка и проведение экспериментов с дошкольниками представляет собой чрезвычайно сложное дело, современной наукой накоплен большой экспериментальный материал в области пересказывания текстов детьми. Однако некоторые особенности этих материалов, как уже отмечалось, оказываются непосредственно связанными с условиями эксперимента: особым отношением ребенка к заданию и экспериментатору, неверно понятой задачей, действием отвлекающих факторов. Назрела необходимость проверить и дополнить экспериментальные данные лонгитюдными наблюдениями и другими фактами, полученными неэкспериментальным путем. На наш взгляд, трансформации, возникающие при исполнении наизусть стихов и песен, представляют собой бесценный материал для такой проверки.
На этапе анализа данных использовались методы аналитического описания и сопоставительного анализа. Сопоставительный анализ модификаций художественного текста и фактов ошибок в обиходной разговорной речи детей той же возрастной группы позволяет сделать выводы о специфичности или универсальности ошибок, допускаемых при воспроизведении текста, заученного наизусть. В свою очередь, сопоставление измененных версий с фрагментом исходного произведения было необходимо для того, чтобы выявить влияние специфики текста на особенности его восприятия детьми, приводящие к искажениям.
Процессы восприятия и осмысления воспринимаемого на слух текста протекают параллельно и влияют друг на друга, поэтому конечный продукт репродуцирования текста может явиться результатом равнодействующей нескольких факторов, вследствие чего некоторые случаи модификаций получают в работе двоякое осмысление.
Научная новизна исследования. Модификация стихотворного текста в речевой деятельности ребенка впервые стала объектом специального научного исследования. В работе выявлена модель репродуцирования стихотворного текста, предложены классификации его модификаций на различных основаниях.
Методической новацией является использование в
психолингвистическом исследовании не экспериментальных данных, а материалов, полученных посредством лонгитюдного наблюдения. Это обусловлено необходимостью проверить и дополнить выводы экспериментальных исследований, в ряде случаев экстраполирующих на спонтанную речь особенности, спровоцированные специфическими условиями эксперимента.
Важным также представляется и обращение к записям текстов считалок как к объекту психолингвистических исследований. Взгляд на фольклорный текст с позиций теории восприятия речи способствует объяснению некоторых языковых особенностей считалок и позволяет по-новому осветить проблему вариативности в фольклоре. При этом в фольклористике до последнего времени не предпринималось попыток сопоставительного изучения вариантов, отношение исполнителя к тексту и не рассматривалось в психолингвистическом аспекте.
На защиту выносятся следующие положения. 1. Репродуцирование стихотворного текста включает в себя этапы слухового восприятия, запоминания и собственно проговаривания.
Характер модификаций определяется тем, на каком из этих этапов они производятся и с каким видом речевой деятельности связаны.
Основной особенностью детского восприятия поэзии является длительное сохранение ориентации на семантизирующее понимание -декодирование отдельных единиц текста, не сопровождающееся формированием цельной картины смысла (Г. И. Богин). Эта особенность связана с уровнем развития когнитивных способностей ребенка, с недостаточным владением родным языком на ранних этапах онтогенеза и с таким характерным для дошкольников отношением к стихотворному тексту, при котором отступление от привычных употреблений воспринимается как норма поэтической речи.
Большое количество синонимических замен обусловлено значимостью семантических связей в структуре ментального лексикона дошкольника.
Успешность адекватного восприятия зависит от ряда внешних причин, в том числе - акустических характеристик речевого сообщения, языковых черт текста, а также от возрастных и индивидуальных особенностей реципиента.
Теоретическая значимость исследования.
В исследовании предложена система критериев, позволяющих классифицировать модификации текста по различным принципам. На материале модификаций стихотворного текста выявлен ряд общих закономерностей, определяющих слуховое восприятие независимо от типа текста и возраста реципиента. В исследовании разработана типология помех, возникающих на пути адекватного понимания поэтического текста. Работа позволила уточнить существующие представления о структуре памяти ребенка, продемонстрировав существенность семантических связей в строении ментального лексикона. Взгляд на текст с позиции исполнителя позволил рассматривать в качестве субъективного критерия цельность репродуцированных текстов.
Практическая значимость работы. Предложена и апробирована методика психолингвистического анализа данных, полученных в ходе лонгитюдных наблюдений . Результаты работы могут быть использованы в психолингвистических и онтолингвистических исследованиях, послужить основой для сравнения детских и взрослых рецептивных и репродуктивных стратегий, исследования общего и особенного в ходе чтения и аудирования.
Рекомендации об использовании результатов исследования.
Выявление особенностей текстов, оказавшихся сложными для ребенка, поможет в определении круга детского чтения: будет полезно при составлении рекомендательных списков для детского сада и начальной школы, хрестоматий и учебников. Результаты исследования могут быть также использованы при составлении индивидуально ориентированных программ занятий по чтению и развитию речи, методических рекомендаций для родителей и педагогов. Освещение специфики процессов восприятия и воспроизведения поэтических произведений может быть полезно при определении меры эффективности чтения и заучивания наизусть стихов, споры о которой ведутся в методике развития речи [Карпинская, 1964, с. 46-94; Gerardo, 1965, р. 37; Lopez Tames, 1990, p. 175].
Обобщая собственный опыт создания детских произведений и опираясь на анализ первых детских экспериментов в области стихотворства, К. И. Чуковский вывел заповеди для детских поэтов [Чуковский, 1990, с. 323-352]. Представление о том, какие стихи оказываются искаженными в устах детей, неправильно ими понятыми, может также служить ориентиром поэтам, пишущим для дошкольников.
Материалы исследования могут найти применение в курсах психолингвистики, онтолингвистики, методики развития речи. Данные результатов анализа и выводы также могут быть положены в основу лекционных курсов и учебных пособий, посвященных проблемам
восприятия литературного и фольклорного текста детьми дошкольного возраста.
Апробация исследования.
Материалы исследования были представлены на заседании постоянно действующего семинара по онтолингвистике в ноябре 2003 г., аспирантских семинарах кафедры ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном обществе» РГПУ им. А. И. Герцена в ноябре 2003 и мае 2005 г., а также в докладах на межвузовских и международных научно-практических конференциях: «Собрание считалок Г.С.Виноградова как объект психолингвистического исследования» (Тринадцатые международные Виноградовские чтения «Детский фольклор: методология собирания и изучения», Санкт-Петербург, июнь 2003); «Семантические замены в репродуцированных стихотворных текстах» (Международная , научно-практическая конференция «Герценовские чтения. Дошкольник и младший школьник в системе образования», Санкт-Петербург, апрель, 2004); «Роль ритмических структур в восприятии стихотворного текста дошкольниками» (Международная научная конференция «Детская речь как предмет лингвистического изучения», Санкт-Петербург, июнь, 2004); «Там царь Кащей с деньгами вянет...» Воспроизведение детьми дошкольного возраста вступления к поэме А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» (Всероссийская научная конференция, посвященная 80-летию С. Г. Ильенко, «Слово. Словарь. Словесность», Санкт-Петербург, ноябрь 2003); «Современные варианты пестушек и потешек и их функции в материнском дискурсе» (Межотраслевая научно-методическая конференция «Речевая деятельность в норме и патологии», Санкт-Петербург, ноябрь 1998); «Отступления от нормы в языке детских считалок» (Межвузовская конференция «Проблемы детской речи - 1996», Санкт-Петербург, май 1996); «Модификации стихотворного текста в детских книгах» (Межвузовская конференция «Детский текст. Текст о детях. Текст для детей», Санкт-Петербург, ноябрь
2001); «Фонетические замены в репродуцированных стихотворных текстах» (Межвузовская научно-практическая конференция «Текст: восприятие и порождение», Череповец, ноябрь, 2003); «Записи детского фольклора как материал психолингвистического исследования» (Межвузовская научная конференция «Речевое развитие дошкольника», Санкт-Петербург, февраль, 2005).
Результаты исследования использовались в рамках курсов «Психолингвистика детской речи», «Литературное развитие дошкольника», спецкурса «Язык детского фольклора», которые читались в 1999-2005 гг. студентам Института детства и Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена.
Структура работы.
Поставленные задачи определили общую логику исследования и, соответственно, структуру работы. Первая глава «Типы модификаций текстов» посвящена описанию групп модификаций, выявленных по критериям, описанным выше, а также содержит анализ научной литературы, посвященной проблемам репродуцирования и теории ошибок. Во второй главе «Неинтенциональные замены на этапе восприятия» подробно рассмотрены ошибки, возникающие в момент восприятия, описаны их разновидности, проанализированы обусловливающие их возникновение факторы. На основании анализа данных предпринята попытка обнаружить специфические особенности самого процесса восприятия детьми стихотворного текста. В третьей главе «Неинтенциональные замены на этапе думания» рассмотрены замены, возникающие при запоминании и извлечении текста из памяти, описаны их разновидности, произведен сравнительный анализ инноваций в спонтанной речи детей, репродуцированных стихотворных текстах и произведениях детского фольклора. Рассмотрены индивидуальные стратегии восприятия и репродуцирования текстов.
Модели восприятия и репродуцирования текстов: к истории вопроса
М. И. Цветаева вспоминала о том, как ее мать, стараясь облегчить детям первое знакомство с пушкинской поэзией, предлагала им вопросы, ответы на которые, однако, ничего не проясняли, а напротив делали стихотворение сумбурным и непонятным. Затрудняло чтение наложение на детское восприятие стихотворения иного, взрослого, типа мышления, а следовательно, и понимания. М. И. Цветаева пишет: «Когда мать не спрашивала — я отлично понимала, то есть и понимать не думала, а просто -видела» [Цветаева М, 1984, с. 329]. Ознакомление читателя, слушателя с художественным текстом протекает по-разному и приводит к различным результатам, которые могут трактоваться и участниками общения, и сторонними наблюдателями как понимание либо непонимание. В современной научной литературе существуют множественные толкования терминов и различные представления о процессах, которые стоят за этими терминами. Мы рассматривали процесс репродуцирования в рамках моделей речевосприятия и речепорождения, изложенных в работах представителей петербургской и тверской психолингвистических школ: В. Б. Касевича, А. С. Штерн, А. А. Залевской и др. Прежде чем перейти к рассмотрению собранного нами материала, обратимся к анализу теорий, которые легли в основу настоящего исследования. Репродуцирование является сложным многоуровневым процессом. A. С. Штерн писала: «Процесс повторения проходит как бы три стадии: 1) собственно восприятия (где, возможно, возникает зрительный образ); 2) удерживание в оперативной памяти предложения или обозначенной им зрительной ситуации; 3) проговаривание (где возможно частичное порождение, если в памяти удерживалась ситуация)» [Мурзин, Штерн, 1991, с. 132]. На первом этапе - этапе собственно восприятия - происходит многоаспектная обработка поступившего акустического сигнала. В психологической традиции выделяются различные ее ступени. Так, B. П. Зинченко, рассматривая сенсорную и перцептивную ступени, утверждал, что «при сенсорном кодировании происходит перевод внешних воздействий на алфавит качественно отличающихся от них внутренних состояний каналов связи (нервных процессов и состояний периферических рецепторных аппаратов и т. д.) ... , при перцептивном кодировании, или, может быть, лучше сказать, декодировании, осуществляется перевод зашифрованной в нервном коде информации на язык предметных изображений, предметных образов восприятия» [Запорожец, Венгер, Зинченко, Рузская, 1967, с. 43]. Перекодирование поступившего речевого сообщения заключается в интерпретации звучания «в терминах соответствующей языковой системы», обладающей номинативным, фонологическим, морфологическим, синтаксическим и семантическим компонентами [Венцов, Касевич, 1994, с. 53]. Реципиент сегментирует воспринятое сообщение на отдельные значимые элементы и одновременно идентифицирует полученные звуковые цепочки - сличает с элементами, содержащимися во внутреннем лексиконе. Процессы сегментации и идентификации в нормальной ситуации общения оказываются взаимосвязанными и опираются на различные характеристики речевого сообщения (просодические, фонологические, грамматические, семантические, экстралингвистические и пр.). В литературе, затрагивающей вопросы восприятия речи, неоднократно описывались эксперименты, направленные на выяснение иерархии рецептивных опор [см., например: Сазонова Т., 1999, с. 102-132; Венцов, Касевич, 1994, с. 60 и далее]. Анализируя предлагавшиеся рецептивные модели, В. Б. Касевич, Е. М. Шабельникова и В. В. Рыбин противопоставили теории восходящего и нисходящего восприятия, в зависимости от того, опора на какие уровни признавалась существенной: более низкий (перцептивный, по А. С. Штерн) [Штерн, 1992, с. 201]) или более высокий (смысловой) [Касевич, Шабельникова, Рыбин, 1990, с. 122-123]. Однако с накоплением эмпирического материала и опыта в его анализе границы между названными концепциями постепенно сглаживались. Психологи и лингвисты отмечали «синтетичность восприятия» речи на родном языке [Артемов, 1954, с. 82], его «многомерность» и «симультанность» [Зимняя, 2001, с. 315], «многоуровневость» восприятия и взаимосвязь различных уровней [Мурзин, Штерн, 1991, с. 72]. В. И. Галунов и И. И. Орлова писали о «наличии параллельной обработки речевого сообщения на всех уровнях и, главное, возможности анализа речевого сигнала не обязательно «снизу вверх», но и «сверху вниз» [Галунов, Орлова, 1982, с. 18]. А.С.Штерн отмечала, что стратегии восприятия «от части к целому и от целого к части действуют одновременно» [Мурзин, Штерн, 1991, с. 154]. И.Н.Горелов утверждал: «Рецепция речи представляет собой двухсторонний процесс, в котором параллельно и при взаимодействии осуществляется восприятие формы и восприятие содержания сообщения» [Горелов, 20036, с. 63]. Выбор стратегии восприятия зависит от многих факторов, среди них назывались уровень и характер шума, при котором происходит аудирование [Бондарко, Зиндер, 1966, с. 35—41; Фрумкина, Василевич, 1967, с. 17; Штерн, 1992, с. 27-55], характер речевого сообщения [Лущихина, 1965, с. 13-14; Штерн, 1992, с. 201], возраст слушателей [Штерн, 1992, с. 141], их подготовленность и тренированность [Касевич, Шабельникова, Рыбин, 1990, с. 204]. Чрезвычайно важным при выборе стратегии восприятия оказывается установка реципиента [Горелов, 20036, с. 50 и далее; Касевич, Шабельникова, Рыбин, 1990, с. 185]. В обычной ситуации общения любое восприятие фраз и текстов является смысловым, так как «будучи осознанием предмета, восприятие человека нормально включает акт понимания, осмысления» [Рубинштейн, 1989, с. 276]. А. Р. Лурия рассматривал осмысление как обязательную ступень рецептивного процесса, утверждая, что «процесс декодирования речевого сообщения ... распадается на две большие фазы, первая из которых связана с процессами, обеспечивающими расшифровку воспринимаемых языковых кодов, а вторая — с процессами расшифровки того глубинного смысла, который таится за воспринимаемым сообщением» [Лурия, 1998, с. 305]. В.А.Артемов также указывал на неразрывную связь восприятия и осмысления: «Мы воспринимаем речь на основе ее понимания и понимаем на основе ее восприятия» [Артемов, 1969, с. 113].
Типы модификаций текста по виду речевой деятельности
При репродуцировании текста человек осуществляет различные виды речевой деятельности - слушание, при котором происходит прием и последующая переработка информации, и говорение, в процессе которого совершается переход на речедвигательный код и выдача сообщения. Слушание и говорение различаются по направленности осуществляемого речевого действия, по характеру той роли, которую они играют в процессе общения, по способам формирования и формулирования мысли, по характеру внешней выраженности обратной связи [Зимняя, 2001, с. 68-71].
Модификации, которым подвергаются тексты в разные моменты репродуцирования, обусловлены характером протекания процессов восприятия и порождения речи и поэтому существенно отличаются друг от друга.
Рассматривая различные основания для классификации речевых ошибок, В. 3. Демьянков предлагал в первую очередь выделять ошибки понимания и ошибки продуцирования [Демьянков, 1989, с. 22]. С. Н. Цейтлин, классифицируя ошибки школьников по виду речевой деятельности, с которой они связаны, различала ошибки говорения и понимания и подчеркивала, что «говорение» следует рассматривать широко «применительно не только к устной, но и к письменной форме речи» [Цейтлин, 1997, с. 22].
Д. С. Лихачев на примере ошибок писцов предлагал более детальную классификацию, опирающуюся как на ведущий тип речевой деятельности, так и на момент, в который допускается описка. Анализируя изменения, которым подвергались древнерусские тексты при переписке, ученый рассматривал ошибки прочтения, запоминания, внутреннего диктанта и письма [Лихачев, 1983, с. 65]. Сходная классификация ошибок наборщиков была предложена Б. В. Томашевским, выделившим ошибки чтения, запоминания и продукции (нажатие клавиш машины) [Томашевский, 1959, с. 33].
И. А. Зимняя предлагала рассматривать «думание» как один из видов речевой деятельности. Этап думания, по мысли исследовательницы, предполагает «внутренний способ формирования и формулирования мысли», включается в чтение и слушание и предшествует говорению и письму [Зимняя, 2001, с. 70]. И. А. Зимняя строит свою концепцию, опираясь на теорию Н. И. Жинкина, согласно которой «понимание — это перевод с натурального языка на внутренний. Обратный перевод — высказывание» [Жинкин, 1998, с. 161]. В процессе кодовых переходов (с внешнего, речевого кода на внутренний, предметно-изобразительный в процессе слушания и с внутреннего кода на внешний на этапе, предшествующем говорению) действуют особые механизмы, не имеющие общего с механизмами аудирования, соответственно ошибки, допущенные во время «думания» и в момент восприятия, также будут носить разный характер.
Отличие «ошибок мышления» от ошибок восприятия отмечала также 3. И. Клычникова, исследуя особенности восприятия иноязычных текстов в процессе чтения [Клычникова, 1971, с. 85]. Рассматривая модификации, которым подвергаются тексты при устном воспроизведении, можно выделить четыре группы ошибок: 1) ошибки восприятия — модификации, произошедшие в момент слушания: ослышки (Нина Л. (5;8): «Зазеленел уэ/с темный лес, Христос воинственно воскрес (ср. воистину) воскрес». Нина не слышала раньше наречия воистину, существительное истина известно девочке, но его значение не вполне понятно. Фонетическое сходство с известным словом влечет за собой его модификацию) и ошибки в понимании многозначных и омонимичных слов и словоформ (Лада Н. (3;4), процитировав строки из «Конька-горбунка» П. Ершова «А последний молоком, вскипятя его ключом», спросила, как ключами можно кипятить. Устаревшее значение оборота вскипятить ключом незнакомо Ладе, что приводит к неверному истолкованию стихотворного фрагмента); 2) ошибки запоминания — модификации, которым подвергся текст в момент запоминания, обусловленные процессами свертывания информации в памяти. Студенты Института детства В. К. и Г. Н. на семинарах курса «Ребенок и книга» спорили о том, как нужно читать «Робина-Бобина» в переводе К. И. Чуковского: «И корову, и быка, и хромого мясника» или «и больного мясника» (ср. у Чуковского и кривого мясника). Будучи детьми, они прослушали стихотворение и, возможно, получили необходимые пояснения взрослых о значении неизвестного слова, запомнив, что определение к мясник говорит о его болезни и неполноценности. Каждый раз при чтении текста слово воспроизводилось ими неверно, в результате создалась иллюзия, что названные прилагательные действительно встречались в стихотворении; 3) ошибки припоминания — модификации, произошедшие в момент припоминания. Олег Б. (2; 10) читает «Мячик» А. Л. Барто: «Мяч в речку бух. Таня наша сломана». Мальчик запомнил общее содержание стихотворения и, воспроизводя его, заменяет исходные слова лексемами, которые он в данный период использует в своей речи {уронила, упало - бух; плачет, нарушение гармонии — сломана). Таким образом стихотворение звучит в устах Али только один раз, в другое время наблюдаются сходные, но не тождественные изменения. Вера Л. в возрасте 5-6 лет по-разному воспроизводила строки из стихотворения С. Маршака: «У маленькой Мэри большая потеря пропал ее правый башмак», «у девочки Мэри...», «...пропал ее левый башмак». В памяти Веры хранится информация о том, что Мэри была ребенком и потеряла башмак с одной ноги (для развития сюжета, кстати, совершенно неважно, с какой именно). Рассказывая стихотворение, девочка каждый раз заново кодирует смысл.
Причины фонетических модификаций
Как отмечалось выше, затрудненные условия аудирования, некоторые языковые особенности текстов, индивидуальные способности слушателя могут послужить помехой на пути адекватного восприятия стихотворения и вызвать его модификации при репродуцировании. Однако основополагающая причина изменений заложена в специфике самого процесса слухового восприятия.
Неоднократно отмечалось, что в процессе аудирования человек лишь в малой степени ориентируется на фонетический состав воспринимаемого сообщения. На основании результатов многочисленных опытов Л. В. Бондарко утверждает: «И характеристики языкового материала, с которыми имеет дело носитель языка, и его собственная речевая деятельность при производстве и восприятии сообщения не подтверждают традиционного представления о первостепенной важности смыслоразличительной функции фонем» [Бондарко, Вольская, Кузнецов и др., 2000, с. 11]. Настаивая на «презумпции осмысленности» и первостепенной важности просодических характеристик при восприятии, В. Б. Касевич считает, что «человек переходит к собственно фонетическому анализу только при недостатке просодических средств. Это заключительный, причем нередко необязательный этап» [Касевич, Шабельникова, Рыбин, 1990, с. 127].
Исследуя восприятие отдельных слогов, слов, предложений в белом шуме, И. А. Лущихина отметила, что «давление каждого вышележащего слоя оказывается сильнее, чем давление нижних слоев» [Лущихина, 1965, с. 17]. А. С.Штерн также отмечала, что «по мере повышения уровня воспринимаемого отрезка [звук, слог, слово, предложение, текст] значимость более низких уровней снижается» [Штерн, 1992, с. 201].
С позиций другого научного направления к сходным выводам приходит Б. М. Гаспаров: «... носитель языка не спутает одно слово с другим только потому, что дифференциальный признак , по которому эти слова якобы соотносятся между собой, оказался неправильно или недостаточно четко выражен в речи. Путаница и непонимание возникают лишь тогда, когда субъект языковой деятельности почему-либо неправильно прочитал всю ситуацию в целом, в силу чего его мысль, направленная на распознание звукового образа выражения, пошла по неправильному пути» [Гаспаров Б., 1996, с. 77]. Анализируя функционирование омонимов и членов фонологических минимальных пар (дом - том), исследователь пишет: «Ему [реципиенту] не приходится сверять воспринятый звуковой образ слова с оппозицией по глухости - звонкости. Его мысль движется по различным каналам, проецирует совершенно различные ситуации, включает эти ситуации в различные потенциальные сюжетные ходы, жанровые тональности, поля ассоциаций и аллюзий» [там же, с. 76].
Поэтому даже воспринимая отдельные звуки, человек идентифицирует их не только на основании полного совпадения с перцептивным эталоном, но и ориентируясь на приблизительное сходство. Звуки, находящиеся на нижнем пороге сходства, могут быть идентифицированы как принадлежащие или не принадлежащие данному эталону в зависимости от условий, в которых происходит восприятие [Джапаридзе, 1985, с. 35]. Эксперименты З.Н.Джапаридзе, А.С.Штерн, И. А. Зимней, построенные на аудировании отдельных вырезанных и синтезированных звуков, доказали, что эталоны представляют собой «вероятностно организованные поля спектральных характеристик» [Джапаридзе, 1985, с. 48-64; Зимняя, 2001, с. 344-349; Штерн, 1992, с. 27-36].
Исследуя состав фонем русского языка и его отражение в речевой деятельности, Л. В. Бондарко пришла к выводу, что носители русского языка способны различать большее количество изолированных гласных и согласных фонем, чем есть в русской системе фонем, но эта способность является скорее «потенциальной» [Бондарко, Вольская, Кузнецов и др., 2000, с. 11]. Слушая текст, ребенок часто воспринимает в качестве аллофонов родного языка звуки, лишь отчасти с ними совпадающие. Один из участников Интернет-форума «Детские заблуждения» пишет о восприятии строки из песни к кинофильму «Три мушкетера» «Pourquoi pas? Pourquoi pas? Почему бы нет»: «Несмотря на приличное (особенно в те времена) знание французского, никак не могла разобрать эту строчку. И, ведь пока не увидела где-то напечатанные слова, так и не разобрала, что это pourquoi pas, хотя ведь могла догадаться — там же потом то же самое и по-русски пропевали» [http://upapashi.narod.ru/notions.htm].
И. А. Бодуэн де Куртенэ так объяснял случай, когда вместо французского ami послышалось русское они: «Французское слово было произнесено в русской общественно-языковой среде, уже по одному этому настроенной так сказать на русский лад, предрасположенный воспринимать все слышанное под углом русского, нежели французского языка» [Бодуэн де Куртенэ, 19636, т. 2, с. 47]. Показательно, что маленькие дети практически никогда не стремятся осознать фонемные цепочки, не поддавшиеся идентификации, как слова чужого языка. Такая стратегия характеризует именно детское восприятие: взрослые образованные слушатели склонны считать иноязычными неизвестные или неверно воспринятые слова. Так, М. Л. 34 г., не владеющий французским языком, слушая песню на слова М. Фрейдкина, полагал, что в ней использовано французское слово: «Но когда мы входим в раж: энасуалс (ср. Но когда мы входим в раж, ты нас уважь)».
Ребенок может воспринять как фонемы родного языка неречевые звуки и отрывки или даже целые тексты на неродном языке. Поля О. (3;6) в песенке из мультфильма «По следам бременских музыкантов» «слышала» разборчивые слова «Есть пора, пора, пора, пора {[ajap-pap-pa])». Стремление к смысловому восприятию делало нерелевантными признаки губной/язычный, взрывной/дрожащий. Варя К. (6;2) просит маму спеть песню «Беса не мучай (ср. Besame mucho (испанский) [besamemucho]). Испанский круглощелевой переднеязычный альвеолярный [s] воспринимается как русский круглощелевой переднеязычный зубной, твердые согласные перед [е] воспринимаются как русские мягкие.
Причины синонимических и грамматических замен
Если текст исполняется ребенком после долгого перерыва, наряду с ожидаемой редукцией возникают и другие типы модификаций: расширение, редупликация, метатеза, а также появляется значительное количество синонимических и грамматических замен. Например, Нина Л. (4;9) вспоминает песенку, которую часто слушала полгода назад. Текст, относительно сохранный при первых Нининых исполнениях, сильно видоизменяется: «Если вы не очень боитесь Кащея (редукция) и бабы-яги (грамматическая замена) , приходите к нам в гости поскорее (метатеза), и где зеленый дуб на берегу. И золотая цепь на дубе том (расширение). Там и бродит (синонимическая замена) черный котище, пречерный (фонетическая замена), пьет он молочко и не ловит мышов (грамматические замены). Там и бродит черный котище, пречерный (редупликация), а на цепи сидит Горыныч-змей (ср. Если вы не очень боитесь Кащея или Бармалея и бабу-ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый. Пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч-змей)». Подобные отсроченные изменения в структуре текста свидетельствуют о том, что стихотворение не хранится в памяти ребенка в первоначальном виде и подвергается специфической переработке как при запоминании, так и при извлечении из памяти.
Гипотеза об обязательном перекодировании информации в процессе запоминания и припоминания была неоднократно доказана в ходе многочисленных экспериментов, предпринятых отечественными и западными психологами и психолингвистами. Так, П. Линдсей и Д. Норман провели эксперименты, позволившие утверждать, что «в запоминающей системе записывается не материал нашего опыта, а смысл этого материала» [Линдсей, Норман, 1974, с. 414]. Д. Слобин, обобщая огромный эмпирический материал, собранный американскими и европейскими лингвистами, приходит к выводу, что «мы каким-то образом быстро «схватываем» значение и забываем синтаксис». На основании анализа данных экспериментов Ж. Закс исследователь утверждает, что «исходное предложение, которое воспринимается, быстро забывается, а в памяти хранится, следовательно, та информация, которая заключена в этом предложении» [Слобин, 1984, с. 70-72]. Дж. Миллер, размышляя о пределах способности перерабатывать сообщения, утверждал, что для увеличения количества информации, которую возможно запомнить, человек пользуется различными системами вербального перекодирования [Миллер, 1964, с. 220-222]. Обязательность переходов с внешнего речедвигательного кода на внутренний предметно-изобразительный в процессе мышления была убедительно доказана в ходе экспериментов Н. И. Жинкина [Жинкин, 1998, с. 158-159].
Система вербального перекодирования способствует увеличению объема информации, которая может храниться в оперативной памяти, а следовательно - облегчает процесс смыслового восприятия. Кроме того, она также является средством осмысления, запоминания и хранения в памяти воспринимаемой информации. A. P. Лурия отмечал, что перекодирование информации неизбежно имеет место даже в тех случаях, когда мы сталкиваемся с необходимостью запомнить бессмысленный материал: «С помощью вспомогательных смысловых связей человек резко расширяет объем запоминаемого материала и намного удлиняет время, в течение которого следы сохраняются в памяти» [Лурия, 1970, с. 99]. Изучая память выдающегося мнемониста Ш., А. Р. Лурия пришел к выводу, что в основе его работы по запоминанию рядов цифр, слов, звуков «лежала «семантизация» звуковых образов; дополнительным приемом оставалось использование синестезических комплексов...» [Лурия, 1996, с. 32].
В ходе перекодирования происходит образование более крупных блоков, «сгущение» информации. Человек в дальнейшем может сохранять в памяти не отдельные слова и даже не их значения, а смыслы, которые он извлекает из более крупных фрагментов текста, - абстрактные единицы или картинки-образы. Прибегая к обратному перекодированию, репродуцент частично заново порождает высказывание, облекая словами имеющийся у него внутренний образ. Анализируя богатую психологическую и лингвистическую литературу по проблеме, И. Н. Горелов писал, что «мышление осуществляется в коде речедвижений, но имеет свой собственный механизм - универсально-предметный код (УПК). Этот код представлен в коре головного мозга не эквивалентами «внешнего» языка, которые ведают речедвижениями, а нейронными образованиями и связями, которые позволяют соотнести эквиваленты языковых знаков с физиологическими субстратами представлений, образов и механизмами 1-й сигнальной системы, ведающими нашими ощущениями, работой органов чувств» [Горелов, 2003а, с. 210].