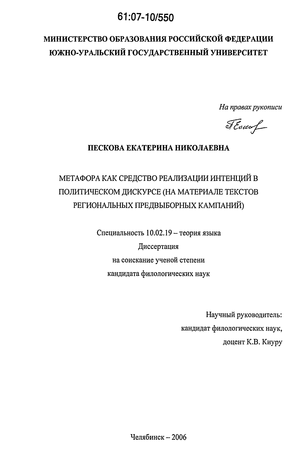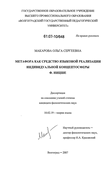Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Метафора в политическом дискурсе 10
1.1. Дискурс: подходы к определению понятия 10
1.2. Специфика политического дискурса 24
1.2.1. Понятия «язык», «речь» и «текст» в политической коммуникации 24
1.2.2. Политический дискурс: подходы к определению понятия 30
1.3. Функции метафоры в политическом языке 39
1.3.1. Подходы к определению понятия «метафора» 39
1.3.2. Специфика политической метафоры 46
1.3.3. Концептуальная, конвенциональная и неконвенциональная метафоры в политическом дискурсе 49
Глава II. Метафора как средство реализации интенций в текстах предвыборных кампаний 61
2.1. Определение интенции. Методика ее выявления в тексте 61
2.2. Виды интенций, встречающиеся в политическом дискурсе 73
2.3. Метафора как средство обозначения интенций в политическом дискурсе 78
2.4. Опыт интент-анализа политических метафор в текстах региональных предвыборных кампаний 83
Заключение 136
Список использованной литературы 140
Приложение 1 159
Приложение 2 160
Приложение 3 161
Приложение 4 163
Приложение 5 165
Приложение 6 167
- Дискурс: подходы к определению понятия
- Специфика политического дискурса
- Определение интенции. Методика ее выявления в тексте
- Виды интенций, встречающиеся в политическом дискурсе
Введение к работе
Метафора привлекала внимание ученых еще в античности, но настоящая история ее научного исследования началась в XX веке, когда она стала объектом изучения различных дисциплин (философии, психологии, логики, лингвистики и др.).
Данная работа посвящена исследованию метафор, которые помогают в политическом дискурсе создать необходимый образ восприятия действительности электоратом, то есть обозначить намерение политика или политической партии. Работа выполнена в русле изучения политической лингвистики.
В последнее время в мире стремительно растет интерес к изучению
языка политики со стороны представителей разных научных дисциплин -
лингвистов, социологов, психологов, исследователей массовой
коммуникации. Многие термины, используемые в лингвистике речи,
прагмалингвистике, психолингвистике, социолингвистике и
лингвокультурологии, трактуются неоднозначно. К их числу относится такое понятие, как «дискурс». Изучению дискурса в общем и политического дискурса в частности посвящено множество исследований. В данной работе определяются основные посылки, объединяющие все точки зрения в области изучения дискурса и политического дискурса, а также при анализе политического дискурса рассматриваются функции метафоры, реализующей авторские намерения. Бурное развитие информационных технологий позволяет людям быстро узнавать о том, что происходит в других городах и странах. В этих условиях все более возрастает роль языка, используемого в политике.
Актуальность работы обусловлена ситуацией политической и экономической нестабильности, отсутствием взаимопонимания между правительством и народом, что является важным фактором неуравновешенности общества. Отсюда желание политиков скрыть некоторые свои мысли, избежать контроля, уйти от конфликта и т.д., но при
этом оказать нужное для политического актора воздействие на адресата. Эффективным средством реализации данного намерения является метафора, эксплицирующая интенциональные состояния (ментальные состояния, связанные с обращенностью сознания вовне, а не на самого себя), которые служат условием искренности речевого акта. Адресант не только отвечает за содержание своего намерения, но обеспечивает явность, ясность данного намерения, то есть политический актор не осуществит акт общения, если адресат не сможет уловить его намерения. Для эффективности управления общественным мнением необходимо знать структуру и механизмы организации общества как социального организма, действующего в границах определенных социальных отношений, особенности организации процесса общения. Ключевой вопрос для современного общества - его стабильность, которая обусловлена процессом регулирования отношений между властью и обществом. Теоретическое изучение метафоры как средства реализации интенций в политическом дискурсе позволит наглядно представить механизм распознавания адресатом интенций говорящего / пишущего. В работах Н.Д. Арутюновой, А.Н. Баранова, Ю.Н. Караулова, Дж. Лакоффа и М. Джонсона рассматриваются отдельные виды метафоры и их функции; исследования Дж. Серля, П. Стросона, Т.Н. Ушаковой, В.А. Цепцова, К.И. Алексеева посвящены изучению интенции, ее видов и способов реализации в политических текстах, но в отечественной и зарубежной лингвистике осталась нерешенной проблема реализации совокупности интенций в политическом дискурсе с помощью разных видов метафор. Данное исследование имеет важное значение для развития теории языка в связи с необходимостью перехода от изучения разрозненных языковых фактов к комплексному их анализу.
Цель исследования: определить основные виды интенций, реализуемых в текстах предвыборных кампаний с помощью концептуальных, конвенциональных и неконвенциональных метафор.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
определить теоретическую базу исследований политического дискурса, концептуальной метафоры, конвенциональной и неконвенциональной метафоры, интенции и их взаимосвязь;
предложить методику исследования интенций с помощью метафоры;
собрать и систематизировать материал, включающий концептуальные, конвенциональные и неконвенциональные метафоры, обозначающие совокупность интенций в текстах предвыборных кампаний;
классифицировать и описать интенционные группы концептуальных, конвенциональных и неконвенциональных метафор в текстах предвыборных кампаний как совокупность интенций, объединенных с целью охвата более широкого спектра намерений, воздействующих на адресата, побуждающих его к действиям, необходимым для адресанта, с помощью одной метафоры;
обозначить роль концептуальной, конвенциональной и неконвенциональной метафоры как средства реализации интенций в текстах предвыборных кампаний.
Объектом исследования в данной диссертации стало употребление концептуальных, конвенциональных и неконвенциональных метафор в текстах предвыборных кампаний.
Предмет исследования - интенции, реализуемые в текстах предвыборных кампаний посредством упомянутых выше видов метафор.
В качестве материала для исследования использовались информационные и аналитические печатные тексты предвыборных кампаний за 2003 и 2005 годы, так как именно в данный период в нашем регионе особенно активно политики и политические партии стремились оказать воздействие на электорат в преддверии выборов в Законодательное Собрание, городскую Думу и выборов мэра города Челябинск. Такими материалами послужили тексты массовых периодических печатных
изданий («Соседи», «Ва-банкъ», «Итоги 74»), периодические издания отдельных политиков и политических партий («Старая гвардия», «Родина», «Калининский округ», «За нашу победу», «Единая Россия» и др.), листовок, программ, брошюр, буклетов и другой полиграфической продукции политиков (М. Юревича, В. Тарасова, А. Берестова, О. Голикова и др.), а также политических партий («Единая Россия», «Родина», ЛДПР, НПРФ, СПС и мн. др.). Всего было проанализировано 313 единиц в 2259 употреблениях.
Методология настоящего исследования сложилась под воздействием теории метафорического моделирования, то есть исследований таких ученых, как Дж. Лакофф, М. Джонсон, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, А.П. Чудинов и др., с учетом достижений в области исследований интент-анализа, то есть работ Дж. Серля, Дж. Остина, Т.Н. Ушаковой, Н.Д. Павловой, В.А. Цепцова, К.И. Алексеева и др.
В данном исследовании использовались как общенаучные (классификация, описание, моделирование), так и частнонаучные (когнитивный анализ, дискурс-анализ, концепт-анализ, контекстуальный анализ, интент-анализ) методы.
Эмпирической базой данного исследования являются работы, отражающие достижения отечественного и зарубежного языкознания в области изучения:
дискурса вообще и политического дискурса в частности (Т.А. ван Дейк, Л. Дж. Филипс, М. В. Йоргенсен, Д.Б. Гудков, Е.И. Шейгал, Э. Лассан, В.И. Карасик, Е.Г. Борисова и др.);
когнитивной лингвистики (Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Е.С. Кубрякова, А.А. Кибрик, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Л. Фестингер, Т.А. ван Дейк и др.);
концептуальной метафоры (А.П. Чудинов, Дж. Лакофф, М. Джонсон, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, З.И. Резанова и др.)
конвенциональной и неконвенциональной метафоры
(Н.Д. Арутюнова, И.Г. Морозова, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, Е. Бейтс и
др.);
интенций и интент-анализа (Т.Н. Ушакова, Дж. Серль, П.Ф. Стросон, Дж. Остин, Ж. Гийом, Д. Вандервекен, В.А. Цепцов, К.И. Алексеев, А.И. Власов и др.);
языка средств массовой коммуникации (В.З. Демьянков, И.М. Кобозева, Е.С. Кубрякова, В.Г. Костомаров, В.И. Кравченко, Ю.К. Пирогова и др.);
политических технологий (Т.Э. Гринберг, Г.В. Пушкарева, А.Л. Стризое, Л.Н. Федотова, С.А. Шомова и др.).
Гипотеза: так как метафора в политике - это форма мышления, то она является основным языковым средством реализации, обозначения интенций в текстах предвыборных кампаний. В текстах подобного рода автор намеренно скрывает интенцию и стремится донести ее до адресата, не теряя при этом смысла высказывания.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования:
1. В настоящем исследовании впервые описывается процесс
реализации интенций в текстах предвыборных кампаний с помощью разных
видов метафоры.
2. В работе определяется и исследуется не одна какая-либо интенция,
реализуемая метафорой, а интенционная группа (2 единицы). В настоящем
исследовании количество интенций в группе ограничено двумя единицами
с учетом правила схоластики: различение первой и второй интенции, где
первая есть понятие, первоначально сформированное умом, а вторая
формируется через изучение и сравнение первых интенций, таким образом,
в интенционной группе первая интенция - основная, главная, а вторая -
дополнительная, второстепенная, помогающая оказать более точное
воздействие на адресата.
3. По-новому рассматриваются закономерности комбинирования
стабильно различающихся (имеющих четкую грань, однозначную
идентификацию, например, анализ (+), анализ (-), критика и др.) и нестабильно различающихся интенций (имеющих «размытые» границы, их идентификация вызывает затруднение, например, обвинение и разоблачение, самопрезентация и успокоение аудитории и др.), а также интенций, относящихся к разным группам (одна - к стабильно различающимся, а другая - к нестабильно различающимся).
4. В работе впервые рассматривается метафора как средство реализации интенционнои группы на материале текстов региональных предвыборных кампаний, что может быть полезно для теории коммуникации при определении специфики политических агитационных кампаний именно в пределах конкретного региона.
Положения, выносимые на защиту:
1. Специфика текстов предвыборных кампаний влечет за собой
употребление групп интенций, носящих негативный, конфликтный
характер.
Наиболее распространенными в текстах предвыборных кампаний являются группы стабильно различающихся интенций.
Концептуальные метафоры в текстах предвыборных кампаний для реализации интенций употребляются чаще, нежели конвенциональные и неконвенциональные.
4. Некоторые интенционные группы концептуальных,
конвенциональных и неконвенциональных метафор совпадают.
Практическая значимость исследования заключается в разработке методики выявления групп интенций в политическом дискурсе с помощью разных видов метафоры. Группы интенций, выделяемые и описываемые нами при анализе материала картотеки могут быть учтены политическими акторами в их практических действиях. Теоретические и практические материалы исследования могут быть применены в практике преподавания в таких областях, как теория языка, психолингвистика, социолингвистика, массовая коммуникация, политология, журналистика. Материалы
исследования можно применить при разработке курсов «Психолингвистика», «Социолингвистика», «Лингвокультурология», «Стилистика и литературное редактирование», «Стилистика текстов массовой коммуникации», «Практическая стилистика рекламного текста».
Апробация результатов исследования: основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры массовой коммуникации Южно-Уральского государственного университета; на международной конференции «Научное наследие Б.Н. Головина и актуальные проблемы современной лингвистики» (Нижний Новгород, 2006); на межвузовских научно-практических конференциях: «Языковая и межкультурная коммуникация» (Санкт-Петербург, 2006) и «Тенденции развития связей с общественностью и рекламы на Урале» (Челябинск, 2006); на всероссийской научной конференции «Человек в информационном пространстве» (Ярославль, 2005); на всероссийском конгрессе «Связи с общественностью и реклама: теория и практика» (Челябинск, 2006), а также отражены в 8 публикациях, в том числе в монографии «Публичная коммуникация: дискурсивные практики и коды» (Глава «Дискурс-исследования в современной научной парадигме»).
Дискурс: подходы к определению понятия
Термин «дискурс» (фр. discours движение, круговорот ; беседа, разговор ) впервые был использован в 50-е годы XX века Э. Бенвенистом в значении «речь, присваиваемая говорящим». В 1952 году 3. Харрис выразил мнение, что дискурс - это «язык выше уровня предложения».
Первоначальная многозначность термина предопределила и дальнейшее расширение его семантики. В 60-е годы М. Фуко, развивая идеи Э. Бенвениста, предлагает свое видение целей и задач дискурсивного анализа. По мнению М. Фуко и его последователей, приоритетным является установление позиции говорящего, но не по отношению к порождаемому высказыванию, а по отношению к другим взаимозаменяемым субъектам высказывания и выражаемой ими идеологии в широком смысле этого слова.
Для французской школы, таким образом, дискурс - прежде всего определенный тип высказывания, присущий определенной социально-политической группе или эпохе (например, коммунистический дискурс).
Концепция М. Фуко, объединившая лингвистику с историческим материализмом, несмотря на очевидную близость методологии, не нашла отклика в советской науке о языке; понимание дискурса 3. Харрисом тоже не стало популярным. Постсоветское языкознание актуализировало термин одновременно во всей его многозначности, что поставило современных исследователей перед необходимостью уточнения и разграничения значений.
«Лингвистический энциклопедический словарь» дает определение дискурса, рассматривая это явление с трех сторон: 1) «связный текст в совокупности с экстралингвистическими - прагматическими, социокультурными, психологическими и др. - факторами»; 2) «речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)»; 3) «речь, погруженная в жизнь» (это определение, несмотря на простоту, по мнению многих исследователей, отражает наиболее полно и четко суть понятия «дискурс») [Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 136-137].
Дискурс - объект междисциплинарного изучения. Его исследованием занимаются следующие науки и направления: теоретическая и прикладная лингвистика, психология, философия, логика, социология, антропология, этнология, литературоведение, семиотика, юриспруденция, педагогика, политология и др. В рамках каждого подхода дискурс рассматривается по-своему, но многоаспектное изучение данного явления оказало существенное влияние на лингвистический подход, который лежит в основе данной работы.
Термин «дискурс» в современной лингвистике близок по смыслу понятию «текст», но подчеркивает динамический, разворачивающийся во времени характер языкового общения; в противоположность этому, текст мыслится преимущественно как статический объект, результат языковой деятельности. Иногда «дискурс» понимается как включающий одновременно два компонента: и динамический процесс языковой деятельности, вписанной в ее социальный контекст, и ее результат (то есть текст); именно такое понимание является предпочтительным.
Традиционно выделяются три основных класса употребления термина «дискурс», которые рассматривает в своей работе А.А. Кибрик:
К первому классу относятся собственно лингвистические употребления данного понятия. Первым в этой области был американский лингвист 3. Харрис. Также с этим классом связаны следующие имена: Ф. де Соссюр, Э. Бенвенист и др. Они считали, что в классическом противопоставлении языка и речи должно быть нечто третье, третий компонент, подчеркивающий динамичную сторону текста.
Второй класс связан с именами структуралистов и постструктуралистов (М. Фуко, А. Греймас, М. Пешё и др.). Термин «дискурс» внутри этого класса рассматривается в публицистическом употреблении. В центре такого употребления лежат понятия «стиль» и «индивидуальный язык». В данном случае исследователей интересует дискурс со следующими параметрами: языковые отличительные черты, стилистическая специфика, специфика тематики, системы убеждений, способы рассуждения, воздействия и т.д.
Третье употребление термина «дискурс» связано с именем немецкого философа и социолога Ю. Хабермаса. Дискурс представителями третьего класса рассматривается как «особый идеальный вид коммуникации, осуществляемый в максимально возможном отстранении от социальной реальности, традиций, авторитета, коммуникативной рутины и т.п. и имеющий целью критическое обсуждение и основание взглядов и действий участников коммуникации» [Кибрик 1994:129].
Данные классы нельзя рассматривать без взаимодействия друг с другом, так как основа у них одна: дискурс - это вид коммуникации, способствующий познанию и формированию определенного мировоззрения, то есть это и деятельность, и ее результат.
В современной лингвистике дискурс трактуется неоднозначно. Можно выделить несколько подходов к пониманию сущности дискурса:
1) коммуникативный подход: дискурс как вербальное общение (речь, употребление, функционирование языка), либо как диалог, либо как беседа, то есть тип диалогического высказывания, либо как речь с позиций говорящего в противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции, либо как единство регулярно-коллективного и творчески-индивидуального начал речи (Э. Бенвенист, П. Серио и др.);
2) структурно-синтаксический подход: дискурс как фрагмент текста, то есть образование выше уровня предложения (сверхфразовое единство, сложное синтаксическое целое, абзац, кортеж реплик в диалоге) либо как развернутый смысл текста в сознании получателя информации речи (В.А. Звегинцев, В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова и др.);
3) структурно-стилистический подход: дискурс как нетекстовая организация разговорной речи, характеризующаяся нечетким делением на части, господством ассоциативных связей, спонтанностью и высокой конкретностью (О.Б. Сиротинина и др.);
4) социально-прагматический подход: дискурс как текст, погруженный в ситуацию общения, «в жизнь», либо как социально или идеологически ограниченный тип высказываний, например, феминистский дискурс, либо как особый «язык в языке», выражающий особую ментальность и имеющий свои тексты (Н.Д. Арутюнова, П. Серио и др.) [цит. по Киуру 20056:3].
Специфика политического дискурса
Вопрос о существовании политического языка как особой знаковой подсистемы в составе национального языка является дискуссионным.
Язык в традиционном его значении - это 1) система фонетических, лексических и грамматических средств, являющаяся орудием выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и служащая важнейшим средством общения людей. Будучи неразрывно связан в своем возникновении и развитии с данным человеческим коллективом, язык представляет собой явление социальное. Язык образует органическое единство с мышлением, так как одно без другого не существует; 2) разновидность речи, характеризующаяся теми или иными стилистическими признаками (книжный язык, поэтический язык, газетный язык и др.) [Розенталь, Теленкова 2001: 620-621].
А.Н. Баранов и Е.Г. Казакевич считают, что «политический язык - это особая знаковая система, предназначенная именно для политической коммуникации» [Баранов, Казакевич 1991: 6]. Противоположное мнение высказывает П.Б. Паршин: «Совершенно очевидно, что чисто языковые черты своеобразия политического дискурса немногочисленны и не столь просто поддаются идентификации. То, что обычно имеется в виду под языком политики, в норме не выходит за рамки грамматических, да, в общем-то, и лексических норм соответствующих национальных языков -русского, английского, немецкого, арабского и т.д.» [цит. по Баранов, Казакевич 1991: 6].
Исследования П. Серио, В.Н. Шапошникова и др. [Серио 1999, Шапошников 1998] свидетельствуют, что даже при самом тщательном рассмотрении политических текстов в них невозможно обнаружить какие-либо фонетические, морфологические и синтаксические явления, отсутствующие в других подсистемах национального языка. Абсолютное большинство специфических явлений в политическом тексте относится к лексико-фразеологическому уровню. На этом основании подвергается сомнениям даже само использование термина «язык» по отношению к предмету нашего изучения. И действительно, кажется вполне обоснованным вопрос: можно ли называть языком одну из лексико-фразеологических подсистем современного литературного языка.
В разговорной, научной или официально-деловой речи специфических признаков не меньше, чем в политической речи, поэтому термин «политический язык» имеет не меньше прав на существование, чем по-прежнему используемые лингвистами термины «официально-деловой язык», «разговорный язык» или «научный язык». Политический язык, таким образом - это, конечно, не особый национальный язык, а ориентированный на сферу политики вариант национального языка.
Язык является не только средством передачи информации, но и средством для обозначения чувств, социальных и индивидуальных оценок, субъектного отношения к информации, к восприятию мира, то есть в процессе речепроизводства субъект стремится воздействовать на собеседника, вызвать определенные эмоции.
Чтобы избежать нестрогого употребления термина «язык», многие специалисты предпочитают говорить о специфике «научной речи» или «официально-деловой речи»; соответственно при исследованиях политических текстов часто рассуждают лишь об особенностях политического дискурса или политической коммуникации.
По мнению Е.И. Шейгал, семиотическое пространство политического дискурса включает три типа знаков: специализированные вербальные (политические термины, антропонимы и др.), специализированные невербальные (политические символы) и неспециализированные, которые изначально не были ориентированы на данную сферу общения, но вследствие устойчивого функционирования в ней приобрели содержательную специфику (например, метафоры). Особенность языка политики в настоящее время состоит в том, что средой его существования является массовая информация, и в силу ориентации политического общения на массового адресата этот язык лишен корпоративности, присущей любому специальному языку [Шейгал 2000:15].
В лингвистике речь (речевая деятельность) - это 1) деятельность говорящего, использующего средства языка для общения с другими членами данного языкового коллектива (говорение) или обращения к самому себе; 2) разновидность общения при помощи языка, характеризующаяся отбором тех или иных лексических и грамматических средств в зависимости от условий и целей коммуникации (речь деловая, речь официальная, речь поэтическая и т.д.); 3) вид синтаксического построения высказывания (речь авторская, речь косвенная, речь отрывистая и др.) [Розенталь, Теленкова 2001: 418-419]. В прагматическом аспекте речевое высказывание рассматривается как единица коммуникации, детерминированной потребностями общения и социально-историческим контекстом функционирования языка. В когнитивной лингвистике речь (речевая деятельность) понимается как вид обработки информации, закодированной языковыми средствами, как познавательный процесс. Восприятие окружающего мира, специфичное для каждой языковой группы, находит отражение в речевой деятельности коллектива и фиксируется в языке в виде концептов, понятий, представлений и мнений, выражаемых в различного рода высказываниях [Желтухина 2003: 57].
Соответственно политическая речь - это использование общенародного языка в процессе создания политического текста. Специфика политической речи определяется ее содержанием и проблематикой (распределение власти между государствами, в государстве и в его структурах), функциями (воздействие на политическую картину мира адресата, эмоциональное воздействие на адресата, склонение адресата к тем или иным действиям), использованием характерных для этого вида деятельности коммуникативных стратегий и тактик.
Социальная коммуникация представляет собой обмен информацией между социальными субъектами (индивидами, индивидом и общностью, общностями, индивидом и институтом, общностью и институтом, социальными институтами). В данной работе одним из центральных является понятие «публичная коммуникация», которое представляет собой вид коммуникации, нацеленной на передачу информации, затрагивающей общественный интерес, с одновременным приданием ей публичного статуса [Шишкина 2002: 74].
Термин «политическая коммуникация» часто используется в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть участие в речевой деятельности не только адресанта (то есть говорящего или пишущего), но и адресата (то есть слушающего или читающего).
Определение интенции. Методика ее выявления в тексте
Общественное предназначение политического дискурса состоит в том, чтобы внушить адресату необходимость «политически правильных» действий и / или оценок. Цель политического дискурса, таким образом - не столько описать, сколько убедить, побудить к действиям, скрытым в авторском намерении.
Как уже было отмечено в I главе, политик должен уметь затронуть нужную струну сознания электората, то есть его интенции должны умело доноситься до адресата, стать созвучными массовому сознанию. Далеко не всегда внушение выглядит как аргументация, чаще автор политических текстов стремится воздействовать на эмоции, играть на чувстве долга и других моральных установках.
Политический дискурс, по своему характеру направленный на внушение, учитывает систему взглядов потенциального интерпретатора авторских интенций, требует составления сценария дальнейших действий.
Весь процесс перехода от уровня сознания, на котором активизируется сценарий, имеющий языковой коррелят - метафору, к уровню непосредственного дискурсивного обеспечения этого сценария, есть процесс риторический, то есть процесс, в ходе которого говорящий / пишущий избирает средства, призванные оказывать воздействие на адресата с точки зрения реализации интенций.
Интенции в политическом дискурсе (на идеологическом уровне) могут быть сведены к: 1) выражению согласия с властью (лояльности к ней), в нашем случае речь идет о «партии власти»; 2) выражению несогласия с властью; 3) обработке сознания реципиента в соответствующем духе - в этом случае при наличии общих ценностных установок с реципиентом интенция заключается в укреплении чувства правоты этих установок, при общении различия - в устранении конфликта между установками путем их обсуждения [Лассан 1995: 55].
Впервые интенция рассматривалась в теории речевых актов (ТРА), которая возникла в рамках Оксфордской школы лингвистической философии. Ее основоположниками были Дж. Остин, Дж. Серль, П. Стросон, Г. Грайс и др. Теория речевых актов впервые получила развернутое изложение в курсе лекций, прочитанных Дж. Остином в Гарвардском университете, опубликованных в 1962 году и переведенных на русский язык под названием «Слово как действие».
Создатели теории речевых актов заимствовали слово «интенция» из терминологического аппарата философских наук. Оно появилось еще в средневековой схоластике и обозначало намерение, цель и направленность сознания, мышления на какой-нибудь предмет. Общим правилом схоластики было различение первой и второй интенции. Первая интенция есть понятие, первоначально сформированное умом. Объект его -реальность, данная человеческому разуму. Вторая интенция формируется через изучение и сравнение первых интенций. Ее объект находится в самом разуме, представляя собой логический закон, форму мысли или какую-нибудь отдельную мысль.
В существующих определениях интенций акцентируются ее различные аспекты. По определению Г.П. Грайса, интенция представляет собой намерение говорящего сообщить нечто, передать в высказывании определенное субъективное значение (передаваемое глаголом «подразумевать»).
Дж. Серль отметил, что при идентификации интенции в данном случае и говорящий / пишущий, и слушающий / читающий ориентируются на то, что было ими высказано ранее к моменту этого речевого акта [Серль 1987:45].
В психологии речи интенция понимается как первый этап порождения высказывания (А.А. Леонтьев, A.M. Шахнарович). За нею следует мотив, внутреннее проговаривание и реализация.
В толковании Я. Хоффмановой, П.Г. Чеботарева интенция отождествляется с целью высказывания, каждую из которых можно соотнести с обобщенной интенцией говорящего / пишущего сообщить, осведомиться о чем-либо, или побудить к чему-либо.
Дж. Остин и другие исследователи фактически подходят к психологической стороне многих вопросов о функции речи, обсуждая следующие проблемы: что такое значение для говорящего и слушающего, как воспринимаются и понимаются те или иные высказывания, что рефлексирует говорящий и др. (то есть впервые был поставлен вопрос о цели, намерении говорящего / пишущего, о том, чего же он ожидает от слушающего / читающего, попытка предопределить его реакцию).
Дж. Остин считал, что между актом локуции (то есть «говорения» в обычном смысле этого слова) и актом перлокуции (то есть осуществлением акта воздействия на аудиторию) должен быть еще один акт - иллокуция (то есть то, что говорящий хотел сказать, его намерение, выраженное в словесной форме). Исследователь предлагает рассмотреть следующие примеры, подтверждающие данный факт: Он сказал, что... (локутивный акт); Он доказывал, что... (иллокутивный акт); Он убедил меня, что... (перлокутивный акт) [Слово в действии 2000: 31]. П. Стросон включает термин «намерение» в название своей статьи «Намерение и конвенция в речевых актах» (1986 г.), где использует его и термин «цель» для объяснения ситуаций, когда некоторое лицо осуществляет процесс общения с другим лицом с помощью слов, но развернутого пояснения того, что понимает под «намерением» исследователь не дает. П. Стросон считал: «Именно распознание намерений говорящего является необходимым условием адекватного реагирования на его слова» [Слово в действии 2000: 31]. Исследователь отмечает, что намерение говорящего / пишущего не всегда обладает произвольностью, преднамеренностью. Другой важный элемент иллокутивного акта, по его мнению - наличие цели; она является если не постоянным, то стандартным составным элементом речевого акта.
Виды интенций, встречающиеся в политическом дискурсе
В нашем научном исследовании анализировались тексты предвыборных кампаний, поэтому остановимся подробнее на более полной классификации интенций, чаще всего встречающихся в текстах такого типа: 1. Анализ (рассмотрение темы, ситуации, не предполагающее выражение отношения к действующим лицам и самому говорящему). 2. Анализ (+) (основанное на фактах рассмотрение, разбор темы, ситуации, предполагающее выражение положительного отношения к действующим лицам). 3. Анализ (-) (основанное на фактах рассмотрение, разбор темы, ситуации, предполагающее выражение отрицательного отношения к действующим лицам). 4. Безличное обвинение (обвинение, при котором виновники не указываются). 5. Безличное разоблачение (разоблачение, при котором его объекты не называются). 6. Дискредитация (приведение фактов и аргументов, подрывающих доверие к кому-либо или чему-либо, умаляющих чей-нибудь авторитет). 7. Информация (приведение точных данных и фактов). 8. Кооперация (выражение отношения, направленного на привлечение к участию в совместных действиях или разделение позиций). 9. Критика (отрицательное суждение о людях и их действиях, поступках). 10. Неявная самопрезентация (самопрезентация, выраженная косвенно, без прямого указания на объект позитивного оценивания). 11. Обвинение (приписывание кому-либо какой-нибудь вины, признание виновности в чем-либо). 12. Отвод критики (отрицание негативных суждений о людях и их действиях). 13. Отвод обвинений (отрицание приписываемой кому-нибудь какой-либо вины). 14. Отказ в просьбе (отрицание возможности выполнения просьбы). 15. Оценивание (+) (положительное суждение о людях и их действиях и поступках). 16. Побуждение (призыв к какому-либо действию, принятию точки зрения). 17. Предупреждение (предостережение, предваряющее извещение о возможных событиях, действиях, ситуациях). 18. Презентация (представление кого-либо или чего-либо в привлекательном виде). 19. Противостояние (обнаружение противоположной позиции, непримиримого несогласия). 20. Размежевание (выявление различий и несходства в позициях и мнениях). 21. Разоблачение (раскрытие чьих-либо неблаговидных действий, намерений, отрицательных качеств). 22. Самокритика (критика, направленная на самого говорящего / пишущего). 23. Самооправдание (приведение аргументов и фактов с целью доказательства своей невиновности). 24. Самоохранение (осторожность) (выражение неопределенного отношения к разбираемой теме, ситуации и ее действующим лицам). 25. Самопрезентация (представление говорящим / пишущим себя в привлекательном, выгодном свете). 26. Угроза (запугивание, обещание причинить какую-нибудь неприятность, зло). 27. Успокоение аудитории (приведение аргументов и фактов с целью успокоить аудиторию) [Ушакова, Цепцов, Алексеев 1998: 102-103]. Идентификация той или иной интенции не всегда однозначна, то есть одна единица языка может быть отнесена и к одному, и к другому виду интенций одновременно. Исследователи считают, что данное явление имеет место быть по следующей причине: интенции условно делятся на две группы - нестабильно различающиеся и стабильно различающиеся (Приложение 2).
Классификация интенций, приведенная выше, по нашему мнению, тесно связана с функциями, которые выполняет троп, употребляемый адресантом с целью оказания воздействия на адресата. М.Р. Желтухина выделяет агональную, гармонизирующую, волюнтативную и характеризующую функции масс-медийного дискурса для создания эффекта комического, которые можно рассмотреть применительно к политическому дискурсу при изучении реализации интенций с помощью метафоры. 1. Агональная функция связана со стратегией агрессии, создания конфликта. Путем внушения адресант реализует свои властные притязания в борьбе с чуждой идеологией. Вариантами данной функции являются: а) обличительная функция состоит в дискредитации оппонентов с целью достижения власти, влияния. Адресант, представляя своих противников в отрицательном виде, разоблачает их действия, способствует изменению отношения к ним со стороны адресата. Как правило, политик, использующий в целях дискредитации не брань, а яркие метафоры и др., набирает очки в политическом противостоянии; б) провоцирующая функция предполагает провоцирование адресата на совершение ответных вербальных или невербальных действий в интересах адресанта; в) защитная функция является способом спасения лица адресанта, который в целях защиты от вербальной агрессии, для отвода критики от себя переводит ее на другого политика или производит контрудар в адрес критика. 2. Гармонизирующая функция связана с осуществлением стратегии снятия конфликта и способствует установлению спокойных, гармоничных отношений в политической коммуникации. Гармонизация общения происходит с целью психологической разрядки и психологического сближения: а) функция психологической разрядки заключается в том, что адресант для снятия напряженности, переключения сознания адресата в другое направление, воздействия на эмоции прибегает к метафоре; б) функция психологического сближения состоит в том, что метафора снижает официальность общения, тем самым, сокращая коммуникативную дистанцию, обладает внушающим потенциалом.