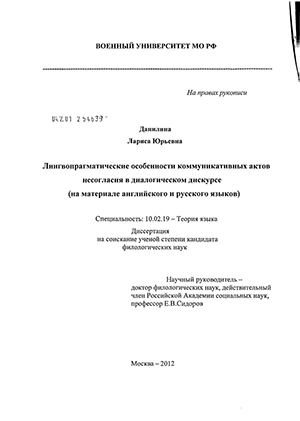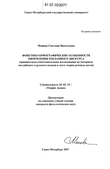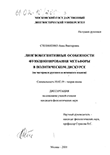Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Вербальное обозначение несогласия в диалоге и интерактивная природа дискурса 11
1.1. Природа диалогического дискурса 11
1.2. Прагматическое измерение дискурса 19
1.3. Интерактивная природа диалогического дискурса. 23
1.4. Феномен вербального обозначения несогласия в диалогическом взаимодействии 40
1.5. Прагматика вербального обозначения несогласия 46
1.6. Функциональная доминанта обозначения несогласия 58
Выводы 63
Глава вторая. Структурно-семантические, когнитивные свойства и функции обозначения несогласия в диалоге 65
2.1. Общая характеристика 65
2.2. Структурно-семантические свойства реплики диалога с обозначением несогласия 70
2.3. Оценочность обозначения несогласия в диалоге 82
2.4. Пресуппозиционная база обозначения несогласия в диалоге 89
2.5. Когнитивный фон обозначения несогласия в диалоге 109
2.6. Стратегии и тактики диалога с обозначением несогласия 119
2.7. Обозначение несогласия как частный случай знаковой координации 131
2.8. Функции обозначения несогласия в диалоге 137
Выводы 144
Заключение 148
Список использованной литературы 156
Список источников языкового материала 167
- Природа диалогического дискурса
- Функциональная доминанта обозначения несогласия
- Пресуппозиционная база обозначения несогласия в диалоге
- Функции обозначения несогласия в диалоге
Введение к работе
Настоящее исследование посвящено лингвопрагматическому анализу явления вербального обозначения несогласия в диалоге. Обозначения такого рода часто имеют место в диалогах, например:
1) - Красота…- Пойдешь со мной?
- Нет. Здесь постою.
2) -It’s unoriginal. You get no needle in me with ideas like that.
(В твоей идее нет ничего оригинального. Вряд ли ты сможешь меня заинтересовать.)
Таким образом, исследованию подлежат высказывания диалога, областью референции которых является позиция несогласия говорящего как одного из участников диалогического взаимодействия. Формальным признаком высказывания такого типа является наличие в его составе словесных единиц, обозначающих несогласие. Но особенности таких высказываний не сводятся к только формальным показателям. Следует полагать, что высказывания такого рода играют в диалогах заметную роль, прежде всего в регулировании взаимоотношений между партнерами как участниками словесной интеракции, в организации самой вербальной диалогической интеракции как определенной целостности.
Рабочая гипотеза исследования. На основе допущения об интерактивной природе диалогического дискурса, представляется рациональным полагать, что диалогические реплики с обозначением несогласия являются интерактивно значимыми компонентами диалога, что их значение, структура и другие свойства обеспечивают выполнение ими определенных функций по управлению деятельностью реципиента в интересах говорящего, знаковой координации деятельностей коммуникантов и тем самым в оптимальной организации словесной интеракции как целого.
По-видимому, побуждение к употреблению высказывания рассматриваемого типа состоит не просто в констатации факта действительного или предполагаемого несогласия, но, путем предъявления вербального обозначения несогласия, в побуждении реципиента к определенному действию, а также в побуждении его к тому, чтобы принять определенное представление о действиях и личности говорящего, осознать их соответствие определенным нормам и правилам.
Актуальность темы исследования состоит в том, что исследование феномена вербального обозначения несогласия отвечает потребности современного языкознания в разработке научных концепций интерактивной обусловленности прагмасемантической организации диалогического дискурса.
Объектом исследования является диалогическая речь на английском и русском языках.
Предметом исследования являются лингвопрагматические закономерности употребления высказываний с обозначением несогласия в диалогической речи на английском и русском языках.
Цель и задачи исследования. Цель данного исследования состоит в выявлении лингвопрагматической обусловленности употребления языковых средств, используемых говорящим для построения диалогических высказываний с обозначением несогласия, и в установлении функций, возлагаемых в коммуникации на эти средства.
В соответствии с целью исследования в диссертации ставятся следующие задачи:
систематизировать разработанные в языкознании научные взгляды на интерактивную природу диалога для формирования теоретического основания для анализа ситуаций обозначения несогласия в диалоге;
исследовать ситуации обозначения несогласия в диалоге как частный случай языковой номинации в плане выявления его семантико-прагматической мотивации;
исследовать разнообразные ситуации употребления высказываний с обозначением несогласия с целью изучения лингвопрагматически значимых свойств высказываний данного дискурсивного типа;
выявить основные виды функций высказываний с обозначением несогласия в диалогическом дискурсе;
- выявить особенности реализации коммуникативных стратегий и тактик способом обозначения несогласия в диалоге.
Научная новизна настоящей работы заключается в следующем:
1. Впервые выявляется и получает интерактивно-деятельностное описание особый тип диалогического дискурса, дискурс, референциально соотносящийся с феноменом несогласия в диалоге. Впервые выявляется и получает описание интерактивно-деятельностный механизм речевого воздействия и лингвопрагматической регуляции диалога способом вербального обозначения несогласия.
2. Впервые получают систематическое интерактивно-деятельностное описание семантические особенности высказываний диалогического дискурса с обозначением несогласия на материале русского и английского языков.
3. Впервые выявляются основные типы функций высказываний диалогического дискурса с обозначением несогласия в организации диалога как словесной интеракции.
4. Впервые устанавливается зависимость между типом функции и типом структурно-семантической организации диалогического дискурса с обозначением несогласия.
5. Впервые обосновывается идея зависимости семантической организации высказываний от интеракциональных мотивов в процессе номинации особого рода, а именно номинации несогласия в диалоге.
На защиту выносятся следующие научные положения:
1. Проведенное исследование подтверждает, применительно к феномену словесного обозначения несогласия, статус знаковой координации деятельностей говорящего и адресата как потенциального реципиента в диалоге в качестве базового механизма дискурса на английском и русском языках, а также необходимость и продуктивность изучения дискурсивной номинации в контексте лингвопрагматической деятельностной интеракции.
2. Высказывания с обозначением несогласия в диалоге образуют особую разновидность дискурса. Феномен вербального обозначения несогласия следует рассматривать в качестве интерактивно значимого компонента построения диалога.
3.Семантическая природа высказывания с обозначением несогласия не является механически отражательной, а характеризуется прагматической, сопряженно-деятельностной обусловленностью и значимостью с точки зрения организации деятельностной интеракции в диалоге. Несогласие, входящее в систему диалога, получает наименование и входит в систему семантики диалога не потому, что оно каким-то отвлеченным от речевой деятельности способом отражается как действительная реальность, а потому, что его номинация интерактивно необходима для организации диалога как оптимального координационного взаимодействия.
4.Высказывания диалогического дискурса с обозначением несогласия являются средством такого логического и эмоционально-оценочного влияния на реципиента - партнера по диалогу, которое направлено на достижение коммуникативных и внекоммуникативных целей диалога как системы координационной интеракции деятельностей его участников.
5.Структурная организация высказываний диалогического дискурса с обозначением несогласия разнообразна – от однословной номинации до предложения разных типов и даже ряда предложений. Разнообразие типов высказываний данной разновидности обеспечивает многообразие функций, выполняемых данным коммуникативным образованием в целесообразном формировании диалога как деятельностной интеракции.
6.Высказывания с обозначением несогласия выступают как регулятивное звено диалога, позволяющее в ходе формирования диалога как вербальной интеракции: предлагать знаковую программу управления поведением партнера; детерминацию речевого поведения партнера; детерминацию неречевого поведения партнера; детерминацию мыслительной активности партнера; смешанные формы детерминации; предлагать партнеру ситуацию, в которой могут быть результативно согласованы действия партнеров (знаковое формирование моделей ситуации в целях координации действий), осуществлять другие функции по управлению поведением партнера по диалогическому взаимодействию.
Теоретическая значимость научных результатов исследования состоит в продуктивном развитии, которое получают в данной диссертации перспективные научные представления о речевом процессе как системе взаимной координации деятельностей его участников. Материалы исследования и полученные научные выводы существенным образом уточняют научное представление о диалоге как форме употребления языка, в которой осуществляется социовербальная интерактивная регуляция деятельностей ее участников, а также о координационных мотивах употребления языковых средств для обозначения несогласия, о семантических, функциональных и структурных свойствах такого рода средств.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что полученные результаты могут использоваться в курсах коммуникативной лингвистики, культуры речи, риторики, в теории речевой коммуникации, в практике развития навыков диалогической речи в рамках курсов иностранных языков, в частности при формировании навыков интерактивно значимой номинации несогласия как средства целесообразного формирования диалогического взаимодействия.
Материалом настоящего исследования послужили диалоги, взятые из произведений художественной литературы, видео- и кинофильмов на русском и английском языках, а также собственные наблюдения автора за диалогической речью окружающих.
Методологическую и теоретическую основу диссертации составили труды российских и зарубежных ученых, посвященные описанию речевой деятельности как важнейшей стороны языка, анализу речевой коммуникации как социовербального взаимодействия людей. Методы исследования определены его целью и задачами, а также объективной спецификой изучаемого предмета и включают моделирование речепсихических процессов как основной метод с опорой на психолингвистическую методологию, разработанную в отечественной теории речевой деятельности Л.С.Выготским, Л.В.Щербой, А.Н.Леонтьевым, А.А.Леонтьевым, А.Р.Лурией, Е.Ф.Тарасовым и их последователями, метод интроспекции и интерпретации текста, метод структурно-функционального анализа дискурса, метод контекстно-ситуативного анализа высказываний, элементы стилистического анализа.
Апробация работы осуществлена в научных статьях, в виде научных докладов на заседаниях кафедры английского языка (вторых языков) Военного университета, на научных конференциях в Военном университете, в Московском государственном областном университете, в Российском государственном социальном университете, в Московской академии образования Натальи Нестеровой и других вузах, на Международном социальном конгрессе.
Структура и объем работы. Работа включает Введение, две главы, Заключение, список использованной научной литературы, список источников языкового материала, выполнена на 168 стр.
Природа диалогического дискурса
Понятие дискурса восходит, главным образом, к работам выдающегося французского лингвиста Эмиля Бенвениста, рассматривавшего употребление языка как дискурс, «всеобъемлющий и постоянный механизм» манифестации высказывания, в котором язык употребляется в качестве орудия [Бенвенист Э. 1974, с. 312]. К заключительному десятилетию XX века сложилось понимание дискурса как «связной последовательности предложений или речевых актов» но в дальнейшем он стал рассматриваться как «сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы - знания о мире, мнения, установки, цели адресата, - необходимые для понимания текста, т.е. дискурс осознается как «сложная система» [Караулов Ю.Н., Петров В.В.1989, с. 8].
На современном этапе развития лингвистических идей дискурс уже «не ограничивается рамками конкретного языкового высказывания, т.е. рамками текста или самого диалога» [Ван Дейк 1989, с.122], не понимается только как «связный текст», «последовательность предложений» [ЛЭС 1990, с. 136]. Осознается связь дискурса с событием, с жизнью — Н.Д.Арутюнова определяет дискурс как «текст, взятый в событийном аспекте», как «речь, погруженную в жизнь» [ЛЭС 1990, с. 136-137]. Дискурс понимается как вербализованная речемыслительная деятельность, предстающая как совокупность процесса и результата и обладающая как собственно лингвистическими, так и экстралингвистическими планами [Красных В.В. 2001, с. 203].
Таким образом, явление дискурса осмысливается весьма широко. Это осмысление включает в себя и прагматическую составляющую. Как известно, прагматический аспект языка и общения связан с отношением человека к языковым знакам, с выражением (и обозначением) его установок, оценок, эмоций, интенций при производстве (и восприятии) речевых действий в высказываниях и дискурсах [Формановская И.Н. 2002].
Указывая на отличия прагматического подхода к единицам языка от семантического, Дж. Лич [Лич Дж.1983] отмечал, что семантическая репрезентация предложения отлична от его прагматической интерпретации, что принципы прагматики мотивированы целями коммуникации, что прагматические объяснения функциональны и что прагматика имеет дело с межличностными отношениями и текстом [Leech G. 1983, р. 234—241].
Можно полагать, таким образом, что дискурс - это высказывание, или текст, в его прагматической, гносеологической, психологической, социокультурной обусловленности. Э.Бенвенист определял дискурс (в русском переводе - «речь») как «всякое высказывание, предполагающее говорящего и слушающего и намерение первого определенным образом воздействовать на второго» [Бенвенист Э. 1974, с. 276]. В силу того, что указанные формы обусловленности дискурса реализуются никак иначе, как через деятельности коммуникантов, такое истолкование природы дискурса представляет собой одно из возможных частных прочтений общей формулы, согласно которой текст - это сопряженная знаковая модель коммуникативных деятельностей отправителя и адресата сообщения [Сидоров Е.В. 2007, с. 151].
Сказать, что высказывание «предполагает» говорящего и слушающего - сегодня этого мало. Сказать, что высказывание «предполагает» говорящего и слушающего - это еще ничего не сказать о том, в чем состоит данное «предположение». В самом деле, трудно себе представить формы, в которых на текст (дискурс) может быть оказано определяющее влияние со стороны прагматических, психологических, гносеологических, социокультурных и других однопорядковых факторов вне коммуникативных деятельностеи участников акта общения с текстом (дискурсом), в обход деятельности или каким-то еще другим путем. В этом отношении показательно существенное влияние на текст (дискурс) такого прагматического фактора, как вербальное обозначение коммуникантом своего согласия в дискурсе.
Категория деятельности предоставляет исследователю дискурса возможность формирования содержательных представлений о закономерностях организации дискурса. Понятие деятельности, вводимое теорией речевой деятельности в анализ речевой коммуникации, - отмечает Е.Ф.Тарасов, - позволяет заменить тощую абстракцию, в форме которой в кибернетических моделях коммуникации или в модели коммуникативного акта фигурируют коммуниканты, на понятие личности в качестве производител я деятельности. Понятие деятельности вводит в модели речевого общения социальную историю коммуниканта: так как личность творит и формирует себя в деятельностях, осуществляемых ею, которые являются показателем ее психических и социальных качеств, детерминирующих речевое поведение. Отображение в модели общения коммуниканта в качестве исполнителя определенной деятельности есть одновременно отображение его как носителя некоторых свойств, предполагаемых у него как у исполнителя деятельности [Тарасов Е.Ф. 1989, с. 38].
Что касается диалога как разновидности дискурса, то изучению диалога посвящено значительное число работ (среди них укажем на: [Якубинский Л.П. 1923, Балаян А.Р. 1971, Йотов Д.Д. 1977, Изаренков Д.И. 1979, Диалог... 1991, Баранов А.Н., Крейдлин В.Г. 1992, Колокольцева Т. М. 2001, Борисова И. Н., 2005, Рамазанова Н.А. 2002, Лопатина Ю.Д. 2003, Молявина Е.А. 2006 , Формановская Н.И. 2002] и др.). Диалог рассматривается как динамичное, развивающееся речевое явление, и к нему применимо понятие дискурса, поэтому применительно к диалогу, так же, как и к монологу, применим термин «дискурс диалогический дискурс.
Согласно Н.И.Формановской, диалог формируется как процесс и продукт речевой деятельности двух (по крайней мере) коммуникантов, включающий; а) знания говорящего о мире (в том числе о ситуации общения), его мнения, установки, интенции, эмоции, оценки и т.д.; б) учет таких знаний, мнений и т. п. у адресата; в) ориентировку на социальные роли и статус адресата в соотношении с собственными такими показателями — и т.д. Применительно к нашей теме заметим, что к существенным чертам диалога следует отнести знания говорящего о мыслительных действиях и о способах их вербального обозначения (связанных с обозначением действия, ситуации, мнения, установки, интенции, эмоции и оценки относительно самого себя и относительно партнера); учет знаний о себе, мнений о себе и т.д. у адресата; ориентировку на социальные роли и статус адресата в соотнесении с собственными ролями и статусом.
Создается сложное речевое произведение, отражающее коммуникативное событие устного контактного непосредственного (преимущественно - ср. разговор по телефону) общения, в котором партнеры вербально (а также и невербально), путем смены коммуникативных ролей говорящего и слушающего в конкретной ситуации стремятся к достижению с помощью определенных стратегии и тактик желаемых результатов - и достигают (или не достигают) их. Возникает кооперативный диалог «согласия», приспособления друг к другу, соответствия (конгруэнции), а иногда и уступок, или конфликтный диалог «несогласия», возражения, отпора, конфронтации [Формановская Н.И. 2002, с. 158 и след.].
Последовательность событий в диалоге можно представить следующим образом. Инициатор диалога, выстраивая первую, инициирующую реплику, выражает, прежде всего, свое коммуникативное намерение (интенцию) и эмоциональное состояние, соответствующее социальной и психологической роли, и, пользуясь языковым кодом, общим для него и для второго коммуниканта, воздействует на него, либо сообщая новые знания и тем самым изменяя мир знаний партнера, либо побуждая его к совершению некоторого действия и тем самым изменяя положение дел в мире и т. д. Партнер инициатора, выстраивая вторую, реактивную реплику, сопоставляет полученную информацию с той, что имеется в его когнитивном базисе, тезаурусе, понимая суть сказанного и вычленяя намерения инициатора, совершает ряд когнитивных операций и определяет направление собственного реагирования в сторону унисонных (согласие) или диссонансных (разногласие) взаимодействий с партнером. И реплика инициатора, и ответная реплика могут содержать вербальные обозначения согласия, однако это не значит, что диалог в этом случае развертывается по модели унисонного взаимодействия с партнером. В частности, ирония, сарказм, антитеза с легкостью используют согласие как форму психологического противостояния или противодействия.
Функциональная доминанта обозначения несогласия
Ведущей стороной, или функциональной доминантой, диалога является вербальная реализация побуждений участников диалога, направляемых на партнера и реализуемых никак иначе, как в диалоговых шагах, или репликах, и проявляющаяся, в частности, как мы полагаем, в вербальном обозначении несогласия.
В семантической организации диалога исследователей диалогической речи в первую очередь всегда интересовал ее тематический план. В частности, МЯ.Блох и С.М.Поляков выделили три группы диалогических единств: 1) сложные диалогические единства, в которых оба коммуниканта активно участвуют в раскрытии темы единства; 2) сложное синтаксическое единство, тема которого развивается в компонентах, принадлежащих лишь одному коммуниканту; 3) квазидиалог, характеризующийся полным несоответствием тематических планов коммуникантов [Блох М.Я., Поляков СМ. 1992, с. 40 - 41]. В русле данного подхода вербальное обозначение несогласия может рассматриваться в качестве определенной тематической константы, точнее говоря, одной из тематических констант семантической организации диалога. Однако у данной тематической константы имеется не только структурный план, привлекший внимание исследователей, но и план лингвопрагматический, состоящий в организации (построении) диалога, включая его тематическую семантику, в качестве целостной межличностной интеракции.
Проведенное выше описание вербальных обозначений несогласия в диалоге позволяет сделать вывод о том, что эти формы обладают общим назначением - осуществлять знаковую координацию деятелыюстей партнеров по взаимодействию путем знакового управления действиями партнера.
Используя вербальные обозначения несогласия, коммуникант исходит из некоторых допущений относительно личности и деятельности партнера (он знает, что партнер поймет его речь; он знает, что партнер способен принять аргумент о ценности понимания человека другим человеком; он полагает, что партнер, вероятно, согласится с данным аргументом). Используя вербальное обозначение несогласия, коммуникант предпринимает попытку побуждения реципиента к определенному внутреннему действию понимания и согласия и к внешнему действию - реализации определенной линии поведения.
Таким образом, есть основания рассматривать диалогический дискурс как высказывания, или текст, в их прагматической, гносеологической, психологической, социокультурной обусловленности. Такое истолкование природы диалогического дискурса представляет собой одно из возможных частных прочтений общей формулы, согласно которой текст - это сопряженная знаковая модель коммуникативных деятельностей отправителя и адресата сообщения [См. Сидоров Е. В. 2007, с. 151]. Вербализация несогласия в диалогическом высказывании представляет собой, в интерактивно-прагматическом плане, частный случай сопряженного знакового моделирования коммуникативных деятельностей отправителя и адресата (предполагаемого реципиента) сообщения.
В самом деле, прагматическая, социокультурная, психологическая и гносеологическая обусловленность диалогического дискурса выступают в качестве частных форм общей совокупной определенности диалогического дискурса (текста) со стороны коммуникативных деятельностей адресата и отправителя сообщения, в рамках которых только и возможна обусловленность высказывания указанными факторами.
Действительно, представляются мало вероятными формы, в которых на диалогический текст (дискурс) может быть оказано определяющее влияние со стороны прагматических, психологических, гносеологических, социокультурных и других однопорядковых факторов вне коммуникативных деятельностей участников акта общения с текстом (дискурсом), в обход деятельности или каким-то еще другим путем. В этом отношении показательно определяющее влияние на диалоговый текст (дискурс) такого прагматического фактора, как правила обозначения несогласия, которыми руководствуются коммуниканты. Эти правила, бесспорно, определяют природу дискурса, поскольку последний выстраивается на знании, понимании, соблюдении или не соблюдении данных правил.
Однако сами эти правила влияют на построение реального дискурса лишь в той мере, в какой они представлены в коммуникативных деятельностях участников общения (в частности, в форме психического образа соотнесенных позиций коммуникантов) и реализованы ими. Речь погружена в жизнь через коммуникативные деятельности общающихся личностей. Как отмечает Н. И.Формановская, смысловая объемность дискурса образуется на базе пропозиционального содержания высказываний и прирастает с помощью имплицитных составляющих — пресуппозиций и импликаций. Однако основное содержание, ради которого строится вербальное взаимодействие, образуют интенциональные значения, модальные и эмоциональные смыслы, и все это опирается на социальные смыслы статусных, ролевых отношений и психологических состояний коммуникантов.
В данном контексте делается вывод, что диалогический дискурс (текст) обладает многомерным смысловым содержанием, обнаруживаемым при коммуникативно-прагматическом анализе. Кроме пропозиционального значения высказываний в высказываниях диалогического дискурса содержится объемный коммуникативный смысл, состоящий из интенциональной, модальной, эмоциональной, социальной информации (включая информацию о позиции говорящего, вербализуемую в диалоге), интерпретируемой партнером. Данные информативные пласты разнородны, организованы разными языковыми средствами, однако их совокупность образует тот смысловой объем, которым обмениваются коммуниканты для согласования своей речевой и практической деятельности [Формановская Н. И. 2002, с. 166].
В основе лингвопрагматического анализа позиционно маркированного дискурса (в частности высказываний, содержащих обозначение несогласия) лежит ряд теоретических представлений о факторах, определяющих строение диалогического дискурса. Весьма важным среди них является допущение, что индивиды, участвующие в коммуникации, располагают общим имплицитным знанием о коммуникативных действиях и состояниях, включая позиции, и об их вербальном обозначении. Не все переживаемые говорящим оценки, позиции подлежат вербальному обозначению, а лишь те из них, которые прагматически функциональны. В понятие общего имплицитного знания о позиции говорящего вкладывается обобщенное, относительно стабильное, лишь частично осознаваемое отражение межличностных и индивидуальных деятельностей и действий, причин, их вызывающих и условий, их определяющих (среди них обозначаемое несогласие). Этим знанием обладает каждый индивид, являющийся членом определенных общностей: производственных, семейных и т. д. Знание о действиях и состояниях и в частности, о возможных вербализациях несогласия, есть результат обобщения собственного мыслительного и речевого опыта и опыта других людей, накопленного индивидом в коммуникации на фоне обозначения в речи несогласия. Пока и поскольку индивиды, будучи членами определенных общностей, имеют общее бытие, они имеют также и общее коммуникативное знание и общее знание об обозначаемых в речи несогласиях. Это знание индивидуально; оно необязательно осознается и может быть вербализовано. В своей зависимости от соответствующего общественного бытия оно исторически обусловлено и варьируется от общества к обществу, от социума к социуму, от группы к группе [МенгК. 1983].
Пресуппозиционная база обозначения несогласия в диалоге
Большое значение для анализа дискурса с обозначением несогласия в диалоге имеет понятие пресуппозиции. Коммуникативная пресуппозиция может быть интерпретирована как компонент фоновых знаний коммуникантов, необходимых в ходе общения для построения дискурса и интерпретации его содержания [Борисова И.Н. 2005, с. 87]. В составе имплицитной информации, передаваемой предложением, - отмечает И.М.Кобозева, - можно выделить конкретные ее виды, и в частности, следствия (импликации) и пресуппозиции (презумпции). Разнообразие разновидностей имплицитной информации увеличится, если от изолированных от контекста предложений перейти к высказываниям в дискурсе [Кобозева И.М. 2000, с. 215].
Коммуникативная пресуппозиция необходима для того, чтобы коммуникации состоялась как координация деятельностей коммуникантов, поскольку на ее основе пропозиция, представленная в высказывании, должна быть интерпретирована как истинная для того, чтобы предложение не воспринималось как семантически аномальное или неуместное в данном контексте [Падучева Е.В. 1990, с. 396]. Понятие пресуппозиции используется в прагматике для обозначения предварительного знания, являющегося основой и ориентиром для интерпретации содержания языковых единиц [Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. 1996; Дейк Т.А. ван, Кинч В. 1988, Кифер Ф. 1978; Столнейкер Р.С. 1985, Филлмор Ч. 1988, Фреге Г. 1977, Caffi С. 1994, Cole Р. 1975, Stalnaker R.C. 1973].
Понятие прагматической пресуппозиции введено Р. С. Столнейкером, писавшим: «Следуя прагматическому взгляду, пресуппозиция — это пропозициональная установка, а не семантическое отношение. Пресуппозиции в таком понимании имеются скорее у людей, чем у пропозиций или предложений. В общем случае любой участник речевого контекста... может быть субъектом пресуппозиции. В качестве её содержания может выступать любая пропозиция». И далее: «По-видимому, пресуппозиции лучше всего рассматривать как сложные предрасположения, которые проявляются в речевом поведении... Пресуппозиции — это не что иное, как пропозиции, неявно подразумеваемые ещё до начала передачи речевой информации» [Столнейкер Р.С. 1985, с. 427-428]. Например, следующие высказывания с обозначением несогласия основаны на коммуникативной пресуппозиции:
Stop right there! I don t want to hear anything that s not my business [Wilder T. 2001, p. 16] (Хватит! He желаю слышать ничего, что меня не касается),
- I haven t said anything all that funny [Golding W.2002, p. 213] (Ничего такого смешного я не сказал).
Не сердитесь, Наталья Сергеевна, но будет нечестно с моей стороны... если я сейчас промолчу [Леонов Л. 1961, с. 21].
Обозначение несогласия «Не сердитесь» основано на допущении, что предполагаемая позиция партнера вполне может быть мотивирована типом действий, осуществляемых говорящим.
Прагматические (эпистемические) пресуппозиции (презумпции) касаются знаний и убеждений говорящих. Н. Д. Арутюнова и Е. В. Падучева описывают их так: «Говорящий, который высказывает суждение S, имеет прагматическую презумпцию Р, если он, высказывая S, считает Р само собой разумеющимся — в частности, известным слушателю» [Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. 1985, с . 88-89]. Понятие пресуппозиции мы используем в контексте нашего исследования в прагматическом смысле как «когнитивные предпосылки конструирования модели» [Дейк Т.А. ван, Кинч В. 1988, с . 158], в данном случае — модели семантического пострения диалогического дискурса (ср. типы импликаций в трансакционной дискурсивной модели В. А. Зайцевой (1998) и О. Йокоямы (1998)), Пресуппозиции коммуникативного акта (коммуникативные пресуппозиции) отражают ситуационные модели коммуникативного контекста — «репрезентации коммуникативной ситуации, в которой порождается дискурс» [Дейк Т.А. ван 1989, с. 276]. Дискурсивные пресуппозиции могут быть описаны в терминах фреймов [Филлмор Ч. 1988, с. 81; см. также: Минский М. 1978, 1979, Дейк Т.А. ван, Кинч В. 1988].
Перед вступлением в коммуникативное взаимодействие участники общения должны идентифицировать предстоящую коммуникативную ситуацию и само-идентифицироваться в ней, т. е. уяснить свою роль, социальную позицию, цели, ожидания партнёра по коммуникации, его психологическое состояние, возможные установки в общении: «восприятие и понимание каких-либо событий происходит не в вакууме, а в рамках более сложных ситуаций и социальных контекстов» [Дейк Т.А. ван, Кинч В. 1988, с. 158]. Отметим справедливое замечание Н. Д. Арутюновой, отмечавшей, что речевое поведение не может рассматриваться вне прагматических факторов: «В диалоге реализуется прежде всего не информативная функция языка, а его ориентирующая функция... Обмен репликами — это взаимоориентирующее поведение коммуникантов. Этим и объясняется тот очевидный факт, что основные "информативные" структуры... имеют тенденцию приобретать поведенческие смыслы» [Арутюнова Н.Д. 1992, с. 3-4]. В самом деле, высказывания, обозначающие несогласие, реализуют, при опоре на коммуникативные пресуппозиции, ориентирующую и взаимоориентирующую функции по отношению к деятельности партнеров по диалогу, например:
- Don t be morbid... Life starts all over again when it gets crisp in the fall [Fitzgerald F.S.1979, p. 112]. Семантика данного высказывания построена на ряде пресуппозитивных допущений, в частности, понятности для адресата, что в данной ситуации ему дано не только «be morbid», но и избегать данного состояния, приемлемости для адресата сентенции «Life starts all over again when it gets crisp in the fall» и других. Высказывание демонстрирует ориентированность говорящего на внутренний мир, восприятие событий реципиента и одновременно ориентирует деятельность, восприятие мира реципиентом в направлении, задаваемом мотивами говорящего.
Речевая деятельность трёхфазна [Леонтьев А.А. 1999, Зимняя И.А. 1985]: она включает ориентировку, исполнение и контроль. Коммуникативная пресуппозиция и возникающие на её основе установки функционируют, главным образом, на этапе ориентировки, состоящей в «специфической по содержанию и направленности интеллектуально-мыслительной активности, предполагающей осмысление проблемной ситуации общения и предмета коммуникации — коммуникативного намерения (замысла общения), мотивирующего текстовую деятельность, диктующего содержание и структуру планируемой к реализации в тексте коммуникативно-познавательной программы» [Дридзе Т.М. 1984, с. 57].
Коммуникативная пресуппозиция — когнитивная структура, содержанием которой являются знания, представления и установки на определённый тип коммуникативного поведения, являющиеся результатом отражения в сознании коммуниканта релевантных для данного акта коммуникации компонентов и параметров текущего (или предстоящего) коммуникативного события [Борисова И.Н. 2005, с. 82-83]. Следовательно, коммуникативная пресуппозиция может рассматриваться как явление, с необходимостью сопровождающее активизацию вербального обозначения несогласия. Умение адекватно ситуации строить коммуникативную пресуппозицию является одним из базовых коммуникативных умений языковой личности и соотносится с её прагматиконом [Караулов Ю.Н. 1987]. В. В. Красных связывает коммуникативные пресуппозиции с особым аспектом языковой личности — коммуникативной личностью. По мнению автора, каждая языковая личность обладает некоторым набором релевантных для коммуникации знаний и представлений, который определяется тремя составляющими: индивидуальным когнитивным пространством, коллективным когнитивным пространством и когнитивной базой. «Когнитивная база — определённым образом структурированная совокупность необходимо обязательных знаний и национально-детерминированных и минимизированных представлений того или иного национально-лингвокультурного сообщества, которыми обладают все носители того или иного национально-культурного менталитета, все говорящие на том или ином языке» [Красных В.В. 1998, с. 45]. Индивидуальное когнитивное пространство рассматривается как часть общего знания, которым обладает отдельная личность, а коллективное — как часть общего знания, которым обладают личности, входящие в определённый социум. Данные пространства и база формируются когнитивными структурами феноменологического и лингвистического характера. Тогда пресуппозиция, отражающая коммуникативную ситуацию, относится к коллективному когнитивному пространству и представляет собой социумную, константную пресуппозицию; коммуникативная пресуппозиция, отражающая личностные характеристики коммуникантов и их межличностные отношения относится к индивидуальному когнитивному пространству и представляет собой ситуативную, спонтанную микропресуппозицию.
Функции обозначения несогласия в диалоге
Дискурс в целом, как и отдельные высказывания дискурса по своей природе представляются актами преднамеренными, что, впрочем, не означает, что данная преднамеренность всегда ясно осознается говорящим. Надо полагать, что высказывания с вербальным обозначением несогласия не составляют исключения из этой общей посылки, и что, обозначая свою позицию определенным образом, говорящий намеревается с помощью данного обозначения побудить партнера по диалогу к совершению определенных речепсихических, а вслед за ними и, возможно, внешне-моторных действий. Анализируя роль языка в учении Фрейда, Э.Бенвенист замечает, что на протяжении всех анализов по Фрейду «пациент пользуется речью и рассказом, чтобы представить себя себе самому таким, каким он хочет видеть себя сам и побуждает «другого». Его речь - это зов и мольба, призыв, порой неистовый, обращенный к другому через речь, в форме которой он отчаянно стремится к самоутверждению, призыв часто неискренний... Самим фактом речи к кому-то говорящий о себе вводит другого в себя и благодаря этому постигает себя, сравнивает себя, утверждает себя таким, каким он стремится быть, и в конце концов создает свое прошлое («историзирует себя») посредством рассказанной истории, неполной или фальсифицированной. Язык здесь, таким образом, используется как речь, становясь выражением сиюминутной и трудноуловимой субъективности, которая неотъемлема от диалога. Язык выступает как средство рассказа, в котором высвобождается и творит себя личность пациента, в котором она воздействует на другого и заставляет его признать себя» [Бенвенист Э. 1974, с. 117-118]. Речь пациента, и в частности дискурс с обозначением несогласия, таким образом, демонстрирует устойчивую функциональную доминанту; его высказывания выполняют по отношению к партнеру по диалогу определенные функции.
В работе «Слово как действие» Дж.Л.Остин приводит правило: «должна существовать общепринятая конвенциональная процедура, приводящая к определенному конвенциональному результату и включающая произнесение определенных слов определенными лицами в определенных обстоятельствах» [Остин Дж. 1986, с. 4] (выделено мной - Л.Д.). Указанный Дж.Остином «определенный конвенциональный результат», связанный с произнесением определенных слов определенными лицами в определенных обстоятельствах составляет, как мы полагаем, функцию высказывания.
Анализируя соотношение фреймов и речевых актов, Т.А.Ван Дейк отмечает, что каждый из речевых актов в глобальном действии имеет свою конкретную функцию. В качестве функций он приводит такие примеры: служить началом, введением, приветствием, содержать аргументы, использоваться для защиты, завершать коммуникацию и др. [Дейк Т.А. ван 1989, с. 18]. В нашей работе функции высказываний истолковываются в близком смысле. В частности, под функцией высказывания предлагается понимать имеющий интерактивное значение эффект (искомое воздействие) высказывания на коммуникативного партнера. Например, высказывание с обозначением несогласия:
- You get me wrong. I wasn t laughing at you [Wilder T.2001, p. 112] (Ты неправильно меня понял. Я вовсе над тобой не смеялся).
Обозначая несогласие говорящего, высказывание выполняет функцию побуждения партнера по диалогу к немедленному переосмыслению того, что было сказано.
Сводя наше понимание различия между значением и функцией высказывания к предельно краткой форме, можно сказать, что значение высказывания состоит в том, что данное высказывание сообщает, а функция высказывания состоит в том, к чему данное высказывание побуждает.
Обсуждаемое различие между значением и функцией высказывания можно продемонстрировать на многих примерах.
Среди наблюдаемых в высказываниях с обозначением несогласия функций такого рода можно указать следующие.
1. Высказывания с обозначением намерения говорящего позволяют структурировать диалог как коммуникативное целое. Например: - I haven t said anything all that funny [Golding W.2002, p. 213] (Ничего такого смешного я не сказал)
Здесь диалог выстраивается как целостное коммуникативное построение благодаря цепочке обозначений, связанных с позицией несогласия говорящего, цементирующей их.
Структурация диалога, то есть придание ему определенной структуры, композиции, можно сказать, архитектоники, в которой все связано в некоторое организованное целое, обеспечивается высказыванием с обозначением несогласия, которое связывает производимую реплику с предшествовавшим ей высказыванием партнера по диалогу и мотивирует последующие.
2. Управление динамикой понимания высказывания партнером по диалогу (когнитивная подготовка реципиента к восприятию последующего дискурса путем предъявления темы последующих высказываний), например:
- Нет, скажу тебе о главном.. .(ЛНА).
- I want to talk to you about a great political and financial scheme.! [Wilde O.2001,p. 76].
3. Запрещение для реципиента высказываний определенной референциальной отнесенности, например:
Stop right there! I don t want to hear anything that s not my business [Wilder T. 2001, p. 16] (Хватит! He желаю слышать ничего, что меня не касается).
4. Побуждение к прекращению речевой деятельности, например:
- Хочу побыть в тишине (ЛНА).
5. Предложение модели коррекции понимания высказывания реципиентом, например:
- You get me wrong. I wasn t laughing at you [Wilder T. 2001, p. 112] (Ты неправильно меня понял. Я вовсе над тобой не смеялся).
- Don t make a joke of it. I m serious [Shaw G.B. 2001, p. 114].
6. Побуждение к смене коммуникативных ролей в диалоге, например:
- А ты погоди, дай и нам слово молвить [Леонов Л. 1961, с. 110].
7. Побуждение партнера к соблюдению постулатов речевого общения (в частности, постулата истинности), например:
- Хватит! Хочу, чтобы ты сказал правду (ЛНА).
8. Побуждение партнера к определенной стратегии или тактике (к смене коммуникативной стратегии или тактики), например:
- Спрашивайте сами. А я спрашивать не буду [Житков Б.С. 1969, с. 62].
9. Детерминация формы речевого общения, путем предъявления реципиенту качественной характеристики собственного речевого поведения, например:
- You know how I feel and I know how you feel. Shall I be direct? [Spillane M. 1969, p. 100] (Мы знаем, что мы оба чувствуем, поэтому я буду говорить напрямик.)
10. Психологическая агрессия, подавление, побуждение партнера к осознанию неуместности своего поведения, побуждение к оправданиям.
- Sit down! I m far from through [Chandler R.1992, p. 143] (Сядь! Я еще не закончил).
11. Психологическая защита (обязательство принять альтернативную форму речевого поведения):
- А что же я должен говорить?
- А что хочешь. Шел, поскользнулся, упал, очнулся и так далее (предложение формы, тактики речевого поведения)
- Я лгать не буду... [Полякова Т. 1999, с. 254].
12. Формирование положительного образа говорящего, например:
- I don t want to keep back any facts [Anderson Sh. 1982, p. 77] (Я не хочу скрывать факты).
13. Коррекция неадекватного понимания партнером предыдущего высказывания говорящего, например:
- You get me wrong. I wasn t laughing at you [Wilder T. 2001, p. 112] (Ты неправильно меня понял. Я вовсе над тобой не смеялся).