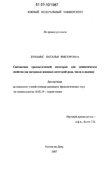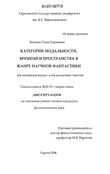Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 4
Глава первая 13
КАТЕГОРИЯ ЛИЦА КАК ЯДРО КАТЕГОРИИ
ПЕРСОНАЛЬНОСТН
Понятие языковой категории 13
Из историй изучения категории лица в русской 22
грамматической традиции
Споры в новейшей грамматике о трактовке ноня- 25
тия категории лица
Сущность грамматической категории лица 33
Категория лица и парадигма личных форм глагола 36
От грамматической категории лица к речемыели- 56
тельной категории персональное
Выводы по первой главе 64
Глава вторая 67
КАТЕГОРИЯ ЛИЧНОСТИ — БЕЗЛИЧНОСТИ
Проблема личности и безличности предложения 67
Высказывания, ориентированные на участников 75
коммуникативного акта
«Эгоцентрические» / автоонтивные высказывания 75
^-высказывания 75
Мы-Выеказыванйя 80 «Адресатные» / антионтивные высказывания 83
Гы-высказывания 83
Вы-высказывания 85 Высказывания, не ориентированные на участников 87 коммуникативного акта / анонтивные предложения
Неопределённо-личные и обобщённо-личные вы- 89
сказывания
1. Неопределённо-личные высказывания 90
2 Обобщённо-личные высказывания 91
Безличные предложения 92
Выводы по второй главе 98
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 100
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 107
Введение к работе
Данная диссертация посвящена анализу одной из универсальных категорий естественных языков — категории лица, или (с учётом её многоаспектного и многоуровневого характера, предполагающего множество способов выражения её значений) категории персональности.
Значения, квалифицируемые как персональные, характеризуют отношения между сущностями, которые принадлежат к трём разным сферам явлений: 1) к сфере языковой системы (языка в узком смысле), 2) к сфере внеязыковой действительности и 3) к сфере речевой коммуникации. Значения категории персональности соотносят друг с другом актуальное предложение как языковую структуру, описываемую в нём предметную (денотативную) ситуацию (см. Сусов 1973; Богданов 1977) и конкретный речевой акт, в котором высказывается данное предложение (Арутюнова 1998в).
Конкретно это выглядит следующим образом. Персональные значения фиксируют отношения между субъектом (а нередко и объектом) предложения (Арутюнова 1998г), теми или иными участниками (парти-ципантами) денотативной ситуации как референтами субъекта и объекта (Булыгина, Крылов 1998в: 410—411; Арутюнова 19986: 411—412) и участниками речевого акта (коммуникантами).
Сказанное можно иллюстрировать следующей схемой:
Партиципанты м Коммуниканты
Субъект или объект предложения
Формальные средства выражения значений языковой категории персональное, которую можно квалифицировать как понятийную, ре-чемыслительную или когнитивно-коммуникативную (Есперсен 1958; Кацнельсон 1974: 4; Булыгина, Крылов 19986), принадлежат к числу лексических, морфологических и синтаксических, что даёт основания представителям школы функциональной грамматики, возглавляемой А.В. Бондарко, характеризовать данную категорию со стороны её строения как функционально-семантическое поле (Бондарко 1998; 1991). Её структурный центр в ряде языков образует грамматическая категория лица (см. Володин 1998: 271—272). А.В. Бондарко говорит о наличии в русском языке двух структурных центров — глагольном и местоименном (Бондарко 1971: 47—49).
При описании разных фрагментов поля персональности приходится иметь дело с грамматическим лицом как категорией глагола, а в ряде языков и существительного, с классами личных и притяжательных местоимений, с личными и безличными предложениями.
Грамматическому лицу посвящено огромное количество работ, выполненных как на материале отдельных языков, так и в общелингвистическом (прежде всего в типологическом) ключе. Многие из писавших на эту тему авторов осознают тот факт, что грамматическое лицо не соотносится с лицом как человеком, что между формой лица и значением лица имеет место асимметрия.
В отечественной литературе к проблеме грамматического лица как категории русского глагола обращались М.В. Ломоносов (1757), А.Х. Востоков (1831), Н.И. Греч (1827), Ф.И. Буслаев (1863), В.Г. Белинский (1837), Н. Некрасов (1865), А.А. Потебня (1968), Д.Н. Овсян-нико-Куликовский (1907), A.M. Пешковский (1956), А.А. Шахматов
(1941), В.В. Виноградов (1947), И.Н. Димарская-Бабалян (1953), А.В. Бондарко и Л.Л. Буланин (1967), А.А. Юдин (1968а; 1976).
Немецкая глагольная категория лица описана у В.Г. Адмони (1986). В. Шмидта (Schmidt 1986).
Широкую общелингвистическую трактовку этой категории, с учётом изменения по лицам как у глагола, так и у имён, а также личных значений не только субъекта, но и объекта, особенностей выражения лица в языках эргативного и активного строя, с учётом и значений личной принадлежности даёт А.П. Володин (1991; 1998).
В зарубежной лингвистике глагольная категория лица также часто оказывалась в центре внимания исследователей. Среди них прежде всего должны быть упомянуты P.O. Якобсон (1972), Э. Бенвенист (19746), А.В. Исаченко (Isacenko 1975), а также К. Хегер (Heger 1965), В. Мюллер (Miiller 1978; 1982; 1983а; 1983b), Х.-Р. Вемайер (Wehmeier 1978; 1981), Й. Рихтер (Richter 1983), X. Яхнов (1999).
Усилиями названных здесь отечественных и зарубежных авторов было достигнуто понимание следующих важных моментов:
Не все значения морфологической категории лица, а только значения 1-го л. и 2-го л. соотносимы с лицом как человеком, в то время как значение 3-го л. может быть соотнесено и с человеком, и с любым другим предметом или одушевлённым существом, с абстрактным понятием и даже вообще не соотнесено с никакой сущностью.
Только формы 1-го л. и 2-го л. указывают на участников данного речевого акта (коммуникантов) — говорящего (производителя высказывания) и слушающего (адресата высказывания), т.е. только их значения являются собственно личными.
Необходимо различать то или иное значение категории лица, или граммему (Бондарко 1976), и грамматическую личную форму глагола, выражающую, наряду с другими граммемами, граммему лица.
Если общепринято положение о том, что в рамках категории лица различаются три граммемы (1-е л., 2-е л. и 3-е л.), то количество личных (финитных) форм глагола может многократно превышать это число; так, в языках, имеющих, кроме единственного и множественного чисел, ещё и двойственное число, в личной парадигме глагола (лицо + число) насчитывается до 9 финитных форм. С учётом изменений по наклонениям, временам и т.д., это количество личных форм глагола резко возрастает.
Приходится также считаться с наличием особых личных форм вежливости (как, например, в немецком и испанском языках).
Форма лица глагола не обязательно маркируется грамматическими синтетическими показателями в составе глагольной словоформы, а может быть маркирована аналитическими показателями. Так, в шведском языке изменения по лицам и числам опознаются только по личным местоимениям: jag skriver 'я пишу', du skriver 'ты пишешь', han, hon skriver 'он, она пишет', vi skriver 'мы пишем', ni skriver 'вы пишете', de skriver 'они пишут'. Здесь, таким образом, по существу, отсутствует личное окончание. В английском языке личным окончанием -s маркировано только 3-е л. ед. ч. (he, she write-s), а в остальных личных формах функционируют омонимичные нулевые окончания (I write-0, you write-0, we write-0, you write-0, they write-0).
3-е л. часто оказывается в силу своего особого положения нейтрализовано относительно того референта, на который оно указывает.
Форма 3-го л. ед. ч. (при отсутствии возможностей изменения глагола по лицам и числам) может быть специализирована на выражении
значения безличности, т.е. может служить для построения так называемых безличных предложений.
Анализ того, как категория лица участвует в построении структуры предложения, приводит к постановке вопроса о различении лица морфологического и синтаксического, о противопоставлении предложений личных и безличных и т.п.
Эти вопросы ставят и обсуждают в своих работах Е.М. Галкина-Федорук (1958), Е.Н. Осипова (1969); Н.Ю. Шведова (1971), Г.А. Золо-това (1973; 1974; 1982), С.Г. Букаренко (1975), В.В. Востоков (1977а; 19776; 1978), Ю.С. Степанов (1981; 1998).
С учётом синтаксического аспекта Й.П. Сусов (1973) говорит о персональности как одном из аспектов в модификационной структуре семантической организации предложения.
В группе А.В. Бондарко разрабатывается теория персональности как одного из функционально-семантических полей (Теория функциональной грамматики 1991; Володин 1991). В этом поле в выражении различных персональных значений взаимодействуют лексические, морфологические, синтаксические и контекстуальные средства языка (см.: Юдин 1976: 54).
Анализ языкового материала убеждает, что между морфологической категорией лица и категорией личности — безличности предложения отсутствует жёсткая граница. Обращение к проблеме категории персональности, вбирающей в себя значения словесных форм лица и значения личных — безличных предложений, к взаимодействию слова и предложения, по-прежнему оказывается актуальным.
Особый интерес для автора данной диссертации представляют идеи Ю.С. Степанова, в соответствии с которыми характеристика предложений по отношению между субъектами и предикатами должна быть
ранжирована. Так, в своём опыте семиологической грамматики он выделяет три таксономических класса: "Я"-предложения, "Он"-предложения и "Оно"-предложения (1981: 162—169).
Позже (Степанов 1998: 272—273; впервые это было опубликовано в 1990 г. в "Лингвистическом энциклопедическом словаре") он предлагает построенную на основе принципа градуальности таксономию, содержащую 7 классов. Иллюстрируются эти классы примерами:
Я говорю (лицо "Я");
Мальчик говорит (индивид-лицо, кроме "Я"); Камень упал (индивид не-лицо);
Все пришли; Все камни упали (определённое множество индивидов — лиц и не-лиц);
Цыплят по осени считают; Там что-то сыплется (неопределённое множество индивидов — лиц и не-лиц);
Меня знобит; Сегодня с утра морозит; В Москве светает (определённое по пространственно-временным границам явление внутреннего или внешнего мира);
Холодно; Темно; Плохо (неопределённое по пространственно-временным границам явление природы).
Однако при более детальном рассмотрении материала того же русского языка, а также материала других языков обнаруживается, что таких таксономических классов в движении от полностью безличных предложений к полностью личным предложениям в универсальной схеме может быть выделено больше семи.
Отсюда вытекает пронизывающая данную диссертацию основная идея, что центром категории персональности с точки зрения универсологической должны считаться не морфологические средства. Наличие тех или иных персональных значений задаётся по существу глубинной структурой предложения, а именно спецификой связей
структурой предложения, а именно спецификой связей между субъектом и предикатом предложения, спецификой субъектно-объектных структур, семантическими ролями актантов, реализуемых в позициях субъекта и объекта (объектов).
Главная цель данной диссертации заключается в целостном, комплексном представлении универсальной когнитивно-коммуникативной категории персональности. Во главу угла ставится предложение, и анализ направлен на то, чтобы выявить как персональные значения этой структуры в целом, так и персональные значения, присущие отдельным конституентам предложения. Ведущая роль в обозначении носителей персональных отношений, по мнению автора диссертации, принадлежит собственно личным местоимениям, которые представлены во всех языках мира.
На защиту выдвигаются следующие положения, полученные в ходе диссертационного исследования:
Значения категории персональное фиксируют не просто отношения между субъектом предложения и его предикатом, как это часто утверждается в лингвистической литературе, а отношения между членами триады «субъект или объект предложения — партиципант описываемой ситуации — участник коммуникативного акта».
Семантическое ядро категории персональности образуют значения, присущие предикату предложения и его предметным переменным — субъекту и объекту (объектам).
Носителями собственно персональных отношений выступают лица (люди), являющиеся референтами субъекта и/или объекта и «именуемые» личными местоимениями.
В характеристике предложения по персональности должны учитываться такие специфические черты субъекта и объекта (или объек-
тов), как одушевлённость, принадлежность к классу людей, а также характер выражаемых субъектно-объектных отношений, присущие актантам семантические роли. 5. При установлении типов предложений во внимание должны приниматься как форма предикатного конституента, так и пучки значений, присущих актантам предложения.
Эти положения обладают свойством новизны. Они по существу впервые выдвигаются в лингвистической литературе, посвященной проблеме персональности.
Их теоретическое значение состоит в том, что они углубляют наше знание о природе языковых категорий вообще и о структуре когнитивно-коммуникативной категории персональности в частности.
Прикладная значимость этих положений заключается в возможности использовать их в университетских курсах общего языкознания, теоретической грамматики, интерпретации текста, в спецкурсе контен-сивной типологии.
Основные положения, полученные в итоге диссертационного исследования, были апробированы автором в ряде докладов (научно-методическая конференция в Удмуртском государственном университете, февраль 1999 г.; научно-теоретические семинары кафедры общего и классического языкознания Тверского государственного университета в 1999, 2000 и 2001 гг.), а также в 3 статьях.
В диссертации материал распределён по двум основным главам. Глава первая «Категория лица как ядро категории персональности» содержит характеристику языковой категории вообще и даёт представление о категории лица, которая может быть присуща как глаголу, находя выражение в его синтетических и аналитических формах, так и существительному, где её значения выражаются в особых формах скло-
нения. Даётся также представление о категории персональности и её полевой структуре.