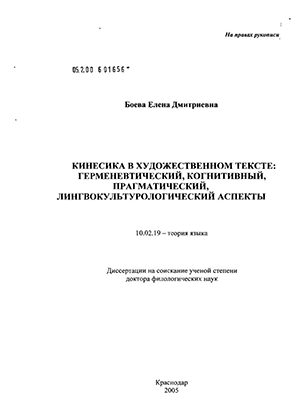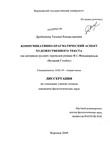Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Лингвистические проблемы кинесики
1.1. История лингвистического изучения кинесики 17
1.2. Национально-культурные, возрастные, половые и социальные кинетические коды 38
1.3. Аспекты перевода кинесики 83
ГЛАВА 2. Информативность кинесики
2.1. Коммуникативно-информативная функция кинесики ПО
2.2. Информация о национальной принадлежности 150
2.3. Информация о социальных и тендерных факторах 176
2.4. Информация о ментальності! и характере личности 189
2.5. Информация об эмоциональном и физическом состоянии 197
2.6. Информация о взаимоотношениях 218
ГЛАВА 3. Особенности восприятия и интерпретации кинесики
3.1. Восприятие и интерпретация как лингво-прагматическпе проблемы 235
3.2. Интерпретация кинесики автором художественного произведения..." 247
3.3. Роль стереотипов в интерпретации кинесики 268
ГЛАВА 4. Воздействуящая роль кинесики
4.1. Эмоционально-ролевое воздействие 282
4.1.1. Бессознательное воздействие эмоций и чувств, выраженное паралингвистическими средствами 291
4.1.2. Кинесика как конфликтоген для собеседника
4.2. Информационно-интеллектуальное воздействие 312
4.3. Перлокутивность как интерпретация скрытой информации 326
ГЛАВА 5. Аксиологичность кинесики
5.1. Этичность и нравственность/безнравственность кинесики как следствие её оценки 343
5.2. Ошибочность оценки кинесики в коммуникации 365
Заключение 382
Библиографический список 4
- Национально-культурные, возрастные, половые и социальные кинетические коды
- Информация о социальных и тендерных факторах
- Роль стереотипов в интерпретации кинесики
- Информационно-интеллектуальное воздействие
Национально-культурные, возрастные, половые и социальные кинетические коды
Существенным для передачи языковой информации является способ использования человеком любых неязыковых средств, функциональное их преобразование в процессе речи. По свидетельству Ю.С.Степанова, естественный язык тесно соприкасается (и даже сливается иногда) с другой, ближайшей к нему семиотической системой — системой жестов. При выборе средств выражения говорящий выбирает иногда не только между чисто языковыми средствами, но и между языковыми, с одной стороны, и неязыковыми — с другой (Степанов 2003).
Поэтому, как указывает Г.В.Колшанский, «для лингвистики существенным является исследование способа включения посторонних для языка средств в процесс речепроизводства как вспомогательных факторов, функционально входящих в акт коммуникации» (Колшанский 1974, с. 69).
Сознание необходимости включения в той или иной форме в сферу лингвистического исследования факторов, непосредственно сопровождающих речь (звуковые средства, мимика и жесты), в современном языкознании было сформулировано еще в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» (Пражский лингвистический кружок 1967).
Ф.де Соссюр подчеркивал необходимость изучения языка в его взаимодействии с другими знаковыми системами языка реальной летни: «тот, кто хочет обнаружить истинную природу языка, должен, прежде всего, обратить внимание на то, что в нем общего с иными системами того же порядка» (Соссюр 1977, с.55); «при рассмотрении обрядов, обычаев и т.д. в качестве знаков, все эти явления не только выступят в новом свете, но и прольют свет на лингвистические проблемы» (там же, курсив наш).
Значения, заключенные в тексте, не всегда передаются только вербальными средствами. Для этого существуют и средства невербальные, иараязыковые; в рамках высказывания и межфразового единства это может быть порядок слов, соположение частей, знаки препинания; для акцентирования значений — средства выделения (курсив, разрядка и др.) В рамках более сложных компонентов текста таких нсвербализованных значений может оказаться значительно больше. Например, использование знаков вопросительного и восклицательного, замещающих целые реплкики диалога. Изображение пауз, заминок в речи, резкого интонационного перелома осуществляется при помощи знаков препинания. Тембр, интенсивность, паралингвистическое сопровождение речи изображается обычно описательно - кричат, размахивал руками; посмотрел, сощурил глаза (Волгина 2003, с.22-23). Однако такое словесное описание мимики и жестов может быть избыточным, совершенно необязательным. В качестве примера приведем несколько курьезную историю, опубликованную в «Книге рекордов Гиннеса»:
Желая узнать у своего книгопродавца, как продается его новый роман «Отверженные», Гюго послал последнему письмо, содержащее всего один знак - «?». Книгопродавецответил пись мом тоже аз одного знака- «!». Роман продавался отменно! (Книга рекордов Гиннеса 1999). Т. Ван Дейком было введено понимание прагматического контекста, который включает такие элементы, как исходный контекст коммуникации, социальный контекст, схемы конвенциональных установок. При анализе прагматического контекста целесообразно задействовать все уровни (семантический, синтаксический, лексический, фонетический и паралингвистический). Именно комплекс этих средств позволяет адресату определить интенцию говорящего и соответственно реагировать на нее, произнося речевой акт определенного типа (Ван Дейк 1989). Развивая идеи Т. Ван Дейка, Г.В. Колшанскнй дополняет, расши ряет и уточняет понятие прагматический контекст, предлагая термин паралиигвистичекий контекст. Он высказывает мнение о том, что
«наряду с широким ситуационным паралингвистическим контекстом,
устное общение пользуется типизированными, физическими
проявлениями говорящего субъекта, направленными на ориентацию слушающего однозначно воспринимать высказывание. К этим средствам относится прежде всего жесты и мимика. По обычному определению к жестам относятся различного рода телодвижения, а к мимике -выражение лица говорящего» (Колшанский 1974, с. 48).
Термин «паралингвистика» был предложен американским лингвистом А.Хиллом (Николаева, 1968). Позднее границы паралингвистики очертил Дж.Трейгер, ключив в область изучения паралигнвистики 1) явления звукового характера; 2) голосовые качества; 3) мимические явления; 4) явления, уточняющие речевые высказывания (жесты-указатели и др.) (Трейгер 1958). Исследования в области паралингвистики вскоре получили продолжение в работах Д.Криетал и Р.Кирк (1964), М.Ренски (1966) и др. Г.В.Колшанский подчеркивает, что «понятие паралингвистика есть, прежде всего, функциональное понятие, и поэтому паралингвистику следует определять как вспомогательную область лингвистики, изучающую функциональное использование неязыковых средств для формирования конкретного речевого высказывания» (Колшанский 1975, с.218). «Соотношение фонетической, лексической и грамматической структуры речевого акта с неязыковыми средствами, способствующими формированию однозначно воспринимаемого речевого сообщения, и есть важнейший объект изучения паралингвистики. Поэтому она должна быть наукой, ставящей себе задачу непосредственно лингвистического истолкования неязыковых факторов применительно к конкретной структуре речевого высказывания, задачу изучения функциональных связей, возможностей границ, типов этих факторов и их взаимодействие с языковой структурой» (там же, с.220, курсив наш. - Е.Б.).
Н.М.Николаева разграничивает широкое и узкое понимание паралингвистики. «В широком смысле паралингвистичсскими (от греч. слова пара - «около») считаются все явления, сопровождающие языковую деятельность в любом понимании слова «язык», будь то кодифицированный язык жестов, письменный язык, язык пантомимы и т.п. В узком смысле слова говорят о собственно паралингвистике (сопровождении звуковой речи), паракинесике (сопровождении движений), параграфемике (сопровождении письма или рисунка) и т.п. (Николаева 1968). К иаралингвистическим коммуникационным средствам относят лишь такие жесты, которые не составляют сами по себе самостоятельного языка .
Информация о социальных и тендерных факторах
Между лингвистическими и паралингвистическими элементами, сопровождающими речь, могут быть, в рамках одного языка, отношения функциональной синонимии и перевода. Так, некоторые слова-сорняки («это самое», «значит», «короче») функционально эквивалентны чисто паралингвистическим явлениям (например, "мычанию" при подборе мыслей или волнении). В тексте в таких случаях применяются маркированные параязыковые заполнения, разрядка, многоточия: - А-а-а!.. — сказал Ипполит Матвеевич, леденея. — Властью рабочих и кретьян? - Да-а-а-с! - М-м-м!.. Так, может быть, вы, святой отец, партийный? Играя на подобной информативности, политики и их имиджмейкеры зачастую сознательно прибегают к разного рода манипуляциям. При этом может оказаться довольно значимой роль тендерного фактора. По словам специалиста, работавшего одно время над имиджем А.Лебедя, из будущего губернатора сознательно лепили образ "секс-символа российской провинции: Лебедь удовлетворял женским представлениям об идеальном мужчине-защитнике. Физически сильный, с грубым голосом и квадратным лицом - о таком «мужике» в глубине души мечтает почти каждая женщина. Его нарочно не стригли коротко - несколько небрежная шевелюра только усугублял образ этакого «деревенского мужлана». Лебедь даже не подозревал о том, что мы специальными техническими средствами еще больше понижали тембр его голоса. Чем ниже бас, тем выше женщины оценивают достоинства политика» (Шейнов 2003 (б), с.833-834).
Как известно, имидж — целенаправленно формируемый образ-представление - реализуется с помощью вербальных и невербальных средств как на уровне межличностного взаимодействия, так и в социальном контексте. По мнению Н.Н. Панченко, понятие «имидж» неотделимо от понятия «ложь»: «Социальная природа лжи проявляется и в имидже, и в намеренной стилизации, "симуляции" более высокого социального статуса, нежели реально существующий» (Панченко 2004, с.23).
8) Особую семиотическую нагрузку в коммуникативном акте несет молчание, которое зачастую представляет собой «продолжение беседы» (Бахтин 1975). Как в звуковом языке отсутствие лексической единицы на подобающем ей месте несет информацию, так и «нулевые» мимика и жесты значимы часто не менее, чем исполненные. Отсутствующие, «нулевые» слова и кинемы Г.Е.Крейдлин рассматривает как «переход к другому семиотическому коду», противопоставляя молчание не говорению как таковому, а передаче информации речевым или парарече-вым способом и различая два вида молчания: а) молчание с параязыко выми и жестовыми заполнениями и б) молчание с полным отсутствием голосовых звуков и жестов (Крейдлин 2001, с. 180). Ы.Н. Панченко соотносит молчание с замаскированной ложью: «молчание, являясь коммуникативно значимым, может выступать в двух ипостасях: "молчание для говорения" и "молчание вместо говорения". Если в основе пассивной лжи лежит замалчивание всей информации полная пассивная ложь, если замалчиваются отдельные элементы — частичная пассивная ложь. (Панченко 2004, с. 16). Представляется целесообразным считать молчание, в зависимости от коммуникативной ситуации, как замаскированной ложью, так и замаскированной правдой. Как видно из примеров, выразительные и информативные возможности молчания без паралингвичтического сопровождение весьма значительны: Er schweigt, sein Schweigen aber spricht Bande (B.Uhse, «Wir Sonne»). - On молчит, но его молчание красноречивее всяких слов; Crescenz hatte sich ganz in ihr altes Schweigen verpanzert. Aber dies Schweigen war aggressiv und gefahrlich geworden (S. Zweig, «Leporella»). - Крещенца замкнулась в молчании. Но в этом молчании было что-то вызывающее и опасное (пер.П.Бернштейн); Своих многочисленных угодников и подхалимов Тамара снисходительно презирала. Тех же, кто молчанием и взглядами показывал, что понимает механизм ее деятельности, она остро ненавидела и преследовала (Е.Гинзбург, «Крутой маршрут»);
Дочь казалась загадочной — всегда молчит. А последнее время до такой степени, что Лида решила, не беременна ли... (С.Довлатов, «Компромисс»).
Выразительные возможности молчания в сочетании с параязыко-выми элементами и жестами не менее широкие, чем при полном молчании (Крейдлин 2001, с. 180), что также подтверждается примерами: Поэтому очень сейчас лиш нравиться начальство, именно в данный момент. Как никогда, очень понимающее среднее звено нижней половины верха. Спросишь «почему!» - он пальцем вверх, а «если попробовать?» - on вниз. Все понимает в основном. Знает, на что шел, умница (М. Жванецкий, «Шестидесятые. Семидесятые. Восьмидесятые. Девяностые»).
С функциональной, семантической и прагматической точек зрения молчание (паузации) в акте коммуникации может обозначать целую ситуацию или фрагмент ситуации, выступая как аналог высказывания (языкового или параязыкового), функционально соответствуя диалогу:
Niemals sagte sic cine Antwort oiler einen Trost; stumm in sick selbst gckehrt, safi sie da, blickte nur manchmal тії einem zuhorenden В lick mideidig und gequdlt zu dem geknechteten Gotte auf, und diese wortlosc Anteilnahme tat ihm wohl (S. Zweig, «Leporella»). - Ни разу не произнесла она в ответ пи слова, ни звука; безмолвно, погруженная в себя, сидела она, изредка взглядывая на него внимательным, полным сострадания взором, и этим безмолвным участием помогала ему (пер.П.Бернштейн); Артист осведомился, нет ли еще желающих сдать валюту, но получил в ответ молчание. - Чудаки, ей богу! — пожав плечами, проговорил артист, и занавес скрыл его (М.Булгаков, «Мастер и Маргарита»); - Ну, как дела в Америке? Говорят, там водка продается круглосуточно?... А пиво? - Пиво в ночных магазинах сколько угодно. Следует уважительная пауза. И затем: - Молодцы, капиталисты, дело знают (С.Довлатов, «Сочинения»). В процессе коммуникации к молчанию зачастую прибегают как к средству маскировки недостаточной компетенции, пробелов воспитания и под., что находит отражение как в устном народном творчестве («Молчи побольше - сойдешь за умного»), так и в художественных текстах:
Роль стереотипов в интерпретации кинесики
В последние десятилетия на передний край современной науки выдвинулась теория коммуникации, которая разрабатывается в различных аспектах. «Межличностное взаимодействие предполагает все точки человеческого бытия, где пересекаются культурные ценности, а также социальные интересы индивида. Межличностное взаимодействие, реализуясь в социальных ситуациях, регулируется в данном обществе определенными конвенциями. Индивид не существует вне определенной социальной общности и, будучи включенным в социальную коммуникацию, несет в себе множество клановых интересов - от государственных до семейных» (Панченко 2004, с. 12).
Одним из наиболее интересных в теории коммуникации остается вопрос о различных способах передачи информации. В современной науке понятие «информация» трактуется как обмен между людьми различного рода знаниями и сведениями (Грушевицкая, Попков, Садохин 2002, с.297). В течение долгого времени лингвистическая наука концентрировала свое внимание на вербальном способе передачи информации. Вместе с тем достижения различных гуманитарных областей и, в частности, социальной психологии, семиотики, теории коммуникации, психолингвистики показывают, что невербальному компоненту в коммуникации принадлежит весьма значительная роль. Жест, мимика и звуковая речь связаны теснейшим образом в процессе коммуникации. В истории языкознания интерес к жестам и мимике как к аспектам коммуникации известен еще с античных времен, когда проблема происхождения языка выдвинула теорию, согласно которой базой для развития вербального языка послужил жестовый язык древнего человека; существует мнение, что именно в этом заключена первопричина связи жеста, мимики и слова. «Уже в инстинктивной мимике люди должны были открыть средство взаимного общения: человек по жесту другого узнавал волнующее его чувство — страх опасности или радость находки» (Гершензон 1922, с. 127).
Е.А.Васняцкая, ссылаясь на исследования Николаевой (1972); Колшанского(1974); Горелова (1980); Толковой, Воронина (1987); Богданова (1990); Чертова (1993), отмечает, что в последнее время изучение невербальной коммуникации дает более продвинутый результат благодаря исследованиям семиотики, психолингвистики и теории коммуникации.
С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что при общении «во взаимоотношениях субъектов нет никакой принципиальной привилегии у моего частного «я». Поэтому отношения между различными частными «я» обратимы. Теоретически не существует никакого преимущества для вот этого, данного «я». Мое отношение к другому предполагает и отношение другого ко мне: «я» такой же другой для того, которого я сперва обозначил как другого, и он такой же «я», как я» (Рубинштейн, 1998, с.87).
В общении как диалоге сообщение информация интерпретируется партнером и в преломленном, интерпретированном виде возвращается собеседнику для дальнейшей обработки. В силу активности отправителя и получателя информации, объем и значимость последней увеличиваются, расширяются, обогащаются. Общение - это не прямая и обратная связь как самостоятельные, разнонаправленные процессы, но единый нерасчлененныи процесс циркуляции информации ( - ). Общение является межсубъектной связью, где исходным условием является индивидуальное своеобразие партнеров и существует диалектика различия и стремление к единству, приближения субъекта к субъекту. Цель общения действующих субъектов состоит в том, чтобы достичь общности свободными совокупными усилиями при сохранении личной индивидуальности.
Общение, таким образом, предполагает не просто передачу информации или обмен сообщениями, но процесс выработки новой информации, общей для коммуникантов, их совместный творческий синтез идей, превращение состояния каждого партнера в их общее достояние. В таком диалоге информация от отправителя к получателю представляет собой не просто передачу информации, но допускает наставление примером, знаниями, опытом.
Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков и А.П. Садохин в «Основах межкультурной коммуникации» разграничивают два вида общения -деловое и интимно-личностное. На уровне делового общения происходит совместное сотрудничество, поэтому целью общения на этом уровне является повышение эффективности совместной деятельности. Партнеры оцениваются с точки зрения того, насколько хорошо они выполняют свои функциональные обязанности и решают поставленные перед ними задачи. На ишпшшо-личностном уровне общения человек удовлетворяет свою потребность в понимании, сочувствии, сопереживании. Обычно для этого уровня характерны психологическая близость, эмпатия, доверительность (Грушевицкая, Попков, Садохин 2002, с.308).
Сущность диалогичности общения может быть раскрыта наиболее полно теми чертами, о которых говорил М.М.Бахтин по отношению к слову: «В общении информация от отправителя установлена на ответ, она провоцирует ответ, предвосхищает ответ и строится в направлении к нему» (Бахтин, 1975, с. 158).
Информационно-интеллектуальное воздействие
Такой паралингвистический фактор, как голос, тоже может маркировать социальные признаки личности. Экспериментально доказано, что лишь но звучанию голоса многие люди безошибочно определяют пол, возраст и социальный статус отправителя речи. Более 70 лет назад Т.Пиер (Pear 1931) провел первое исследование, посвященное свойствам голоса и оценке личностных характеристик. Четыре тысячи английских радиослушателей оценивали голоса 9 человек. Пиер обнаружил, что возраст говорящих был определен достаточно точно, пол говорящих - очень точно, место рождаения - с незначительной точностью. Кроме того, иногда слушатели с поразительной точностью распознавали профессию говорящего. Из девяти участников слушатели неизменно точно узнавали актера и священника. Впоследствии, как отмечают М.Нэпп и Д.Холл, было проведено много других исслдедований, в которых оценивались такие характеристики говорящих, как телосложение, рост, вес, возраст, профессия, социальный статус или класс, раса, пол, образование, диалекты. Достаточно точно определялись следующие три хараткеристики: пол, возраст, социальный класс или статус (Нэпп, Холл 2004, с.216). Причем результаты ряда исследований показали, что слушатели не просто могли определить статус говорящего, но многие из них сообщали о том, что им было достаточно 10-15 секунд, чтобы сделать вывод. Кроме того, выяснилось, что говорящие, статус которых определялся как высокий, оценивались также как наиболее заслуживающие доверия (там же, с.218).
В следующем примере Корейко, прибегает к официальному тону бюрократа, который интуитивно отвратителен любому гражданину. Его цель - испугать Остапа, заставить его уйти, На таком фоне фраза "Уходите, гражданин!", в норме выражающая просьбу, приобретает коннотативное значение - угрозы и приказа. - Уходите, гражданин! - сказал Корейко голосом геркулесовского бюрократа. - Уже третий час ночи, я хочу спать, мне рано на службу идти (И.Ильф, Е.Петров, «Золотой теленок»). Авторы следующего примера намеренно декодируют паралингвистический элемент для того, чтобы вызвать у читателя конкретное, однозначное впечатление о манере разговора, которой пользовался Бендер: Остап говорил в скверной манере дореволюционного присяжного поверенного, которым, ухватившись за какое-нибудь словечко, уже не выпускает его из зубов и тащит за собой в течение всех десяти дней большого процесса (И.Ильф, Е.Петров, «Золотой теленок»).
Среди социальных факторов общения значительная роль принадлежит тендерному фактору. Понятие гендера — основного различия между полами — конкретизируется в сложном, многоаспектном процессе социализации, в ходе которого индивидом усваиваются культурные и социальные правила, присущие его полу. Тендер означает сумму представлений и ожиданий, которые общественное мнение связывает с женственностью и мужественностью. «Гендеризация привела к тому, что ранее размытое телесное поведение мужчины и женщины приобрело четкие контуры. Тело стало тем местом, где сплавлены в единое целое общественная идеология и личностная идентичность» (Грошев 2000, с. 12).
На различия в невербальном поведении мужчин и женщин обратил внимание еще «отец» кинесики Р.Бирдвистел, выделив и описав в статье «Мужское и женское в жестовой коммуникации» наиболее значимые несовпадения по половому признаку в американской национальной культуре. Он, в частности, пишет: «— у человека, а, возможно, и у некоторых других биологических видов, — с необходимостью проявляются половые различия, которые обнаруживают себя в позах, телодвижениях и выражениях лица» (Бирдвистел 1970, с.42).
Понятие пола, так же, как и понятие возраста, дает значительно более глубокое по сравнению с принадлежностью к определенному общественному классу или какой-либо социальной группе понимание того, какой должна быть первичная природа индивида и в каких ситуациях и каким образом она может быть продемонстрирована, в том числе в кинетическом поведении; «— полоспецифическая телесная социализация превращает язык тела в третичный половой признак» (Achs 1993, с.27).
Ряд исследований (Summer 1969, Birdwistell 1970, Argile 1975, Atwater 1981, Hall 1982, Achs 1993, Крейдлин 2000 и др.) свидетельствует о значительной разнице между невербальным поведением мужчин и женщин. Считается, что невербальное поведение мужчин не может быть целиком сведено к понятию пола, скорее, оно служит выражением их статуса и индивидуальности. Невербальное поведение женщин в значительно меньшей степени указывает на их социальный статус, выражая, прежде всего, половую принадлежность. Мужская жестикуляция, в норме, более явственно символизирует аспект домимантности, нежели женская; мужчинам в большей степени свойственны такие жесты, как сжатие рук в кулаки, выпячивание груди, потираиие рук, удар кулаком, игра желваками и т.д. Женская жестикуляция содержит меньше властных знаков, более ограничена рамками приличий и понятием красиво/некрасиво, часто саморефлексивна (поправление прически и одежды, макияжа и т.п.).