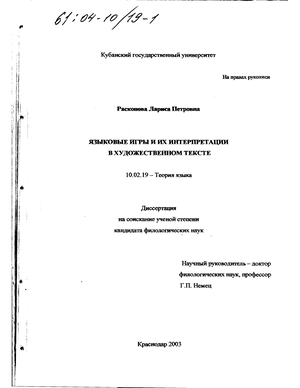Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Определение языковой игры
1.1 Лексико-семантические аспекты языковой игры 6
1.3 Языковая игра как специфический жанр речевых реализаций 30
1.4 Мировоззренческая концептуальность языковой игры 39
1.5 Выводы к первой главе 46
Глава 2. Образно-художественные реалии языковой игры
2.1 Семантика творческого вымысла в языковой игре 47
2.2 Описание героев и их действий в плане языковой игры 54
2.3 Двскригггивность жанровых, стилистических и других средств языковой игры 60
2.3.1 Изменение семантической направленности слова как средство языковой игры 61
2.3.2 Звукоподражание, звуковая схожесть как средство языковой игры 62
2.3.3 Фразеологизмы и устойчивые выражения как средства языковой игры 64
2.3.4 Формажно-грамматические интергіретации языковой игры...66
2.3.5 Имена, клички, названия как семантические средства языковой игры 68
2.3.6 Интонационные вариации как средства языковой игры 70
2.3.7 Пословицы и поговорки в плане языковой игры 71
2.3.8 Метафоризациякак фактязыковойигры 72
2.3.9 Сочетаемость грамматических форм как явление языковой игры 73
2.3.10 Этикет как аспект языковой игры 73
2.3.11 Логический фактор в плане языковой игры 75
2.3.12 Сатирическая и юмористическая направленность языковой игры 76
2.3.13 Использование латинских устойчивых выражений как языковая игра 77
2.3.14 Неологизмы и окказионализмы в языковой игре 78
2 2.3.15 Художественные образные средства как аспекты языковой игры 79
2.4 Авторские комментарии образности в языковой игре 81
2.5 Выводы к второй главе 87
Глава 3. Языковая игра в речевых реализациях героев произведений 88
3.1 Языковая игра в речевых реализациях в сказке «алиса в стране чудес» 90
3.1.1 Языковая игра в речевых реализациях (косвенная речь) 90
3.1.2 Языковая играв речевых реализациях (прямая речь) 100
3.2 Языковая игра в языке и речи в поэме «охота на снарка» 132
3.2.1 Языковая играв речевых реализациях (косвенная речь) 132
3.2.2 Языковая игра в речевых реализациях (прямая речь) 136
3.3 Языковая игра в речевых реализациях героев пюизведения «история с узелками» 140
3.3.1 Языковая игра в речевых реализациях (косвенная речь) 140
3.3.2 Языковая играв речевых реализациях (прямая речь) 143
3.4 Выводы к третьей главе 148
Заключение ...149
Литература 151
- Лексико-семантические аспекты языковой игры
- Языковая игра как специфический жанр речевых реализаций
- Семантика творческого вымысла в языковой игре
- Языковая игра в речевых реализациях в сказке «алиса в стране чудес»
Введение к работе
В лингвистической науке, также как и в культуре в XX веке прагматические аспекты языка выходит на первый план, главным становится действенность слова и искусства, которые должны вызывать активную немедленную реакцию у человека со стороны. Важным становится не то, что люди говорят, а как и зачем они это говорят, то есть для человеческого общения важны не семантика, а прагматика. На фоне появления новых ценностей исследование языковой игры в настоящее время становится наиболее актуальным. Либерализация культурных процессов, а также маюшулятивная функция языка как средства воздействия на массы со стороны средств массовой информации и рекламы, заставляют исследователей обращаться к теме языковой игры в различных ракурсах.
Ввиду масштабности явления языковой игры были предприняты попытки предложить исчерпывающую классификацию данного явления (Коновалова, 2001), провести общетеоретический анализ языковой игры в плане спектра ее функциональных возможностей в разных типах дискурса (Никишин, 2002). Языковая игра представляет собой обширное распространенное явление, и границы ее употребления не могут быть фиксированы. В настоящее время приемы языковой игры широко используются в рекламных текстах и в определенных инструментах средств массовой информации (телевидение, радио, газетные статьи). В качестве материала для исследования феномена языковой игры выступают в большинстве случаев газетные заголовки, анекдоты, рекламные тексты, детская речь. Художественный текст не в меньшей степени является носителем языковых экспериментов автора. Художественный текст является первоисточником, в котором при анализе контекста, творческого вымысла и намерений автора можно определить пути и методы создания игры. В данном исследовании мы предлагаем проследить закономерности возникновения и функционирования языковой игры в речевых реализациях художественного текста, акцентируя внимание на намеренном создании автором игры, ее прагматическом значении. В выявлении коммуникативных признаков авторской
языковой игры, закономерностей ее возникновения и нрагматической значимости заключается актуальность исследования и научная новизна настоящей диссертации.
Объектом исследования является языковая игра и многоаспектность ее проявления в художественной презентации.
Предметом исследования являются принципы возникновения, функциональности и интерпретации языковой игры в речевых реализациях художественного текста с точки зрения ее образно-художественных реалии, а также позиции и намерений автора.
Цель исследования заключается в обосновании возможностей возникновения языковой игры в речевых реализациях в произведениях разной целевой направленности.
Достижение указанной цели потребовало решения целого ряда задач:
изучение существующего научного материала по данной проблеме;
четкое определение понятия «языковой игры» в рамках данного исследования;
описание наиболее распространенных методов создания языковой игры;
анализ известных видов языковой игры в различных видах дискурса;
обоснование всевозможных функциональных эффектов языковых игр в речевых реализациях.
Материалом для исследования были выбраны разноплановые произведения известного экспериментатора над языком Льюиса Кэрролла: знаменитая сказка «Алиса в стране чудес», поэма-абсурд «Охота на Снарка» и малоизвестное произведение «История с узелками», текст которых рассматривается под углом зрения не только лингвистики, но и с позиций психолингвистики, теории художественного перевода и теории коммуникации. Все три произведения отличаются по стилю и жанру и направленности, что представляет особый интерес для анализа авторской языковой игры в речевых реализациях в
5 художественном тексте. Помимо этого материалом для данного исследования
послужили современные газетные и литературные тексты.
Основными методами исследования являются описательный, статистический, метод сравнительного и компонентного анализа.
Практическое значение работы заключается в том, что приведенные в ней анализ и примеры, а также основные теоретические положения могут быть использованы в курсах по общему языкознанию и теории перевода. Материалы исследования также могут найти применение при освещении проблем интерпретации текста, а также рекомендованы при написании курсовых и дипломных работ.
На защиту выносятся следующие основные положения:
Языковая игра представляет собой манипуляцию языковыми знаками, которая вносит в речь элемент неожиданности, нестандартности, и составляет основы лексико-семантических аспектов в речевой реализации. При этом язык игры рассматривается как специфический жанр, который служит средством достижения задуманного автором эффекта.
Семантическая сущность языковой игры включает в себя понятия «игра слов», «каламбур» и т.п., а также дискрептивность стилистических, логических и формально-грамматических средств выражения абсурдного и сказочного содержания.
Различные типы речевых аспектов в художественном тексте подразумевают неидентичность форм и функций языковой игры, реализуемых в косвенной и прямой речи.
Лексико-семантические аспекты языковой игры
В лингвистической науке практически все существующие модели языка обнаруживают целый ряд фактов функциональной предопределенности языка, производности от речевой деятельности и прагматических условий, как правило, определения его реализации. Понимание принципиального противоречия между конечностью языка (как устройства, механизма, системы) и его бесконечным использованием в бесконечно разнообразных речевых ситуациях имеет далеко идущие последствия для правильного понимания природы языка, поскольку это противоречие преодолевается, прежде всего, в самом языке, в принципах его устройства: все элементы языковой структуры адаптированы к их использованию в речи.
Феномен игры на протяжении многих веков привлекал внимание ученых разных направлений. Большой вклад в развитие теории игры внесли З.Фрейд (Фрейд 1989), Й.Хейзинга (Хейзинга 1992), А.Вежбицка (Вежбицка 19%), М.М.Бахтин (Бахтин 1976).
Понятие языковой игры было введено Витгенштейном в его работе «Философские исследования» и оказало значительное влияние на последующую философскую традицию. Согласно поздним взглядам Витгенштейна, понятие языковой игры служит для обозначения целостных и законченных систем коммуникации, подчиняющихся своим внутренним правилам и соглашениям, нарушение которых означает выход за пределы конкретной «игры». В текстах Витгенштейна встречаются три основных понимания языковой игры, дополняющие друг друга. Во-первых, это исходные лингвистические формы, с которых начинается обучение языку путем включения обучаемого в определенные виды деятельности. Во-вторых, «игры» рассматриваются как упрощенные, идеализированные модели употребления слов, последовательное усложнение которых демонстрирует динамику языка. И, наконец, социокультурный аспект «игр» отражен в понятии форм жизни. У языковых игр, по Витгенштейну, не может быть общего им всем признака; их следует классифицировать по принципу «семейного подобия», то есть, описывая цепочки взаимосвязанных или пересекающихся по отдельным признакам «игр». Пристальное внимание к «естественным» контекстам употребления слов должно, по Витгенштейну, способствовать «терапии» философских заблуждений, вызванных смешением правил различных игр.
Именно соединение речи и действия Витгенштейн называл языковой игрой. Речь является в свою очередь полем для развития динамичной языковой игры, поэтому интересно было бы рассмотреть некоторые аспекты лингвистики устной речи.
По наблюдениям лингвистов, три особенности внеязыковой ситуации влекут за собой использование разговорной речи: неподготовленность речевого акта непринужденность речевого акта непосредственное участие говорящих в речевом акте Непринужденность устной речи, ее главный компонент, создается за счет трех признаков: а) отсутствие официальных отношений между говорящими б) отсутствие установки на сообщение, имеющее официальный характер (лекция, доклад, выступление на собрании и т.д.) в) отсутствие условий, нарушающих неофициальность обстановки
К специфическим чертам устной разговорной речи относятся: многие элементы при устной коммуникации не имеют вербального выражения, так как они даны в самой ситуации - поэтому в отрыве от ситуации устная речь выглядит недоговоренной, жест и мимика входят как полнокровные члены акта коммуникации, в устном разговоре важнейшую роль играет интонация; велика роль неканонической, стертой фонетики.
Линейное протекание устной речи без возможности вернуться назад, обусловленное спонтанным характером устной речи, также оказывает большое влияние на все ее уровни.
Устная речь характеризуется двумя противоположными фундаментальными признаками - синкретизмом и расчлененностью. Пример расчлененности: «Дай мне, чем писать» вместо «Дай мне ручку». Пример синкретизма: широкое употребление слов с общим местоименным, прагматическим значением, например, «штука», «вещь», «дело» и т.д. Пример совмещения синкретизма с расчлененностью: «Дай мне эту штуку, чем точат карандаши». В письменной речи было бы: «Дай мне перочинный нож». Для синтаксиса разговорной устной речи характерны: отсутствие длинных законченных периодов, перестановка, повторение одних и тех же слов, нарушение правил канонического синтаксиса, отрывочность, незаконченность, когда интонация передает то, что не скажешь словами. Устная речь вообще не знает стандартного высказывания. Когда последователи логического позитивизма изучали язык, они, сами того не зная, исходили из норм письменного языка; поскольку устная речь находилась за пределами норм, она как будто не существовала. К тому же в начале века в образованных кругах полагалось говорить, ориентируясь на нормы письменной речи - говорить, как писать. Недаром Витгенштейн в «Логико-философском трактате» рассматривает лишь один тип предложения - пропозицию в изъявительном наклонении - ему этого казалось достаточным, чтобы описать весь мир. Однако, проработав шесть лет учителем в начальных классах в глухих деревнях, Витгенштейн пересмотрел взгляды на язык, и именно он первый как философ обратил внимание на тот кажущийся очевидным факт, что люди общаются не только повествовательными предложениями, но и задают вопросы, приказывают, восклицают, кричат и плачут, неразборчиво бормочут что-нибудь, и что все это тоже входит в человеческий язык. Отсюда и пошло понятие Витгенштейна - языковой игры как формы жизни. Цель данной научной работы рассмотреть принципы возникновения и функционирования языковой игры в текстах произведений Льюиса Кэрролла. Рассматривая текст произведения, мы можем вычленить и проанализировать в основном только языковую игру, в то время как существует понятие лингвистической игры.
Языковая игра как специфический жанр речевых реализаций
В данной работе нам интересно проанализировать возможности и условия возникновения намеренной игры с языком, определенного языкотворческого эксперимента с языком автора, который посредством создания игры преследует конкретные цели.
В исследованиях последних лет термин «языковая игра» получил несколько иную более узкую трактовку, нежели трактовка Витгенштейна: под языковой игрой понимается осознанное нарушение нормы. При таком подходе языковая игра противопоставляется языковой ошибке, которая возникает как следствие непреднамеренного нарушения нормы. При кажущейся очевидности и логичности такого противопоставления в современной языковой ситуации не всегда легко провести грань между ошибкой и игрой. Так, в лингвистических исследованиях последних десятилетий XX века все настойчивее звучит мысль о том, что на смену отношению «норма-ошибка» приходит отношение «норма-другая норма». «Другие нормы» - это стилистическая и контекстная, или ситуативная, то есть то, что традиционно квалифицировалось как ошибка, например, неоправданное употребление прописной буквы в современных рекламных текстах, в аббревиатурах, воспринимается при таком подходе не как нарушение орфографической нормы, а как реализация коммуникативной нормы, определяющейся задачами рекламного текста. Отметим также тот факт, что языковая ошибка имеет тенденцию к превращению в языковую игру. Так, в одном исследовании приведены примеры употребления так называемых языковых ошибок «в интеллигентской речи» и создание аналогичных окказиональных форм в качестве языковой игры, например: смогёшь, текст, хочете, уходю, сидю, просю и т.д.
Таким образом, речь идет о новом типе нормы - коммуникативной, на которой, собственно и основана языковая игра.
Мы попытаемся охватить те жанры, для которых особенно типична языковая игра, или наоборот, где неожиданно игра преображает текст.
Общеизвестно, что составляющими языка газеты являются стандарт и экспрессия, особенно усиливающаяся экспрессия, связанная с общим процессом демократизации, точнее либерализации. Действительно, самые незыблемые нормы теряют сегодня свой категорический характер и преднамеренно нарушаются. Сказанное относится, в первую очередь, к таким «догматическим нормам», как орфографические и графические. Именно здесь происходят самые заметные изменения, своеобразная революция в области норм.
Исследователи современной газетной речи отмечают активизацию в ней зазывной и эмоциональной функций, которые усилились в настоящее время, как усилилось стремление к броскости. Достаточно посмотреть на современную рекламу с ее порой навязчивой зазывностью, реализуемой с помощью броскости. Многие средства для выражения в языке рекламы такого свойства как броскость были заимствованы языком газет. Современные рекламные и газетные средства дают богатый материал типов нарушения действующих орфографических и графических норм с целью создания языковой игры. В рекламных текстах это игра с цветом, использование латиницы (HCKRENEE ТЕЛЕВИДЕНИЕ - реклама RENV; SOSTABb КОМПАНИЮ ЖИВЫМ - реклама наркологической клиники), использование символов (Окна, котороые хранят t?eroio), использование прописной буквы (ФАНТАстическое предложение - реклама напитка «Фанта») и т.д.
В большинстве случаев языковые игры, построенные на использовании прописной буквы внутри слов, используются в газетных заголовках («Нефть под ОПЕКой США», «Что ПАСЕют чеченцы в Страсбурге?»). Даже самый беглый взгляд на приведенные аббревеатуры позволяет говорить о том, что большая
По причине распространения языковой игры на газетной полосе журналист і и читатель постоянно пользуются двойным языковым кодом, переходя с 1 эксплицитного способа выражения и восприятия смысла на имплицитный и і наоборот, вследствие чего и тот и другой находятся в положении «человека играющего».
Теперь обратимся к другой особенности языковой игры, когда функции языковой игры и языковой шутки объединяются. Автор называет речевую шутку языковой и определяет ее как цельный текст ограниченного объема (или автономный элемент текста) с комическим содержанием. И добавляет, что это языковая неправильность (или необычность) и, что очень важно, неправильность, осознаваемая говорящим (пишущим) и намеренно допускаемая. При этом слушающий (читающий) также должен понимать, что это нарочно так сказано, иначе он оценит соответствующее выражение просто как неправильность.
При строгом разграничении языка и речи шутка, конечно, явление речевое, но важно подчеркнуть, что создается она средствами языка. Ведь шутку можно создать средствами изобразительного искусства (карикатура, дружеский шарж), фотографии (например, фотомонтаж), танца, пантомимы, музыки. Но средствами языка создаются юмористические, иронические и сатирический тексты, которые не назовешь словесной шуткой. В.Санников в своей монографии «Русский язык в зеркале языковой игры» отмечает, что каждая словесная шутка «имеет юмористическую, ироническую или сатирическую направленность, но, в отличие от юмора и сатиры, которые в ряде случаев читаются между строк, как бы разлиты по всему тексту, иногда очень большому, шутка сохраняет автономию внутри произведения и может быть извлечена из него. Речевая шутка порой заключена в одном слове (например, в ремарке Маяковского «Публика сидит и тихо шейдеманит» от фамилии Шейдеман).
Семантика творческого вымысла в языковой игре
Сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» ценна для нашего исследования с точки зрения уникального художественного произведения, в котором частью вымысла является индивидуальный авторский игровой язык. Авторскому стилю Кэрролла мы уделим внимание позже, в данном разделе мы рассмотрим художественный текст произведения и особенности художественного вымысла Кэрролла.
Всякий художественный текст уникален, отличается от всех прочих. Это свойство обеспечивается нечеткостью и многозначностью его смыслов и, следовательно, их потенциальной бесконечностью. Ведь существует огромное множество художественных текстов, и если взять какой-либо из них, то он должен быть другим по отношению ко веет остальным. Интерпретируя художественный текст, исследователь при неизбежном углублении уменьшает степень неопределенности и многозначности его смысловой сферы. Но полностью устранить неопределенность интерпретатор не может - это привело бы к игнорированию самой природы художественного текста. Значит, стремление к наиболее полному и адекватному истолкованию должно привести к бесконечной интерпретации, то есть таковой, в которой описывалось бы если не все, то почти все бесконечное множество смыслов текста.
Разумеется, этот вывод носит слишком теоретический характер. В действительности никто никогда не может предложить бесконечную интерпретацию. Однако практика истолкования художественных текстов свидетельствует о тенденции, подтверждающей теоретический вывод. Достаточно сравнить объем текстов, созданных, например, Пушкиным, Достоевским, Гоголем или Толстым, с во много раз превышающим их количеством и объемом литературоведческих и философских текстов-интерщ)етаций.
Таким образом, потенциальной смысловой бесконечности художественного текста соответствует потенциальная бесконечность множества его интерпретаций. Важно также прояснить разницу между текстом и художественным произведением, а также особенности восприятия именно художественного произведения.
С позиции получателя и относительная объективность, и относительная субъективность в восприятии текста равно важны. Без первого невозможно лингвистическое изучение текста, без второго - его понимание именно как художественного. Цричем оба этих аспекта бытия текста трудно отделимы друг от друга, между ними нет четкой границы. Тем не менее ясно, что текст, взятый в формальном аспекте, наиболее стабилен и объективно независим, в то же время содержание, воспринимаемое читателем и интерпретатором, будет в максимальной мере субъективным. Получатель из формально-семантической конструкции текста как бы извлекает содержательно-смысловую картину, соотносимую с той, что была заложена в тексте автором. Это и есть произведение.
В большинстве литературоведческих работ понятия «текст» и «произведение» употребляются недифференцированно. Когда же возникает необходимость их различения, то оно неизбежно отталкивается от того, что есть текст. При всем многообразии определений текста имеется устойчивый общий набор его признаков, произведение же обычно понимается как некое сложное содержание, вырастающее из текста и основанное на нем; текст осознается как более общее понятие.
Произведение может быть истолковано как то содержание, которое производится читателем при восприятии текста и которое обусловлено не только текстом, но и жизненным опытом получателя, культурной средой, вкусом, идеологией. Все это сочетается с тем сюстоятельством, что само производство произведения далеко не всегда сопровождается анализом текста. Более того, произведения литературы, кино, живописи предназначены в основном для потребителей, не готовых к анализу их текстов-носителей, однако если говорить о наших современниках, то они в силу привычки уже просто нуждаются в таких произведениях. В итоге для наивного читателя произведение - это стихийная и по большей части бессознательная интерпретация текста без анализа.
Языковая игра в речевых реализациях в сказке «алиса в стране чудес»
В самом начале произведения мы встречаем Алису, которая рассуждает и беседует сама с собой и уже в этом отрывке ясно виден стиль Кэрролла. Очень легко и свободно Кэрролл описывает поведение своей героини и в то же время обычно не дает оценки ее действий, а его редкие объяснения довольно кратки и сдержанны.
В данном примере нас интересует создание юмористического эффекта в фразах: "Едят ли мошки кошек?" у Демуровой и "Летучие кошки, мыши на крыше" в переводе Набокова.
В тексте оригинала языковая игра основана на звуковом сходстве (частичной омонимии) слов cat - bat (кошка - летучая мышь). Обратим внимание на то, как незаметно и ненавязчиво Кэрролл вводит эту забавную игру в текст, ведь Алиса не просто шутит и путает слова, а начинает дремать в воздухе. Эта манера автора вуалировать свои шутки сохраняется на протяжении всей сказки, ведь ни разу Алиса не предстает перед нами в роли шута или остроумной девочки. Кэрролл представляет нам совершенно сформированный характер своей героини и то, что с ней происходит, а следовательно те языковые игры, в которых участвует Алиса, является и причиной и следствием именно такого характера. Поэтому в примерах мы постараемся иногда говорить также об этом аспекте. Переводчики используют разные художественные средства для создания языковой игры в тексте перевода, но сохраняют основу ее построения в оригинале - звуковое сходство слов-инструментов игры. Демурова меняет слово bats в оригинале, и в переводе получаем рифму «кошки мошки». На наш взгляд, такая лексическая замена довольно удачна, хотя для этого Демурова опустила фразу Алисы, где она говорит о внешней схожести между летучими мышами и просто мышами (...but you might catch a bat, and that s very like a mouse you know). Тем не менее, в переводе Демурова оставляет синтаксическую форму игры - вопрос, который Алиса задает сама себе и оставляет без ответа. Набоков не меняет лексические компоненты игры - летучая мышь и кошка, но для создания рифмы, без которой Алиса не смогла бы перепутать слова, Набоков вводит дополнительный компонент - слово «крыша». Таким образом мы получаем «кошки на крыше, летучие мыши» и рифма Набокова вырастает до трех слов «кошки-мыши-крыша». На наш взгляд, это неожиданно новый подход, хотя перевод получился более сложным. Хотелось бы также обратить внимание на перевод стиля речи Алисы. Набоков смог более верно те средства английского языка, которые отражают вежливость и корректность англичан вообще. (There are no mice in the air, I m afraid, but you might catch a bat, ...). В то же время Демурова использует неподходящее по стилю Алисы выражение «хоть отбавляй», причем в оригинале Алиса не говорит ничего о количестве летучих мышей в воздухе. В следующем примере Кэрролл описывает приземление и дальнейшие действия Алисы. Заметим, что уже здесь можно сказать, что автор рисует очень быструю смену картин, сжато и четко описывает движения и действия своей героини. Кэррол использует инверсию, которую можно расценивать, как формально-грамматический аспект игры, сочетаемый с интонационным выделением определенного смыслового значения. В данном случае читатель ясно видит все напряжение и стремительность действия. В то же время Алиса проявила себя очень решительной девочкой, движимой пока еще только любопьггством.
В переводах Демурова употребляет эмоционально-окрашенный глагол «помчалась» и не переводит сравнение в оригинале "like the wind". Заметим также, что выражение "how late it s getting" Демурова переводит как: «Как я опаздываю!». Далее мы узнаем, что Кролик действительно опаздывал, но, на наш взгляд, правильнее перевести все же вариантом Набокова «как поздно становится». Ведь тогда Кролик мог подразумевать, что да, действительно он опаздывает (например, «Как поздно становится, и я уже не успею, опоздаю»), или тот факт, что уже не утро, а вечер («Как поздно становится, уже темно и страшно»). Ведь читатель оказался в стране чудес, и он еще не должен ничего знать или догадываться наверняка вместе с Демуровой.
Перевод непосредственно интересующей нас первой части примера тоже более удачный у Набокова, так как он нашел в русском языке соответствующее сравнение, а употребив два эмоционально-окрашенных глагола смог передать функцию инверсии в оригинале. Все вместе это передает задумку оригинала.
В начале второй главы Алиса уже имеет опыт приобретать разные формы и объемы своего тела, и читатель довольно хорошо уже узнает героиню. Дело в том, что Кэрролл заставляет Алису все время говорить; ее рассудительность и беседы с собой не знают границ. И в этом примере Алиса все еще одна, единственный кого она знает в удивительной стране это Белый Кролик, тем не менее, плачет она или улыбается, Алиса все время разговаривает сама с собой.
Иногда незаметно в тексте появляются объяснения лично автора, но Кэрролл очень сдержан и краток. Лишь изредка мы читаем "Poor Alice]", но храбрая маленькая девочка сама плачет, сама успокаивает и даже ругает себя.
В нашем примере Алиса съедает кусочек пирожка, и ее шея начинает вытягиваться. Кэрролл использует эту ситуацию и неправильно строит сравнительную степень прилагательного, причем сам объясняет, что Алиса сделала такую речевую ошибку от сильного удивления. Кэрролл играет с формально-грамматическими аспектами языка и создает юмористический эффект. Также интересно в этом примере необычное авторское сравнение для описания видоизменений, происходящих с Алисой. (I m opening out like the largest telescope that ever was.) Заметим, что Кэрролл рисует Алису как очень любознательную девочку, которая к тому же любит похвастаться своими знаниями.