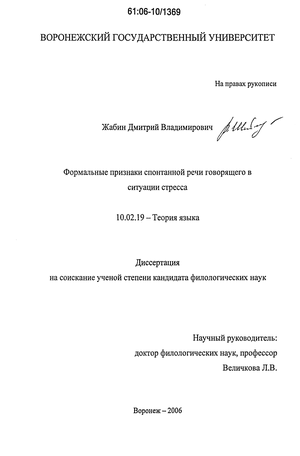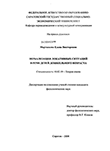Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Психолингвистическое описание речи в зависимости от эмоционального состояния говорящего 9
1.1 Лингвистический и психолингвистический подход к описанию речи 9
1.2 Психолингвистические модели порождения речи 19
1.2.1 Психолингвистические механизмы исследования речи 39
1.3 Междисциплинарный подход к понятию «речь» 51
1.4 Характеристика речи с учетом эмоционального напряжения 54
1.4.1 Междисциплинарный подход к понятию «эмоция» 54
1.4.2 Типология эмоций. Структура. Проявление 57
1.4.3 Физиологическая природа эмоций 62
1.4.4 Способы передачи эмоциональности в речи 64
1.5 Ситуация стресса и ее воздействие на речь 68
1.5.1 О сущности понятия «стресс» 68
1.5.2 Проявление признаков стресса на уровне речи 75
1.6 Выводы 77
Глава 2. Экспериментальное исследование формальных признаков спонтанной речи говорящего в ситуации стресса 80
2.1 Объект и материал исследования 80
2.2. Методы исследования спонтанной речи говорящего в состоянии стресса 81
2.3 Условия эксперимента 85
2.4 Процедура проведения эксперимента 85
2.5. Методика проведения аудитивного анализа звучащей речи испытуемых 87
2.6. Состав аудиторов-экспертов 88
2.7. Ход экспериментального исследования 89
2.8. Выводы 126
Заключение 135
Список используемой литературы 141
Список сокращений 157
Приложение 1 158
Приложение 2 161
Приложение 3 185
Приложение 4 187
Приложение 5 189
Приложение 6 327
- Лингвистический и психолингвистический подход к описанию речи
- Психолингвистические модели порождения речи
- Методы исследования спонтанной речи говорящего в состоянии стресса
- Процедура проведения эксперимента
Введение к работе
Спонтанная речь находится в центре внимания лингвистических и психолингвистических исследований, успешность которых зависит от разработки методов. Психолингвистические эксперименты по наблюдению за процессом восприятия речи (более доступным наблюдению, чем процесс порождения речи), данные неврологии о патологии речи, информация о речевом онтогенезе и наблюдение за речью в чрезвычайных ситуациях (стресс, воздействие эмоций), в том числе анализ речевых оговорок, являются источниками сведений об интересующих нас процессах. Они могут подтверждать или опровергать гипотезы и модели, пытающиеся объяснить процессы, протекающие в так называемом «черном ящике».
Предметом настоящего исследования являются признаки устной спонтанной звучащей речи человека в ситуации стресса. В современной научной литературе нет описаний анализа речи в стрессовой ситуации. Эксперимент по исследованию спонтанной речи был обусловлен психолингвистическим характером изучаемого явления. При этом большую сложность представляет собой получение материала исследования. Кроме того, сложность анализа неподготовленной речи состоит в том, что при спонтанном порождении речи ее организация на уровне единиц звучащей речи, синтаксиса и лексики отличается от других видов устной и письменной речи, описанной методами лингвистического анализа, что требует разработки иных методов. Еще одна сложность заключается в записи и точности передачи всех особенностей этого вида речи (фальш-старты, самоисправления говорящего, сбои в употреблении грамматических форм и порядка слов, множество «оборванных» отдельных слов/фраз, повторы и т.д.) с целью выявления механизма, при помощи которого можно описать систему, заключающую в себе объем и специфику спонтанного высказывания говорящего. В нашем случае речь идет о спонтанных высказываниях в состоянии стресса. При этом необходимо принимать во
5 внимание степень стресса, от которой зависит это высказывание, особенности психического статуса и формальные признаки речи говорящего.
Носители языка способны различать на слух характер речи относительно ее напряженности. Индикатором напряженности при восприятии служат, прежде всего, формальные средства звучащей речи. Мы исходим из представления, согласно которому эти средства находятся в отношении комплементарное с семантическим наполнением фразы и сигнализируют о степени напряженности речи. Важно заметить, что состояние эмоциональной напряженности передается комплексом формальных признаков звучащей речи на уровне темпа, ритмических параметров, пауз, речевых сбоев (ошибки, оговорки).
Отсутствие в современной научной литературе описаний механизма анализа речи в стрессовой ситуации обусловило наше обращение к определению отличительных признаков речевого поведения человека в рамках умеренного стресса (не вызывающего у человека необратимую психосоматическую реакцию на стрессор, требующую постороннего вмешательства для купирования возникшей ситуации). Кроме того, мы предприняли попытку выделить и критерии описания этой речи. Исходя из экспериментальных данных о средних показателях формальных признаков речи наивных носителей русского языка (с позиции психолингвистики речь идет о речевой психической норме), нами были установлены формальные признаки говорящих, относящихся к разным типам психической акцентуации личности, находящихся в ситуации, предполагающей наличие стресса. Таким образом, стало возможным описание речевой психической нормы и в рамках последней - речевого поведения как реакции на экстремальную ситуацию, ядром которой в данном случае является умеренный стрессовый фактор.
В предложенной работе нами был представлен механизм, при помощи которого мы смогли описать систему, заключающую в себе объем высказывания говорящего. При этом нами учитывались степень
эмоциональной напряженности, от которой зависит реализация формальных признаков звучащей речи: темп речи (ускоренный или замедленный); паузы, ритмическая структура фразы; протяженность ритмической группы в слогах и место ударного слога в ней; а также ошибки и оговорки в речи говорящего.
Актуальность работы объясняется необходимостью с точки зрения речеведения исследования формальных признаков речи, оказывающих влияние на речевые сигналы: эмоциональное состояние различной степени физического и психического напряжения говорящего. На сегодняшний день механизм исследования этих факторов находится в состоянии формирования.
Цель исследования заключалась в разработке механизма исследования, выявлении и описании изменения формальных признаков звучащей речи говорящего в стрессе на уровне темпа, ритма, пауз, сбоев. Поставленная цель определила психолингвистический и фонетический характер исследования и обусловила формулировку следующих задач:
получить материал, отражающий речь в состоянии стресса в естественных условиях;
провести психолингвистический эксперимент с целью разработки механизма оценки степени напряженности речи;
провести анализ формальных средств звучащей речи на уровне темпа, ритма, пауз, сбоев;
определить функции этих средств при передаче напряженности речи;
в результате исследования дать психолингвистическое описание речи в состоянии стресса.
Ход экспериментального исследования спонтанной речи был определен психолингвистическим характером изучаемого явления. Описание изменения формальных признаков звучащей речи делает возможным получение объективных результатов, имеющих лингвистический смысл, на основе одного метода - метода аудитивного анализа. Полученные данные
7 были подвергнуты статистической обработке, результаты получили психолингвистическую интерпретацию.
Проведение эксперимента было направлено на последовательное решение стоящих перед исследователем задач и носило поэтапный характер. Исходным пунктом явилось определение стрессовой ситуации. Принимая во внимание то, что стресс в психологии и психиатрии понимается как сильная неблагоприятная для организма психологическая и физиологическая реакция на воздействие экстремальных факторов, воспринимаемых человеком как угроза его благополучию, в качестве стрессовой ситуации рассматривалось судебное следствие по уголовным делам.
Материалом исследования послужили аудиозаписи спонтанной звучащей речи носителей русского языка в ситуации, обусловливающей состояние стресса говорящего. Общее время звучания составило 245 мин. спонтанной речи обвиняемых и потерпевших, а именно, 10 допросов обвиняемых (среди них 9 мужчин, 1 девушка; возрастная группа от 16 до 27 лет), 11 допросов потерпевших (среди них 5 мужчин, 6 женщин; возрастная группа от 18 до 69 лет). Кроме того, при помощи врачей психиатров все испытуемые классифицировались нами не только по степени эмоциональной напряженности их речи, но и по группам в зависимости от их психической акцентуации. Это имеет большое прикладное значение, т.к. на основе лингвистического анализа с определенной долей достоверности можно дать оценку эмоциональному состоянию говорящего (отклонение от нормы, тревожность, напряженность, наличие эмоций и их тип, например, волнение, удивление, страх и т.п.), психофизиологическому состоянию (ненормативность, наличие патологии), наконец, установить пограничные критерии для определения стрессового расстройства для того или иного типа психической акцентуации личности.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке механизма анализа формальных признаков звучащей спонтанной
8 речи (темпо-ритмических параметров), полученной в естественных условиях, для выделения критериев определения эмоционального напряжения говорящего.
Теоретическая значимость предлагаемой к защите работы заключается в исследовании процессов восприятия речи и анализе параметров звучащей речи как индикаторов эмоционального напряжения говорящего. С позиций междисциплинарного подхода дается психолингвистическое понимание термина «стресс», относящегося к области психологии и психиатрии, и разрабатывается механизм лингвистического анализа речи, порожденной носителями языка в ситуации стресса.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования разработанного механизма и полученных данных для фонографической характеристики говорящих в стрессовой ситуации, а также идентификации говорящих в соответствии с их психической акцентуацией. Полученные в ходе эксперимента данные о характерных изменениях формальных признаков речи говорящего с определенным типом психической акцентуации могут быть использованы в экспертно-криминалистических целях при установлении «портрета» говорящего, использовании лингвистических доказательств в суде, процедуре слухового опознания говорящего, исследовании факторов, оказывающих влияние на речевой сигнал (эмоциональное состояние, различные степени физического и психического напряжения и т.д.).
На защиту выносятся следующие положения:
Исследование формальных признаков спонтанной речи может дать информацию о наличии эмоциональной напряженности (и ее степени) у говорящего в ситуации стресса.
Информация о ритмических параметрах и темпе речи может дать возможность идентификации говорящего в состоянии стресса с точки зрения его психической акцентуации.
9 3. В процессе восприятия речи на родном языке формальные признаки играют существенную роль, вступая в комплементарные отношения с семантической информацией звучащей речи.
Апробация работы. Отдельные аспекты диссертационного исследования были представлены на:
8-ой межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы психиатрии, наркологии и медицинской психологии» (Воронеж, 25 января 2006 г.);
научной сессии Воронежского госуниверситета «Психолингвистические и фоностилистические исследования звучащей речи» (Воронеж, 11 апреля 2006 г.);
научно-практической конференции «Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития» (Воронеж, 17 мая 2006 г.);
XV международном симпозиуме по психолингвистике и теории коммуникации (Москва, 30 мая - 1 июня 2006 г.).
Лингвистический и психолингвистический подход к описанию речи
Описание речи человека всегда представляло собой большую сложность. Традиционное языкознание изучает речь как одну из двух основных элементов дихотомии - «язык - речь» в их единстве и противопоставлении, где язык - потенция, явление, существующее как абстрактное, социальное; речь - реализация, актуальное, индивидуальное. Данная трактовка восходит к «Курсу общей лингвистики» Ф. де Соссюра, который различал язык (langue) и языковую способность (faculte du langage) как социальное и индивидуальное. С одной стороны и язык, и языковую способность можно рассматривать как две составляющие речевой деятельности, с другой стороны - потенциальное приравнено к социальному, а реальное к индивидуальному: «Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное от индивидуального; 2) существенное от побочного и более или менее случайного» (цит. по Величкова, 1996,33). Таким образом, язык понимается как система, функционирующая по своим внутренним законам и развивающаяся в соответствии с ними, а речь является реализацией этой системы.
В XIX в. возникает психологическое направление в языкознании, в круг его интересов входят вопросы о соотношении языка и особенностей психологического склада нации, языка и мышления, языка и индивидуума. Так, например, лингвистические размышления И.А. Бодуэна де Куртенэ психологичны по терминологии и подходу: «В языке сочетаются в неразрывной связи два элемента: физический и психический» (Бодуэн де Куртенэ, 1963, 144). Для определения «психического» употреблялись понятия - дух, душа, сознание, психика, мышление.
В. Гумбольдт и А.А. Потебня понимают язык как деятельность, указывают на его творческий характер и историческую обусловленность, системное строение, отмечают взаимозависимость языка и мышления. Г. Штейнталь совместно с младограмматиками и их оппонентами -представителями «культурно-психологической, эстетической» лингвистики -различают грамматические и психологические категории. В 1928 г. во французском журнале «Journal de Psychologie» выходит статья Ф. Полана «Qu est-ce que le sens des mots?», где автор разделяет понятия «значения» и «смысла» (Ахутина, 1989,21).
В первой половине XX в. в научной литературе существовали противоречивые взгляды на сущность и функции речи. Немецкий филолог Карл Фосслер выделял две основные функции - выражения и коммуникации. Его взгляды разделял итальянский философ-идеалист и литературовед Б. Кроче, который считал речь средством эмоционального выражения. Для другого ряда ученых (А. Марти, П. Вегенера) речь - только средство воздействия. К. Бюлер выделял функции выражения, обращения и сообщения (Леонтьев, 1975, 74).
Пражская школа функциональной и структурной лингвистики объединила традиции двух школ - И.А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де Соссюра. Ее коллективным основателем стал Пражский лингвистический кружок (ПЛК), возникший в 1926 г. по инициативе В. Матезиуса и P.O. Якобсона и объединивший русских и чехословацких ученых. Наиболее полное выражение методологические основы ПЛК нашли в «Тезисах», представленных I съезду славистов в 1929 г. В первой же формулировке, озаглавленной «Представление о языке как о функциональной системе», подчеркивается важность функционального подхода к языку и системное рассмотрение каждого языкового явления.
Осуществляя функциональный подход к языку, представители ПЛК считали, что «изучение языка требует... строгого учета разнообразия лингвистических функций и форм их реализации» и что «именно в соответствии с этими функциями и формами изменяется как звуковая, так и грамматическая структура языка и его лексический состав». Они различали «внутреннюю речевую деятельность» и «реализованную речевую деятельность» и полагали, что «каждая функциональная речевая деятельность имеет свою условную систему - язык». Именно эту мысль приветствовал Л.С. Выготский и говорил о том, что она имеет «огромнейшее значение не только для. лингвистики, но и для психологии языка» (Выготский, 1982, т. 2,337).
Таким образом, представители различных структуральных школ утверждали, что объект лингвистического анализа - система языка. Речевой акт отходит как объект исследования к психологии. Таким образом, между лингвистикой и психологией произошло разделение объектов исследования. Лингвистика в период структурализма длительное время занимается описанием языковой системы, а психология - речью, в частности, ее индивидуальным проявлением. Между этими объектами исследования оставались проблемы языкового поведения человека и механизмов, осуществляющих реализацию языковой системы в речи. Из необходимости в некой междисциплинарной науке, призванной заниматься этими проблемами, возникает психолингвистика (Величкова, 1996, 32). Одним из основных направлений науки явилось описание речевого поведения человека, а также изучение процессов порождения и восприятия речи.
Итак, в понимании сущности речи не сложилось единства мнений и определений. В структуральных направлениях речь характеризовалась как реализация системы языка. Объектом лингвистики являются лингвистические структуры, а интерпретирующей моделью - значение. Психолингвистика исследует смысл, «совершаемый в слове» и репрезентированный словом (языком), поэтому объектом ее изучения являются структура и функции речевой деятельности как порождения индивида (Пищальникова, 2003, 7). Психолингвистика выявляет глубинные соотношения ментальных структур, мотивов речевой деятельности через вербальные и невербальные ассоциации, стабильные языковые и когнитивные структуры, эмоциональные экспликации в телах знаков. Поэтому интерпретирующей моделью современной психолингвистики является не столько личностный смысл, сколько концепт / образ языкового сознания (см. работы А.А. Залевской, И.А. Стернина, З.Д. Поповой), определяющиеся психолингвистами по сути идентично (Пищальникова, 2003,10).
Психолингвистические модели порождения речи
Процесс порождения речи вызывает большой интерес исследователей, чем обусловлено большое количество описанных в научной литературе моделей. Анализ этих моделей представляет собой достаточно сложную задачу в виду их разнообразия. Однако более близкое знакомство позволяет выделить несколько основных направлений в принципах их построений.
Существенный вклад в разработку этой проблемы внесли отечественные психолингвисты, подтверждением чему служит обращение современных как отечественных, так и зарубежных исследователей к трудам Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, И.Н. Горелова и др. авторов.
Для обращения к психолингвистической информации необходима установка на иное понимание некоторых лингвистических терминов. В настоящее время в психолингвистике складывается иное понимание термина «речь»: не как результата реализации языковой системы, а как процесса речепорождения (Величкова, 1996, 35). Это предполагает некоторое отстранение от дихотомии «язык-речь» в ее классическом понимании. В разработке вопроса, связанного с порождением речи, основная заслуга бесспорно принадлежит А.А. Леонтьеву, сформулировавшему единую концепцию речевой деятельности, которая объединила пограничные психологические, лингвистические, нейрофизиологические и, в определенной степени, философские исследования, а также многочисленные экспериментальные данные (Леонтьев 1965, 1969, 1997). Процесс порождения речи он рассматривает как сложное, поэтапное формируемое речевое действие, являющиеся составной частью целостного акта деятельности (Леонтьев, 1969). Предполагается, что последовательность этапов порождения высказывания в общем случае такова: а) программирование грамматико-синтаксической стороны высказывания; б) грамматическая реализация и выбор слов; в) моторное программирование компонентов высказывания (синтагм); г) выбор звуков; д) «выход» (Леонтьев, 1969,265).
Хорошую ориентацию в модели дает ее графическое изображение, предложенное Т.В. Ахутиной (см. схему 2). Важной идеей процесса порождения речевого высказывания является мысль о существовании факторов в механизме порождения, которые предшествуют этапу непосредственного воплощения содержания высказывания в знаках конкретного естественного языка. (Ахутина, 1975,46). Идея существования двух этапов в процессе порождения речевого высказывания была впервые высказана в отечественной литературе Л.С. Выготским, указавшим, что «в живой программе речевого мышления движение идет... от мотива, порождающего какую-нибудь мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию ее во внутреннем слове, затем в значениях внешних слов и, наконец, в словах» (Выготский, 1956, 381). Он предлагал различать два вида синтаксирования: смысловое и фазическое, которые соответственно относятся к внутреннеречевому и внешнеречевому этапам речемыслительного процесса. На этапе внутреннего программирования формируется смысловая (семантическая) структура высказывания. «Построение смысловой структуры осуществляется в процессе предикативного развертывания содержания высказывания по правилам смыслового синтаксиса» (Ахутина, 1975,28).
В интерпретации теории речемышления Л.С. Выготского мы пытаемся следовать традициям того направления в советской психологии речи, которое может быть названо «школой Выготского». Его начало положено работами А.Р. Лурии, А.Н. Соколова, Н.И. Жинкина и продолжено трудами А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, А.А. Залевской, А.Е. Супруна, А.П. Клименко, А.А. Брудного, И.Н. Горелова, Л.В. Сахарного, К.Ф. Седова и др. А.Р. Лурия активно использовал понятие «внутренняя речь», включив его в рамки нейролингвистики (1947, 1975). А.Н. Соколов изучал активность органов артикуляции при решении разного рода мыслительных задач, например арифметических, и понимании текста (1968). Н.И. Жинкин, всесторонне изучавший механизм речи, начиная от артикуляции, кончая построением текстов, специально занимался проблемой внутренней речи. В частности, он выдвинул представление о тексте как многоуровневом, иерархически организованном целом, смысловая структура которого есть иерархия предикатов (Жинкин, 1958).
Методы исследования спонтанной речи говорящего в состоянии стресса
Исследование было проведено на базе федерального суда при поддержке прокуратуры Коминтерновского района г. Воронежа, которая обеспечила возможность присутствовать на судебных заседаниях по слушанию уголовных дел (по статьям 161 ч. 2; ст. 162 ч. 2; ст. 163 ч. 2; ст. 158 ч. 3; ст. 309 ч. 2; ст. 318 ч. 2; ст. 105 ч. 1 УК РФ), записать речь потерпевших и обвиняемых на аудионоситель и проследить изменение формальных признаков спонтанной речи говорящего в состоянии эмоциональной напряженности (стрессе).
Цель исследования: выявить и описать изменения формальных признаков звучащей речи говорящего в стрессе на уровне темпа, ритма, пауз, сбоев.
Объектом исследования явились аудиозаписи спонтанной звучащей речи носителей русского языка в ситуации обусловливающей состояние стресса говорящего, собранные с помощью диктофона «Olympus S 725». Общее время звучания составило 245 мин. спонтанной речи обвиняемых и потерпевших, а именно, 10 допросов обвиняемых (среди них 9 мужчин, 1 девушка; возрастная группа от 16 до 27 лет), 11 допросов потерпевших (среди них 5 мужчин, 6 женщин; возрастная группа от 18 до 69 лет).
С целью исследования спонтанной речи говорящего, в частности в состоянии эмоциональной напряженности, был осуществлен эксперимент, который носил поэтапный характер. Исходным пунктом явилось определение стрессовой ситуации. Принимая во внимание то, что стресс в психологии и психиатрии понимается как сильная неблагоприятная для организма психологическая и физиологическая реакция на воздействие экстремальных факторов, воспринимаемых человеком как угроза его благополучию, в качестве стрессовой ситуации рассматривалось судебное следствие по уголовным делам.
Перед проведением эксперимента исследователям было позволено с разрешения председателя суда:
1. рассмотрение ряда уголовных дел, с целью составления прогноза и выбора наиболее стрессовой ситуации на судебном следствии;
2. установление контакта в отдельности с потерпевшими и обвиняемыми в рамках одного уголовного дела;
3. беседа врача-психиатра с испытуемыми с целью составления психического статуса и выявления наличия стрессового состояния говорящего. Важно отметить, что при составлении психостатуса для 3 из 10 обвиняемых учитывались данные судебно-психиатрической экспертизы.
Кроме того, психиатрами был определен тип психической акцентуации личности испытуемых, т.е. с психастенической акцентуацией - 5 чел., с акцентуацией по эмоционально-неустойчивому типу - 4 чел., с шизоидной акцентуацией - 3 чел., с истероидными чертами характера - 5 чел ., с астеническими чертами характера - 3 чел., с эксплозивной акцентуацией - 1 чел. (см. Приложение № 1,2).
Эти данные необходимы нам для дальнейшей классификации испытуемых не только по степени эмоциональной напряженности, но и по группам в зависимости от их психической акцентуации. Кроме того, это также имеет большое прикладное значение, т.к. на основе лингвистического анализа с определенной долей достоверности можно дать оценку эмоциональному состоянию говорящего (отклонение от нормы, тревожность, напряженность, наличие и тип эмоций, например, волнение, удивление, страх и т.п.), психофизиологическому состоянию (ненормативность, наличие патологии), наконец, установить пограничные критерии для определения стрессового расстройства для того или иного типа характера. Важно заметить, что по данным психологии у психически нормальных людей отдельные черты характера и их сочетания, представляющие крайние варианты нормы удовлетворительно адаптированы в благоприятных условиях (состояние компенсации) и дезадаптированы с яркой выраженностью свойственных им психических проявлений, в том числе и невротических, при ситуации стресса (декомпенсация). Поэтому, кроме психического статуса, врачом психиатром также определялся тип психической акцентуации каждого испытуемого.
Для исследования спонтанной звучащей речи в состоянии стресса были использованы следующие методы: ознакомление с материалами следствия, а также данными судебно психиатрической экспертизы с целью выявить наличие/отсутствие психической патологии испытуемых; ? наблюдение за испытуемыми во время допроса судьей, прокурором и адвокатом (мимика, жесты, экспрессивная сторона речи и т.д.); ? изучение и составление вместе с врачом-психиатром психического статуса испытуемого, анализ и определение психической акцентуации личности; ? аудитивный психолингвистический анализ высказываний испытуемых; ? статистическая обработка полученных результатов.
Мы уже уточнили, что более узкое понимание эмоций предоставляет нам возможность рассматривать их как реакции на более специфические условия, такие как фрустрация потребности, невозможность адекватного поведения, конфликтность ситуации, непредвиденное развитие событий и т.д. При попытке анализа спонтанной речи говорящего в стрессовом состоянии мы обращали свое внимание в первую очередь на напряженность речи, а не на ее эмоциональную сторону. По нашему мнению, формальные признаки спонтанной речи могут свидетельствовать о степени напряженности, которая может быть соотнесена с конкретными эмоциями говорящего. Поэтому мы предполагаем, что у различных типов акцентуаций наблюдается различная степень напряженности речи.
Мы исходили из понимания терминов «стресс» и «эмоциональная напряженность» в психиатрии и психологии, рассматривая их как тождественные.
Процедура проведения эксперимента
Главными критериями проведения эксперимента явились использование неотобранных популяций и добровольность участия. Разрешение на аудиозапись предоставлялось с согласия председательствующего судьи, а также руководствуясь частью 5 статьи 241 «О гласности» УПК РФ о разрешении аудиозаписи открытого судебного заседания. Исследование проводилось в одно и то же время (10-14 часов), с целью получения естественного объективного материала спонтанной звучащей речи. Оценивался общий уровень состояния эмоциональной напряженности испытуемых.
Индикатором напряженности речи при восприятии служат, прежде всего, формальные средства звучащей речи. При чем эти средства находятся в отношении комплементарности с семантическим наполнением фразы и сигнализируют о степени напряженности речи. Важно заметить, что состояние эмоциональной напряженности передается комплексом формальных признаков звучащей речи на уровне темпа, ритмических параметров, пауз, речевых сбоев (ошибки, оговорки).
Перед проведением эксперимента нами были сформулированы следующие задачи: ? получить материал, отражающий речь в состоянии стресса (в естественных условиях); ? разработать механизм оценки степени напряженности речи; ? провести анализ формальных средств звучащей речи на уровне темпа, ритма, пауз, сбоев (обмолвок); ? определить функции этих средств при передаче напряженности речи; ? ив результате исследования дать психолингвистическое описание речи в состоянии стресса.
Экспериментальное исследование спонтанной речи было обусловлено психолингвистическим характером исследуемого явления. Описание изменения формальных признаков звучащей речи делает возможным получение объективных результатов, имеющих лингвистический смысл, на основе одного метода - метода аудитивного анализа.
Проведение эксперимента было направлено на последовательное решение стоящих перед исследователем задач и носило поэтапный характер:
1. Каждому эксперту-аудитору предлагалось прослушать текст допроса обвиняемого и потерпевшего. Определить степень напряженности речи говорящего.
2. Звучащий материал был проанализирован аудитором-фонетистом, перед которым была поставлена задача обозначить паузы и выделить ударные слоги. На основании этого анализа был определен объем материала в ритмических группах (далее по тексту РГ) - 3450 РГ.
3. Измерение формальных показателей речи по следующим параметрам: ? Объем текста продолжительностью в 245 мин. составил 48020 слогов. ? Темп речи замерялся путем деления общего количества слогов в реплике на время ее звучания по каждому испытуемому. Увеличение или уменьшение количества слогов в минуту в той или иной части текста сопоставлялось с маркировкой данной части аудиторами (см. Приложение №4). ? Сбои (обмолвки/оговорки) наблюдались на всем массиве материала, а их частотность отмечалась и сопоставлялась с маркировкой данной части текста аудиторами. ? На следующем этапе мы рассмотрели типичные конфигурации ритмических групп в спонтанной речи испытуемых в разной степени эмоциональной напряженности. При этом мы руководствовались следующими критериями: 1) протяженность РГ и 2) место ударного слога вРГ.
Данные аудиторов были распределены в соответствии с психической акцентуацией испытуемых.
Проведение аудитивного анализа экспериментального материала носило индивидуальный характер. Аудиторы-эксперты пользовались апробированной ранее в предыдущей работе схемой, разработанной в ВГУ при НМФЦ под руководством доктора филологических наук, профессора Л.В. Величковой. Звучащие тексты допросов потерпевших и обвиняемых были записаны на CD-диски, транскрибированы (см. Приложение № 5) и розданы свободным аудиторам, которые получили следующую инструкцию для выполнения основной части эксперимента.