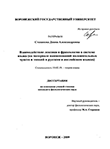Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Теоретические основы изучения категории времени в языке 9
1.1. К теории грамматических категорий в общем языкознании 9
1.2. К вопросу о сущности диахронно-типологических исследований ... 12
1.3. Категория времени в философии 16
1.4. Категория времени в лингвистике 23
Выводы по первой главе 32
ГЛАВА II. Историческое развитие категории времени в русском языке 33
2.1. Морфологическое выражение грамматической категории времени в современном русском языке 33
2.2. Структурно-семантическая классификация русских глаголов 37
2.3. Структурно-семантический и синтаксический подход к проблеме грамматического времени 41
2.4. Нарративный режим интерпретации временных форм 43
2.4.1. Грамматические глагольные формы в нарративном режиме с позиции структурной семантики 47
2.4.2. Синтаксические конструкции с временным значением в нарративном режиме 50
2.5. Речевой режим интерпретации временных форм 52
2.5.1. Грамматические глагольные формы в речевом режиме с позиции структурной семантики 57
2.5.2. Синтаксические конструкции с временным значением 60
2.6. Морфологическое выражение грамматической категории времени в древнерусском языке 63
2.7. Распределение и значение глагольных времен в русском языке в диахроническом плане 66
2.8. Семасиологический подход к рассмотрению грамматического времени в древнерусском языке 91
Выводы по второй главе 96
ГЛАВА III. Диахрония категории времени глагола на основе типологических данных язьпсов разных систем 99
3.1. К понятию "ностратические языки" 99
3.1.1. Категория времени в индоевропейской группе языков 99
3.1.2. Категория времени в алтайской языковой группе 112
3.1.3. Категория времени в уральской языковой группе 120
3.1.4. Категория времени в картвельской языковой группе 123
3.1.5. Категория времени в дравидийских языках 124
3.1.6. Категория времени в семито-хамитских языках 126
3. 2. Категория времени в изолированных языках 133
3.2.1. Категория времени в нивхском языке 135
3.2.2. Енисейско-индоевропейские типологические параллели в плане выражения грамматической категории времени 136
3.3. Временные формы древнейших глаголов 140
3.4. Развитие морфологического выражения категории времени древнерусского глагола в сопоставлении с языками различных типов и современным русским языком 150
3.5. Материальное совпадение категории времени старославянского и древнерусского языков с другими ранними ностратическими языками 155
Выводы по третьей главе 158
Заключение 160
Библиография 165
Приложения
- К вопросу о сущности диахронно-типологических исследований
- Структурно-семантическая классификация русских глаголов
- Синтаксические конструкции с временным значением
- Категория времени в алтайской языковой группе
Введение к работе
Диссертационное исследование посвящено выяснению источника формирования категории времени в русском языке с помощью типологических данных языков разных систем, а именно: индоевропейских, алтайских, уральских, дравидийских, семито-хамитских и палеоазиатских.
Актуальность избранной нами темы определяется тем, что вопрос происхождения грамматических форм языка до сих пор не решен. Феномен языкового времени, имеющий длительную историю изучения в контексте естественных и гуманитарных дисциплин, сегодня вновь оказывается в центре внимания философов, психологов, культурологов, искусствоведов и лингвистов. Сложность и неординарность времени как объекта познания обусловили постоянный интерес к его изучению и множественность подходов к его рассмотрению (О. Есперсен 2006, В. К. Журавлев 2004, В. И. Молчанов 1988, А. М. Мостепаненко 1974, М. Ф. Мурьянов 1978, Р. Г. Неванлинна 1966, Д. Д. Уитроу 1984, В. С. Юрченко 2000 и др.). Время следует рассматривать не только как категорию языка, но и как философскую и физическую категорию. Последние два аспекта рассмотрения времени представляют собой единое целое, им подчинен лингвистический аспект, однако он имеет свою специфику, а потому требует специального рассмотрения.
Предлагаемая работа вносит определенный вклад в решение вопроса о происхождении грамматических категорий на примере категории времени. С точки зрения когнитивной лингвистики, вопрос о грамматической категории вообще не поднимался в языкознании. В данной работе впервые ставится вопрос об отражении в языке древнего сознания человека. Здесь мы придерживаемся концепции Е. С. Кубряковой, согласно которой каждая грамматическая категория — это своеобразная ритуализованная и постепенно теряющая связь со своей первоначальной семантикой единица, следы
которой можно обнаружить и в современном состоянии категории (Кубрякова 2004: 172).
Целью работы является определение хода развития категории времени в языке на материале русского языка и типологических данных языков разных систем.
Поставленная цель определила основные задачи работы:
Рассмотреть выражение и содержание категории времени в языках различных типов и в современном русском языке.
Описать значение и употребление временных форм русского глагола с древнейших времен до настоящего времени.
Сопоставить временные системы древнерусского языка и современного русского языка.
Определить происхождение и становление категории времени в языке на базе данных языков разных систем.
Гипотезой исследования является предположение о том, что категория времени во всех ностратических языках проходит путь развития от дейксиса через категории способа действия и вида к категории времени, что обнаруживается и в образовании временных форм древнерусского и современнного русского языка.
Объектом исследования является категория времени в языках разных систем с опорным русским языком.
Предмет исследования - формы выражения и способы передачи временных значений глагола в современном русском языке, их историческое развитие, временные парадигмы глагола ностратических языков.
Материалом исследования являются временные парадигмы глагола в языках разных систем, а также хрестоматийные произведения по истории русского литературного языка XI-XVII веков, произведения русской художественной литературы XVIII-XXI веков, отечественные
художественные фильмы. Рассмотрено более 3500 примеров употребления временных форм современного русского и древнерусского языков.
Методологическая база исследования. Основу общефилософской методологии настоящего диссертационного исследования составляют принципы и законы материалистической диалектики, то есть закон перехода количественных изменений в качественные, принципы всеобщей связи явлений, причинности, принцип единства формы и содержания, категории общего, частного и отдельного, формы и содержания и т. д.
Общенаучная методология опирается на принципы системности, антропоцентризма и детерминизма.
Частнонаучной основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных лингвистов по вопросам категории времени в русском языке (В. В. Виноградова, А. В. Бондарко, М. В. Всеволодовой, М. Б. Гловинской, А. И. Горшкова, И. М. Дьяконова, В. В. Колесова, С. П. Лопушанской, И. Г. Милославского, Е. В. Падучевой, М. Л. Ремневой, А. А. Шахматова и многих других исследователей грамматической категории времени), работы, посвященные исследованию категории времени в отдельных группах языков (М. С. Андронов, Н. А. Баскаков, Н. 3. Гаджиева, Р. С. Гайер, М. М. Гухман, А. П. Дульзон, К. Е. Майтинская, Я. Сафаревич, Б. А. Серебренников, А. С. Чикобава и др.), а также исследования в области происхождения грамматических категорий (F. Adrados, V. J. Georgiev, М. Н. Валл, Г. К. Вернер, Т. В. Гамкрелидзе, Б. М. Гранде, Вяч. Вс. Иванов, Г. А. Климов, К. Г. Красухин, А. Мейе, М. Л. Палмайтис, Г. Т. Поленова, К. Ю. Решетников, А. Н. Савченко, О. Семереньи, В. Н. Топоров, И. М. Тройский и др.).
В качестве основных методов исследования в работе использовались, прежде всего, метод лингвистического описания, сравнительно-типологический и сравнительно-исторический метод, метод сопоставления и
статистического подсчета; а также функциональный и системно-структурный методы, позволившие расширить сферу исследования. Основные положения, выносимые на защиту:
Как бы далеко ни зашло развитие языка, в нём всегда можно обнаружить тот базовый фонд, на котором зиждется его структура. Современный русский язык в образовании временных форм обнаруживает большое количество элементов (-у-, -s-, -t-, -і-, -и-, -а-), выявляемых не только в древнерусском языке, но и в большинстве ностратических, а также изолированных языков.
Категория времени сформировалась в процессе преобразования и распада категории способа действия на собственно аспектуальную и временную категории.
Исконное значение форм настоящего времени постоянно совершающееся, вневременное действие.
Наиболее древними являются временные формы, представляющие собой противопоставление 'презенс - перфект / имперфект'.
Будущее время - это более поздняя временная форма, получающая выражение, как правило, посредством аналитических конструкций с модальным оттенком значения.
Эволюция категории времени в языке свидетельствует о закономерности развития грамматических категорий из лексически значимых элементов - дейктических частиц.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые осуществлен диахронический анализ категории времени в языке на материале русского языка в сравнительно-типологическом сопоставлении с категорией времени в языках разных систем. Впервые выявлены общие языковые закономерности и тенденции развития указанной категории. Выявлены временные форманты типологически общие для всех групп
рассмотренных языков. Прослежен путь становления категории времени от дейксиса через способ действия и вид.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит вклад в историю и предысторию развития временных форм русского глагола и шире в проблему формирования грамматической категории времени в языке в целом.
Практическая ценность исследования состоит в возможности применения его материалов в ходе подготовки и проведении занятий по истории и теории русского языка, по общему, сравнительно-историческому и сопоставительно-типологическому языкознанию, а также при написании курсовых, дипломных и диссертационных работ. Данная работа позволяет использовать её результаты при освещении аналогичной проблематики в рамках универсальных и типологических исследований и дает возможность использования её материалов при исследовании различных проблем, связанных с происхождением категории времени в языках различного типа.
Апробация работы. По материалам диссертации опубликовано семь статей, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК, - одна. Фрагменты содержания диссертации апробировались на международных конференциях «Вопросы теории языка и методики преподавания иностранных языков» (Таганрог 2005 г., 2007 г.), на научно-теоретических конференциях кафедры немецкого языка Таганрогского государственного педагогического института (2006 - 2008 гг.), а также на научно-практической конференции Таганрогского института управления и экономики (2008 г.).
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (331 источников), и приложений.
К вопросу о сущности диахронно-типологических исследований
Язык, как и любое другое явление действительности не стоит на месте, а изменяется, развивается. Теоретическое языкознание с самого начала своего становления интересовалось процессами изменения и развития языка. При этом отмечалось, что изменение языка носит своеобразный характер, отличается очевидной противоречивостью. Выяснение конкретных причин изменений тех или иных языковых явлений, по мнению В. А. Гречко, требует рассмотрения истории этих явлений, а также исследование их связей и зависимостей в системе языка с синхронической и диахронической точки зрения (Гречко 2003: 93).
Основоположником теории синхронных и диахронных исследований является Ф. Соссюр, согласно которому, для наук оперирующих понятием значимости необходимо разграничение двух осей времени: оси одновременности, где исключено всякое вмешательство времени, и оси последовательности, на которой нельзя рассматривать больше одной вещи сразу. Для языкознания такое разграничение осей времени — синхронии и диахронии — абсолютно, «ибо язык есть система чистых значимостей, определяемая исключительно наличным состоянием входящих в неё элементов (Соссюр 1964: 381-383).
В соответствии с выделением двух осей синхронии (одновременности) и диахронии (последовательности) Ф. Соссюр выделяет две лингвистики: синхроническую (статическую) и диахроническую (эволюционную). По Ф. Соссюру, синхроническая лингвистика должна заниматься логическими и психологическими отношениями, связывающими сосуществующие элементы и образующими систему, изучая их так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием.
Диахроническая лингвистика, напротив, должна изучать отношения, связывающие элементы, следующие друг за другом во времени и не воспринимаемые одним и тем же коллективным сознанием, то есть элементы, последовательно сменяющие друг друга и не образующие в своей совокупности систему (Соссюр 1964: 382-383).
Лингвистика, по Ф. Соссюру, с самого начала слишком много уделяла внимания диахронии, в то время как они не могли затронуть всю систему языка сразу, а затрагивали только отдельные элементы системы языка. Но «язык есть система, все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронической взаимообусловленности» (Соссюр 1964: 382-383).
Синхроническая и диахроническая лингвистика различаются своими фактами в исследовании языка. Первая «знает только одну перспективу, перспективу говорящих, и весь её метод сводится к собиранию от них языковых фактов» (Соссюр 1964: 384), в то время как диахроническая должна различать две перспективы: проспективную, следующую за течением времени, и ретроспективную, направленную вспять. Кроме того, синхроническая лингвистика имеет своим объектом только совокупность фактов, относящихся к тому, или иному языку, а диахроническая лингвистика рассматривает факты, не обязательно принадлежащие к одному языку (Соссюр 1964: 384-385).
Синхрония и диахрония - это вторая дихотомия в лингвистике, наряду с первой «язык - речь». Используя этот двойной принцип классификации, Ф. Соссюр считает, что «все диахроническое в языке является таковым только через речь» (Соссюр 1964: 387). Речь, таким образом, является источником всех изменений. Любые инновации появляются первоначально в речи у отдельных лиц и превращаются в факт языка тогда, когда принимаются всем говорящим коллективом.
Мы в свою очередь, полагаем, что как бы далеко ни зашло развитие языка, в нём всегда можно обнаружить тот базовый фонд, на котором зиждется его структура. И в след за Е. С. Кубряковой, считаем, что «для формирования категории в естественном языке в качестве приоритетного надо выделить исторический фактор, и лучшими представителями категории становятся нередко исторически более ранние формы» (Кубрякова 2004: 114). Но в нашем случае, именно данные, полученные на синхронном уровне побуждают нас искать ответ на вопрос: почему язык (грамматическая категория) организован(а) так, а не иначе?
Данные, полученные диахронно-типологическим путем, в ходе исследования грамматической категории времени ностратической группы языков, позволяют нам расширить сферу исследования и способствуют объяснению современного состояния исследуемой категории.
Сам термин "диахроническая типология" определяется в лингвистике как направление в типологии, исследующее не сходство материальных компонентов сравниваемых языков, а их категориально-содержательные структуры (Николаева 1990: 135). Основной идеей диахронической типологии является идея общего для всех языков (даже неродственных языков) пути развития, проходя который, одни языки могут опережать другие в своем развитии.
В свое исследование мы также считаем целесообразным привлечь данные когнитивно ориентированной типологии, согласно которой «язык и языковая деятельность по существу являются наиболее непосредственным продуктом когнитивной деятельности и могут рассматриваться как исходный пункт для ее реконструкции» (Кибрик 2005: 44).
Согласно Е. С. Кубряковой, «все языковые явления должны изучаться не только в структурно-семантическом плане или же - тем более - в чисто формальном отношении, но и по их роли в создании текста и дискурса» (что мы и намерены сделать во II главе) (Кубрякова 2004: 325). Подобное соображение автор базирует на убеждении в том, что «язык выполняет две главные функции — когнитивно-репрезентативную и коммуникативную (дискурсивную), что когниция и коммуникация в равной мере детерминируют специфику языка и его устройства, и что, наконец, самое главное: функции языка следует рассматривать не как изолированные друг от друга, но, напротив, как осуществляемые при их непременном и непрерывном согласовании и взаимозависимости» (Кубрякова 2004: 325).
Структурно-семантическая классификация русских глаголов
В составе глаголов русского языка, на наш взгляд, могут быть выделены определенные структурно-семантические группы или разряды, которые отличаются один от другого как по характеру лексического значения, так и в структурном отношении.
Попытки рассмотрения русских глаголов в структурно-семантическом плане до сих пор не предпринимались в отечественной лингвистике, в ней мы можем обнаружить лишь различные подходы к семантической классификации русской глагольной лексики (ср., Золотова 2004: 59-81, Гиро-Вебер 1990: 105-111, Шведова 2005: 396-410). Дифференциация глаголов согласно их структурно-семантическим характеристикам производится здесь впервые, в связи с тем, что выделение структурно-семантических разрядов необходимо нам для установления сферы действия грамматической категории времени русского глагола.
В зависимости от аспекта рассмотрения представляется возможным выделить следующие разряды глаголов: 1. Самостоятельные глаголы. Их абсолютное большинство. Они выражают действие или состояние предмета или лица и выступают в качестве самостоятельного члена предложения. 2. Вспомогательные глаголы. Термин «вспомогательные глаголы» встречается в современной лингвистике достаточно редко и не получает четкой, общепринятой формулировнки. По А. А. Шахматову, вспомогательными являются глаголы, не обнаруживающие в двусказуемых сочетаниях полноты своего значения (Шахматов 2007: 466). Г. А. Золотова относит к вспомогательным (неполнознаменательным) глаголам сязочные, модальные и фазисные глаголы, в связи с тем, что они не образуют самостоятельных компонентов предложения (Золотова 2003: 156-158). Под вспомогательными глаголами мы понимаем грамматический класс глаголов, выполняющих служебную, морфологическую функцию и служащих для образования сложных форм глагола. В отличие от Г. А. Золотовой, мы полагаем, что к группе вспомогательных глаголов не следует относить связочные и модальные глаголы, так как они выполняют собственные, только им свойственные функции и имеют свой узкий круг значений. К группе вспомогательных глаголов нам представляется целесообразным отнести глаголы типа стать, сделаться, становиться, приходиться, оставаться, оказаться, начать (начинать), приняться (приниматься, продолжать, кончить (кончать), прекратить (прекращать), бросить (бросать) в значении «кончить, кончать» и др., например: Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припоминается мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздавшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода (Чехов. Дом с мезонином). 3. Связочные глаголы. Термин связочные глаголы представлен в лингвистической литературе достаточно широко (Адмони 1983, Арутюнова 1986, Всеволодова 2000, Селиверстова 2004, Шахматов 2007 и др). Под связкой, как правило, понимается глагол быть в функции предиката (см. Селиверстова 2004: 594). Бытует мнение, что связками могут быть и такие глаголы, как: являться, представлять, представлять собой, составлять, служить, выступать чем (как что), заключаться (в чем), состоять (в чем), сводиться (к чему), в связи с тем, что данные глаголы являются полузнаменательными и выступают в виде связки «есть», оставаясь вспомогательными средствами), однако данный подход к рассмотрению связочных глаголов не распространен. Мы полагаем, что к связочным глаголам следует отнести глаголы есть и быть, так как что они, зачастую употребляясь в составе именного сказуемого, выполняют ряд задач по организации предложения, которые обычно осуществляются полнозначными глаголами, например: Моя сестра была учительницей; Уменяуэ/се есть эта книга. 4. Модальные глаголы. В русской лингвистической традиции модальные глаголы никогда не выделялись в особый семантический класс, ввиду того, что в традиционном понимании модальность в русском языке выражается посредством наклонений, служебных слов, синтаксических средств (ср. Космеда 2002, Петров 1982). Однако нам представляется, что выделение модальных глаголов в русском языке необходимо, в связи с тем, что они в большинстве случаев употребляются в сочетании с каким-либо глаголом действия или состояния, являясь при этом частью составного глагольного сказуемого, и выражают при этом возможность, желательность, необходимость какого-либо действия или состояния. К модальным мы относим такие глаголы, как хотеть, желать, мочь, уметь, намереваться, пытаться, стараться, отказываться, надеяться, бояться и др. Например: «О, ради такой девушки моэ/сно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки» (Чехов. Дом с мезонином); «Боюсь тебе наскучить». Следует упомянуть здесь, что вспомогательные, связочные и модальные глаголы могут быть знаменательными и выступать в качестве самостоятельного члена предложения, например: «Работы в области расщепления атомного ядра начались в Англии лишь немногим позже, чем во Франции, и тоэ/се при правительственной поддержке» (Овчинников. Горячий пепел); «Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко»; «Но этого никогда не будет — человечество выродиться, и от гения не останется и следа»; «Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас, -ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать»; «Мне не хотелось домой, да и незачем было туда идти» (Чехов. Дом с мезонином). В подобнах случаях наша структурно-семантияческая характеристика на них не распространяется.
Синтаксические конструкции с временным значением
Синтаксическая структура предложения способна оказывать воздействие и на характер временной отнесенности в речевом режиме. По аналогии с нарративным режимом употребления временных форм, инфинитивы, безглагольные двусоставные и односоставные предложения в речевом режиме, на наш взгляд, также получают определенные временные значения. Причем количество случаев их употребления в речевом режиме гораздо выше, чем в нарративном, поскольку, как мы уже неоднократно отмечали, диалогическая речь характеризуется усеченностью, неполнотой форм.
В результате анализа инфинитивных конструкций, мы пришли к заключению, что в речевом режиме они в основном употребляются для выражения действия, которое будет происходить в будущем (иногда с некоторым оттенком настояще-будущего времени), например: «Тось, тебе ведь сегодня ещё уроки делать», «Так что же мне теперь на тумбочке спать?!», «А чё вас там подслушивать? Нуэ/сны вы больно!», «Ну а за что его не любить?» («Девчата»). Как видно из приведенных примеров инфинитивы в речевом режиме употребляются в основном в вопросительных предложениях, иногда с подтекстом риторического вопроса, а также в предложениях, содержащих некоторое побуждение к действию.
Инфинитивы, как показывает наш материал, могут употребляться и в предложениях, содержащих побуждение к действию, относящееся к плану выражения и настоящего, и будущего времени, например: «Выгнать охранника в шею, выгнать щас Dice, немедленное («Глянец»).
Безглагольные двусоставные и односоставные предложения, по нашим данным, представлены в речевом режиме употребления в количестве, примерно равном формам настоящего времени, на их долю приходится около 40%. Также как и в нарративном режиме, безглагольные двусоставные и односоставные предложения, употребляемые в реальных коммуникативных ситуациях, передают семантику настоящего времени: «Это что же вся твоя обувка?» («Девчата»).
Безглагольные предложения в речевом режиме, могут быть охарактеризованы выпадением любого полнозначного глагола, не только связочного, ср.: «Куда же ты? Да не туда же, назад», «Ой, Катя, и ты в клуб?» («Девчата») (в данных примерах выпущен глагол идешь, служащий для передачи конкретного настоящего времени), «Человек он положительный, плюс не пьет, не курит, работник хороший, вот у них и любовь!» (выпадает глагол есть в значении «является») («Девчата»).
Безглагольные предложения в речевом режиме могут также иметь отношение к будущему и прошедшему, например: «А, между прочим, вы тоже ни на веки» (выпущен глагол будете), «Богатейшая нынче программа» («Девчата») (из контекста становится ясным, что программа будет через некоторое время), «Анфис, ты что? Что-нибудь на работе, да?» (выпадает глагол случилось) («Девчата»). Следует отметить, что при отсутствии контекста относить эти формы, как к прошедшему, так и к будущему времени, является проблематичным, поскольку абсолютно отсутствует любое формальное выражение.
Безглагольные предложения могут иметь и вневременное значение, т.е. такое значение, которое одинаковым образом может относиться к любому плану высказывания, например: «Ну, тебе-то что? В ссоре они» («Девчата») (т.е. лица, о которых идет речь, могли быть в ссоре уже некоторое время назад, сейчас и в дальнейшем эта конфликтная ситуация будет продолжена), «Это у него видимость такая, а сам он хороший» («Девчата») (видимость была, есть и очевидно будет). Таким образом, можно и здесь отметить незыблемость именных конструкций, восходящих к состоянию языка, когда отсутствие глагольной формы было нормой. Повелительное и условное наклонение в речевом режиме разнятся в употреблении временных форм, так, повелительное наклонение относит действия только к плану выражения будущего времени или же настояще-будущего, ср.: «А ну-ка вернись, вернись, говорю!», «Ты подожди меня здесь, я мигом, не скучай!», «Так, девушка, забирайте свои вещи и поезжайте домой, ладно?» («Глянец»). Сказанное о таких предложениях в нарративном режиме полностью относится и к рассмотренным примерам, поскольку для таких предложений нормой является живая речь. Сослагательное наклонение напротив, может относить определенное действие к любому временному плану (к плану настоящего, прошедшего и будущего): «А я бы пошла», «Век бы сидела и не вставала» («Девчата»). Повелительные предложения с временным значением представлены, по нашим данным, достаточно широко (около 12%), а условные лишь незначительно (менее 1%). 2.6. Морфологическое выражение грамматической категории времени в древнерусском языке Как известно, система времен древнерусского глагола включала в себя одну парадигму форм настоящего / будущего времени, четыре парадигмы форм прошедшего времени, две из которых были синтетическими (аорист, имперфект), а две аналитическими (перфект, плюсквамперфект) и две парадигмы форм будущего времени (обе аналитические). Временные формы глагола образовывались от основ настоящего и прошедшего времени. От презентной основы образовывались личные формы настоящего времени, от претеритальной основы образовывались личные формы аориста и имперфекта, а также форма причастия с суффиксом -л. Кроме того, следует подчеркнуть, что все глаголы, в зависимости от наличия между корнем и флексией тематического гласного делились на тематические (абсолютное большинство) и атематические (их было всего пять: byti, dati,jesti, vedeti, ітей).
Категория времени в алтайской языковой группе
Временные формы глагола в алтайских языках с первых фиксаций в письменных памятниках предстают разветвленной системой. Почти все эти формы развивались сравнительно поздно из первичных и вторичных имен действия и вплоть до настоящего времени сохраняют черты именного происхождения (Щербак 1981: 69-73). И. В. Кормушин, отмечает, генетическое единство глагольных и именных показателей в алтайских языках принадлежит к более ранней эпохе, чем единство показателей различных функциональных разрядов внутри глагола (Кормушин 1984: 6). М. А. Баскаков относит подобные именные формы к функциональным формам глагола - «масдарам» (имена действия, инфинитивы, субстантивные формы глагола и проч.) (Баскаков 1981: 66-71).
Взаимодействуя на протяжении дальнейшей истории с глагольными формами именного характера, а также причастиями и деепричастиями Ср. русское причастие на -л), подключая их часто сначала в виде аналитических форм, а затем и синтетических, временные формы образуют ядро словоизменительных категорий глагола, по-разному взаимодействуя с наклонением, лицом и числом.
Анализируя происхождение и становление временных форм в алтайской языковой группе, мы отмечаем наличие на ранних ступенях развития языка различного рода дейктических показателей (см. Приложение 2.). Так, в тюркских языках большинство временных форм сохраняет следы местоимений во всей парадигме спряжения, либо в её части (Кормушин 1984: 9). А. Н. Кононов подчеркивает, что в орхонских языках во всех временах, кроме претерита и сложных форм на его основе, используются личные местоимения в постпозиции, например: qorqur biz «мы боимся» и т.п. (Кононов 1980: 186).
Этот же автор, рассматривая происхождение форм перфекта в тюркских языках, реконструировал древний аффикс -ды «как древнюю форму аффикса принадлежности 3-го лица (=совр. -сы) , который он возводил к местоимению ити «вот этот (недалеко)». Исходя из этого, имя-глагол с местоимением, указывавшим на предмет удаленный, «получило возможность выражать прошедшее время» (Кононов 1951: 115-117).
При этом в тюркских языках древнейшей временной формой глагола считается форма претерита на -тыЛды, парадигма спряжения которой отличается наличием особых окончаний, не совпадающих с формой местоимений. Однако выделение подобного аргумента не следует рассматривать как факт отсутствия дейктических показателей в древних алтайских языках. Подобный пример может лишь послужить свидетельством того, что «формы претерита.раньше остальных форм редуцировали личные окончания и оторвались от причастий в функции сказуемого (Кормушин 1984: 9).
Временная система большинства алтайских языков является трехчленной и опирается на момент речи, как центр организации времени в целом. Соответственно этому в изъявительном наклонении выделяются, как правило, формы прошедшего, настоящего и будущего времени. Ярким примером тому могут послужить тюркские языки. Древнейшей формой настоящего времени в тюркских языках, являлась форма, маркированная показателем -а (И. В. Кормушин, считает древнейшим показателем презенса не аффикс -а, а нулевые формы, которые в дальнейшем дали формы на -а/-ы/-у). Следы этой формы отмечены в огузских языках, староосманском, а также в некоторых диалектах турецкого языка, например: ст.-осм. верэвэн «я даю», cuiajcuH «ты берешь», умавуз «мы надеялись». Как отмечают Б. А. Серебренников и Н. 3. Гаджиева, показатель -а являлся «древним словообразовательным аффиксом, обозначавшим многократное или длительное действие» (Серебренников, Гаджиева 1986: 156), т.е. первичная функция данного аффикса была видовая. Еще одной древнейшей формой служащей для обозначения действия, происходящего в настоящем, а также в будущем, являлась форма причастия на -ар/ эр/-ыр/-ир. Значение этого причастия скорее было модальным, а не временным, оно выражало свойство или состояние присущее предмету вообще. Часто оно придавало действию модальную окраску и имело оттенок предположительности (Серебренников, Гаджиева 1986: 159). Следует отметить, что за этой формой в большинстве тюркских языков закрепилось значение будущего времени, хотя возможным было и употребление в функции настоящего. Интересным является и наличие настоящего времени маркированного показателем -ajAej в древних памятниках азербайджанского языка XV-XVI вв. (Серебренников, Гаджиева 1986: 92), отголоски которого мы находим в диалектах турецкого и современного азербайджанского языков, а также в старокумыкском языке и южном диалекте каракалпакского (Гаджиева 1979: 90). Б. А. Серебренников и Н. 3. Гаджиева высказывают предположение о том, что в тюркских языках существовал особый показатель настоящего времени -j, который присоединялся к основе настоящего времени на -а или -ы. Обращает на себя внимание материальное совпадение этого суффикса с таким же индоевропейским суффиксом настоящего времени, который отмечен в древнегреческом, а также готском.
Что касается форм прошедшего времени, то древнейшими и бесспорно общетюркскими являются формы прошедшего категорического на -ды/-ты (претерита), прошедшего результативного на -ган и -мыш (перфекта). А. М. Щербак, указывает на то, что эти формы распределились соответствующим образом ещё на уровне существования тюркского праязыка (Щербак 1981: 77).
Н. 3. Гаджиева отмечает, что общетюркская форма прошедшего времени на -ды/-ты отличается семантической емкостью и видовой нейтральностью (следует отметить, что в развитии тюркских языков постоянно проявлялась тенденция к созданию прошедшего времени с видовыми значениями, в особенности обозначающих длительное действие в прошлом), она может выражать действие как законченное, так и не достигшее своего предела. (Гаджиева 1990: 527-529).