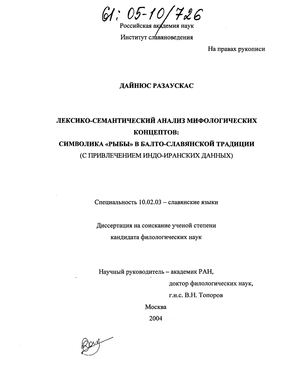Содержание к диссертации
Введение
1. Ядро архетипа «рыбы» 12
1.1. Рыба - Спаситель 12
1.2. Рыба вещая - источник знания и чудесный помощник 27
2. Рыба в связи с символикой нижнего мира 51
2.1. «Рыбный король-пастух» и его паства 51
2.2. Рыба - хтоническое существо, смерть 87
3. Рыба в связи с символикой среднего мира: (воз)рождение и жизнь 137
4. Рыба в связи с символикой верхнего мира 168
4.1. Рыба и небесные светила 168
4.2. Рыба и птица 183
5. Рыба-рябь как объединение оппозиций 216
Заключение 235
Список использованной литературы и источников 239
- Рыба вещая - источник знания и чудесный помощник
- Рыба - хтоническое существо, смерть
- Рыба в связи с символикой среднего мира: (воз)рождение и жизнь
- Рыба и птица
Введение к работе
Актуальность темы
В словнике архетипической модели мира лексема-концепт «рыба» является важной составляющей. В различных традициях, от архаических до современных, образ-символ рыбы нашел отражение в многообразных сюжетах, мотивах и жанрах. В определенном смысле, на рыбе как на фундаменте (ср. мотив рыбы, которая держит на себе землю) можно строить картину мира в отдельных традициях. Построение цельной картины мира - тема сейчас более чем популярная, связанная, в частности, с формированием менталитета и этнокультурной самоидентификацией. Выбор балтийской и славянской традиции ставит целью проследить общие и индивидуальные черты, подводящие к реконструкции балто-славянской картины мира. Далее, от балто-славянской картины мира, составляемой из фрагментов, представленных в мифах, обычаях, ритуалах, мы переходим к картине общего мифопоэтического универсума. И, таким образом, восстанавливая по одной детали, по одному фрагменту «целый организм» (Элиаде 1999, 25), мы пытаемся реконструировать целое. В нашем случае такой основной «деталью» является «рыба».
До сих пор, к сожалению, исследованиям концепта рыбы уделялось незаслуженно мало внимания. Так, нам неизвестно ни одно исчерпывающее исследование, посвященное анализу этого концепта в балто-славянской традиции. Восполнение этой лакуны является наиболее актуальной задачей настоящей работы. Все существующие работы, касающиеся этой тематики (подробнее о них см. ниже), концентрировались или на фольклорном материале, или на лексике славянских языков. В данной работе разного рода материалы включаются в единую систему. Особенностью данного исследования также является введение в рассмотрение до сих пор не привлекавшегося фольклорного и лексического
Заговор на рыбу, «говорить слова на уды и на рыбицу, какую Бог даст» (Забылин, 348-349).
4 материала балтийских языков в сопоставлении со славянскими. Привлечение исторических источников по мифологии балтов и славян дает наиболее полную картину анализируемого концепта.
Метод исследования
При столкновении с разнородным и разрозненным материалом - реалии, тексты, лексические данные, исторические свидетельства - сложно привести его к «общему знаменателю» и получить в результате единое целое. В данном случае выбран семиотический метод, вобравший в себя многообразие подходов и одновременно с этим дающий возможность пользоваться единообразным научным аппаратом. Если, как уже отмечалось выше, каждый факт народной традиции воспринимать как интегральное составляющее некоторого целого, то реконструкция одного мифологического объекта может стать основой для построения гипотетической модели мира.
Реконструкция в данном случае имеет целью восстановить некое вполне исторически реальное, осязаемое целое, которое сохранилось до нашего времени не полностью, а лишь в виде отдельных фрагментов. Но к реконструкции мы прибегаем и в том случае, когда исследуемая традиция до сих пор жива (или была жива до самого последнего времени), но в настоящем существует в виде множества отдельных фрагментов и вариантов, не образующих какого-либо связного целого. Речь идет о так называемой народной, или фольклорной, традиции, с одной стороны, уходящей своими корнями в глубокое прошлое и сохраняющей в себе его осколки, с другой же стороны, никогда не достигающей завершенных форм, однозначных и конечных. В этом случае реконструируется не что-то конкретное, имевшее место в прошлом и утерянное для настоящего, а нечто по самой своей сути абстрактное, никогда не имевшее конкретного воплощения иначе, как в виде разрозненных фрагментов, и тем не менее совершенно реальное, если не сказать живое.
Лучшим примером этому может служить так называемый «основной миф», сформулированный Вяч.Вс. Ивановым и В.Н. Топоровым (Иванов, Топоров 1974) на основании множества данных балто-славянской и, шире, индоевропейской традиции и находящий многочисленные типологические параллели в самых разных традициях мира. Однако спросив об «основном мифе» у носителя традиции, мы, естественно, оставим последнего в полном недоумении. И тем не менее «основной миф» находит себе подтверждение на основе независимого, не привлекавшегося авторами при разработке
5 концепции материала, например, словенского (см. Михайлов 1996), обосновывая таким образом состоятельность заведомо условных построений.
«Основной миф» привлекается в качестве основополагающей схемы и в настоящем исследовании, однако в данном случае он нас интересует в первую очередь как пример совершенно реальной реконструкции не существующего и никогда не существовавшего в осязаемом виде прообраза, заставляющий задаться довольно-таки странным на первый взгляд методологическим вопросом: «где», собственно, «находится» реконструируемый миф или другой целостный факт фрагментарной, вариативной фольклорной традиции, притом устной (несмотря на внешнюю по отношению к ней письменную фиксацию), до того как он был сформулирован исследователем? Разумеется, всегда только в потенции -собственно, в коллективном (в буквальном смысле) бессознательном народа, если пользоваться терминами аналитической психологии К.Г. Юнга. И это «что-то по самой своей сути абстрактное, никогда не имевшее конкретного воплощения иначе, как в виде разрозненных фрагментов», которое воссоздается и осознается при реконструкции, представляет собой архетип коллективного бессознательного соответствующей традиции, интегрируемый таким образом в сознание (см. Элиаде 1999,410-412; о понятии архетипа в религиоведении и этнологии, по существу совпадающем с понятием его в аналитической психологии, несмотря на имевшие место попытки их строгого различения, см. там же и 394).
В данном случае сказанное относится к методологии исследования традиционной символики вообще и символа рыбы в балто-славянской традиции в частности.
Согласно известному последователю Юнга Дж. Хиллману, никакие «археологические раскопки не помогут нам, если наше психологическое осознание не достигнет равной глубины. Иногда мы можем сделать это наше осознание более утонченным путем размышлений над сравнительными фактами психологии. И то, о чем не говорят тексты, мы, может быть, будем в состоянии реконструировать на основе контекста архетипического опыта» (Hillman, 56). Речь идет, попросту говоря, о том, что для реконструкции такого рода недостаточно собрать определенное количество фактического материала, но необходимо проникнуть в глубину самого мифопоэтического мировоззрения или, скорее, даже мироощущения, архаичного и архетипичного по самой своей сути.
Объект исследования
В первую очередь мы обращаемся к восточнобалтийским, т.е. литовской и латышской, традициям, и к восточнославянской, преимущественно к русской традиции. Однако привлекаются данные и из других балтийских (т.е. древнепрусской, известной нам лишь по исторически засвидетельствованным источникам) и славянских традиций.
В работе использованы все доступные виды источников, как исторические свидетельства и фольклорные материалы, так и языковые данные, которым уделяется особое внимание вплоть до выдвижения в определенных случаях предпосылок для решения вопроса об этимологии отдельных лексем. Используются также тексты всех жанров фольклора, в каких только обнаруживаются какие-либо данные о рыбе: народные песни, как обрядовые, так и эпические, сказки, этиологические сказания, легенды, былички, поверья, загадки, поговорки, заговоры и т.д. Используемый материал группируется в первую очередь по семантическому признаку, т.е. по отношению к определенному семантическому составляющему символа «рыбы», и лишь внутри описания этого отдельного свойства распределяется по жанрам и по принадлежности к той или другой традиции.
Разумеется, не все семантические составляющие символа «рыбы» одинаково отражены в разных рассмотренных традициях, а также в разного вида источниках. Отдельные значения символа рыбы неравномерно распределяются и по фольклорным жанрам. Например, душа умершего уподобляется рыбе чаще всего, естественно, в плачах, а невеста - будущая мать сопоставляется с рыбой чаще всего в свадебных песнях, мотив рождения героя из съеденной его матерью рыбы встречается в первую очередь в сказках, а образ рыбы-скота - в быличках и т.п. Однако, как правило, сходные фольклорные мотивы обнаруживаются одновременно в нескольких жанрах, притом в разных в зависимости от конкретной традиции.
В работе также проводятся сопоставления балто-славянских данных о «рыбе» с данными из других традиций. Для этого привлекаются как прямые источники по мифологии и фольклору соответствующих традиций (например «Калевала» из финской традиции, одной из самых близких балто-славянской географически, или «Ригведа» и др. из древнеиндийской, отдаленной в пространстве и времени, но зато связанной с балто-славянской генетически), так и исследования, приводящие факты, касающиеся «рыбы» в этих традициях. Такие сопоставления позволяют установить типичность или же исключительность отдельных балто-славянских мифологических сюжетов или мотивов с участием рыбы.
Богатый материал по символике рыбы из христианской и предшествовавших христианству традиций, собранный в первую очередь в трудах Дёлгера (см. Dolger) и Шефтеловица (см. Scheftelowitz), приводит К.Г. Юнг в своем труде «Aion: Исследование феноменологии самости» (Юнг 1997), посвященном по преимуществу именно символу «рыбы». И хотя непосредственно балто-славянской традиции Юнг не касается, разработки Юнга по символике «рыбы» в указанных традициях служат нам своего рода введением в проблематику и подступом к непосредственному объекту нашего исследования.
За данными о «рыбе» в разных традициях мира, в том числе балтийских и славянских, мы обращаемся к трудам (см. в списке литературы и источников): А.Н. Афанасьева, У. Беккера (см. Becker), X. Бидерманна (см. Biedermann), Н. Велюса (см. Velius), Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова, Дж. Джоубс (см. Jobes), Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова, А.Н. Мещерякова, Л.Г. Невской, А.А. Потебни, В.Я. Проппа, М.А. Рэдфорд и Е. Миненка (см. ЭС), Э.Б. Тайлора, В.Н. Топорова, Дж. Тресиддера, Дж.Дж. Фрэзера, А. Фриза (см. Vries 1976); М. Элиаде (см. также Eliade), также см. МНМ I, II; СБ; Chevalier, Gheerbrant; DS; FW; Herder и др. Используются также следующие этимологические словари: Топоров 1980; Фасмер; Черных; Buck; Fraenkel; Frisk; Karulis; Klein; Mayrhofer; Maziulis; Pokorny; Walde, Hofmann; Vries 1962.
Данные о рыбе в славянских традициях взяты у О.В. Беловой, Л.Н. Виноградовой, А.В. Гуры, В. Даля, Л. Дучыц и С. Санько, М. Забылина, Н.А. Криничной, Е.Е. Левкиевской, В.М. Мокиенко, Н.В. Павлович, Б.А. Успенского, а также в изданиях НРС, РЗЗ, РНПО, РНПЭ, PC, РФ, СД, CM, SSS и др. Основным источником по ихтиологической лексике славянских языков послужила фундаментальная работа В.В. Усачевой «Славянская ихтиологическая терминология: Принципы и способы номинации».
Материалы о рыбе в литовской традиции в своих работах приводят К. Буга, Л. Бугене (Bugiene), Н. Лауринкене (Laurinkiene), В. Маннхардт (Mannhardt), Н. Велюс (Velius); основные используемые источники - Balys I—IV; BE; BLP I, II; BRMS I-III; BV; DZT I, II; Elisonas; Grigas; KAZ; KLT; LD; LKPZ; LKZ; LTII-IV; MS; PP; PSO; Reza; RSPS; SLT; SV; SLP; SLSA; TZ I-V; VKLT и др. Материалы о рыбе в латышской традиции приводят Я. Курсите (KursTte), К. Страубергс (Straubergs), П. Шмитс (Smits), основные источники - BDS (электронный вариант собрания латышских народных дайн К. Барона «Latvju dainas» в Интернете); LTT; Ltt; TPD.
8 Цель и задачи исследования
Разумеется, литература и источники по «рыбе» в балто-славянской традиции (не говоря уж о других) далеко не исчерпываются приведенными выше. Данные о «рыбе» разбросаны по самым разным источникам, и потенциальное количество их, как показал опыт, угрожает возрасти до бесконечности. Тем не менее мотивы, в которых принимает участие «рыба», с определенного момента фактически перестают умножаться и лишь повторяются из источника в источник. Естественно, для получения каких-либо статистических выводов о распределении и частоте отдельных мотивов как в отношении разных традиций, так и в отношении разных жанров, следовало бы изучить по возможности весь доступный материал. Однако мы вовсе не ставили перед собой такой цели; наша цель, как ясно из заглавия работы, - именно символика рыбы в балто-славянской традиции, исследование которой отнюдь не стоит в прямой зависимости от количества источников, а скорее связано с классификацией материала по основным, наиболее ярко выраженным мотивам. Выявление таких мотивов, как общих, так и частных, - основная задача данного исследования.
Но выявлением того мифопоэтического «каркаса», который позволил бы объединить разрозненные частные данные о «рыбе» в балто-славянской традиции, задачи исследования не исчерпываются. Предстоит еще установить факт отражения символики «рыбы» в балто-славянской ихтиологической лексике и возможность ее использования при изучении последней.
*
Таким образом, возвращаясь к сказанному выше, в первой части первой главы «Ядро архетипа „рыбы"» приводятся основные результаты исследования символики рыбы К.Г. Юнгом, полученные им на основе данных наиболее влиятельных дохристианских и христианской традиций. Ядром символики «рыбы» в христианской традиции является уподобление рыбе самого Спасителя. При этом функция спасителя приписывается рыбе уже в целом ряде дохристианских и параллельных христианству традиций (например, в иудаизме, буддизме и др.), в чем состоит предпосылка, как непосредственно генетическая, так и типологическая, появления образа Христа-рыбы. Поэтому первая часть первой главы названа «Рыба - Спаситель». Однако христианский Спаситель есть воплотившееся Слово. В свою очередь, во многих до- и не-христианских традициях рыба-спаситель обладает речью, способностью говорить на человеческом языке, и не просто говорить, а вещать, передавать человеку особого рода (волшебное, магическое, духовное) знание и выступает
9 в роли чудесного помощника. Подобные свойства мифической рыбы обнаруживает и балто-славянская традиция. Отсюда заглавие второй части первой главы: «Рыба вещая -источник знания и чудесный помощник».
В трех следующих главах концепт «рыба» рассматривается в контексте традиционной трехчленной системы мира.
Вторая глава «Рыба в связи с символикой нижнего мира» делится на две части. Первая часть под заглавием «„Рыбный король-пастух" и его паства» посвящена одному из самых популярных в балто-славянской традиции мотиву «рыбьего» или, как его называют, «рыбного короля», который в то же время является «рыбным пастухом». Именно с ним в силу целого ряда соответствий можно связать фигуру рыбы-спасителя, при том, что само слово спасти в русском языке образовано от пасти (в таком же отношении состоят лит. isganyti 'спасти' и ganyti 'спасти'), не говоря о том, что и христианский Спаситель-рыба является «пастырем народов». Фольклорный «рыбный пастух» пасет, в свою очередь, человеческие души, которые после смерти превращаются в рыб. Убедительную параллель для такого развития мотива мы находим в древнеиндийской традиции, где король подводного царства мертвых Варуна, изображающийся сидячим на рыбе и сам иногда принимающий облик рыбы, в то же время является пастырем и спасителем душ.
Здесь мы вплотную подходим к мотиву, соотносящему рыбу с душами умерших, с подводным миром мертвых, его владыкой и хтоническими существами, в первую очередь - со змеей. Этот мотив рассматривается во второй части второй главы «Рыба -хтоническое существо, смерть». В свою очередь, ад и сама смерть действительно нередко представляется в виде большой рыбы, разверзшей пасть. Эту чудовищную рыбу, как правило, побеждает проглоченный ею мифический герой, например, разжигая у нее во чреве огонь и т.п. При этом иногда герой таким образом не только спасается сам, но и освобождает «из рыбы» других ее жертв. Следовательно, мы здесь опять находим спасение и спасителя, только в роли последнего теперь выступает не сама рыба, а герой, побеждающий рыбу. Однако в случае образа большой рыбы, заглатывающей маленькую, оба противоположных варианта совмещаются.
Спасение героя из пасти рыбы-смерти и возвращение его к жизни, в свою очередь, подразумевает возрождение (в частности, в инициации) и, в конечном счете, рождение вообще, представляемое как приход души из мира мертвых в мир живых. Рыба, проглотившая героя, в таком случае принимает на себя функцию утробы и, шире, матери, вынашивающей плод. Образ большой рыбы, проглотившей маленькую, при этом переходит в образ рыбы-матери, вынашивающей рыбу-младенца. При дальнейшем
10 развитии мотива, женщина может зачать просто съев рыбу. Наконец, рыба выступает в роли мужского порождающего начала вообще, с чем связано и ее тесное отношение к плодородию и жизненным силам среднего мира. Отсюда заглавие третьей главы «Рыба в связи с символикой среднего мира: (возрождение, жизнь». Кстати, в этом опять можно обнаружить мотив победы над смертью, которую олицетворяет Спаситель.
Таким образом мы находим объяснение тому противоречивому на первый взгляд факту, что рыба одновременно является и символом смерти, и символом жизни. Однако зримые противоречия символа рыбы этим не исчерпываются. Так, рыба, существо, обитающее в воде и внизу, в то же время представляет собой огонь, и не только известный парадокс «огня в воде» вообще (ср. прозвище древнеиндийского Агни «Отпрыск вод» и т.п.), но, в частности, и огонь в «небесных водах», а именно небесные светила. Первая часть четвертой главы «Рыба в связи с символикой верхнего мира» поэтому имеет заглавие «Рыба и небесные светила».
Вторая часть четвертой главы «Рыба и птица» продолжает исследование небесной родословной рыбы. Оказывается, рыба действительно имеет много общего с птицей: например, плавники рыбы называются крыльями и перьями, птичьим перьям уподобляется рыбья чешуя и т.п. Наконец, имеются материалы (из балто-славянских традиций - в первую очередь в литовской) о непосредственном происхождении рыбы из птицы, позволяющие видеть в рыбе своего рода «падшую птицу» и вспомнить при этом известную аллегорию (например, у Платона и др.) подводного мира как воплощенного, материального существования в противоположность воздушному миру как духовному бытию. Особый интерес в этом отношении представляет «обратный» мотив о превращении рыбы в птицу. И если рыба, произошедшая из птицы, символизирует состояние после падения, то рыба, сумевшая развить в себе природу птицы и вернуть себя в состояние птицы, указывает опять же путь к спасению.
Наконец, одним из наиболее свойственных рыбе в балто-славянской традиции признаков является пестрота, рябость (возможно, даже на уровне этимологии самого русского слова рыба). При этом пестрота, или рябость, а в конечном счете и сама водная рябь - как образ смешения, соединения света и тьмы - опять же выражает медиацию, совмещение, объединение основных бинарных оппозиций, свойственное символу рыбы (через «свет / тьма» - и «жизнь / смерть», «огонь / вода», «верх / низ» и т.п.). Поэтому седьмая и последняя глава называется «Рыба-рябь как объединение оппозиций». Рыбу в этом смысле действительно можно символически уподобить самой водной ряби, которая появляется на поверхности воды лишь при дуновении ветра и этим связывается с
повсеместно известным космогоническим мотивом Духа, носящегося над водами. В некоторых вариантах того же мотива Дух этот, в свою очередь, предстает в образе птицы, а водная рябь, создаваемая на поверхности воды взмахами крыльев этой космической птицы, напоминает рыбу, произошедшую от птицы, тем более что рыба тесно связана и непосредственно с ветром. Во всяком случае, к противоположностям, объединяемым символом рыбы, добавляется «воздух в воде», аллегорически выражающий состояние «духа во плоти», т.е. опять же воплощенное существование в мире. Высвобождение «ветра из воды», связанное с образом успокоения водной поверхности (собственно, волнения), в свою очередь, подразумевает спасение.
Рыба вещая - источник знания и чудесный помощник
Фрэзер усматривает в этом повод для предположения о местном, автохтонном происхождении данного мотива: «В этом предании бхилов рассказ о том, что рыба предупредила своего добродетеля - человека о предстоящем потопе, слишком похож на аналогичный рассказ в санскритской легенде о потопе, чтобы считать его самостоятельным. Можно лишь поставить вопрос: позаимствовали ли бхилы это предание от ариев-завоевателей, или, наоборот, не переняли ли его арии от туземцев, которых они застали во время своего расселения по стране? В пользу этого последнего предположения говорит то обстоятельство, что сказание о потопе не встречается в наиболее древней санскритской литературе, а впервые появляется в книгах, написанных значительно позже того, как арии осели в Индии» (Фрэзер 1990, 104). Однако аргументы такого рода не являются состоятельными или, по меньшей мере, достаточными, на что по другому поводу указал Кёйпер (Кёйпер, 112-117). «Строго филологический подход, - по словам Кёйпера, - приводит к эволюционистскому взгляду, приписывающему все понятия, не выраженные прямо в „Ригведе", более позднему развитию», однако существует возможность реконструкции мифологического мотива, «дополняя очень недостаточные данные древних текстов данными более поздних источников, которые явно уходит своими корнями в ту же, по существу, систему мифологических представлений» (Кёйпер, 117). Поэтому отрицать лишь на этом основании наличие данного мотива в индоевропейской традиции нельзя.17
К тому же, во-первых, существует мнение о том, что все-таки это «рыбье воплощение всевышнего Вишну, указывающее на происхождение вселенной, видимо, имеет свои корни в „Ригведе". История развилась из доктрины о Хираньягарбхе. Рыба есть символ яйца, из которого происходит вселенная» (Chawla, 117). Во-вторых, участие рыбы в преданиях о мировом потопе известно и за пределами известного индоарийцам мира. Так, сам Фрэзер приводит рассказ из Новой Гвинеи, в котором убийство и поедание рыбы - отношение, прямо противоположное почтительному присмотру и послушанию, -не только не приводит к спасению, а, наоборот, как раз влечет за собой потоп:
«Вальманы, живущие на северном берегу Новой Гвинеи, рассказывают, что однажды жена одного очень праведного человека увидела большую рыбу, плавающую у берега. Она подозвала мужа, но тот никак не мог рассмотреть ее. Женщина посмеялась над ним и спрятала его за банановым деревом, чтобы он сквозь листья выслеживал рыбу. Когда он наконец разглядел ее, то страшно испугался и приказал своим детям не трогать эту рыбу. Но другие люди взяли лук, стрелы и веревку, убили рыбу и вытащили ее на берег. Хотя праведник предостерегал их, чтобы они не ели рыбу, они его не послушались. Тогда он тут же угнал животных наверх в лес, по паре от каждой породы, а сам со своей семьей взобрался на кокосовую пальму. Не успели нечестивые люди съесть рыбу, как вода поднялась со дна и с такой силой хлынула на землю, что никто не успел спастись. Все люди и животные потонули. Когда вода достигла верхушки самого высокого дерева, она столь же быстро спала. После этого праведник спустился с дерева вместе с семьей и стал разводить новые плантации» (Фрэзер 1990,114-115).
Причем непочтительное отношение к рыбе, приводящее к потопу, здесь исходит от «ж е н ы одного очень праведного человека», в противоположность спасшемуся от потопа праведнику мужчине - как и спасенный рыбой Ману (вплоть до этимологического соответствия между др.-инд. тапи- и нем. Мапп, англ. man, рус. муж и др. и.-е. manu-s или monu-s человек, мужчина 18), - тем лишь подчеркивая симметричность структуры обоих сюжетов.
Далее, например, «в одной из китайских версий потопа Гунь принимает после гибели облик рыбы, а из его тела возникает Юй, которому удается укротить воды» (Топоров 1982, 392). Вообще «в ареале распространения мифов и преданий о потопе и особенно на его периферии (Сирия, Палестина, Малая Азия, Закавказье, Иран и др.) хорошо сохраняются следы „рыбной" мифологии и культа рыбы. Древнейшее свидетельство - шумерский текст (т.н. „Дом рыбы"), представляющий собой монолог (видимо, божества), посвященный заботам о безопасной жизни рыбы, для которой строится специальный дом (ср. в этой связи сведения о храмовых бассейнах для рыб на Ближнем Востоке и в Закавказье). [...] Контекст расширяется, если учесть, что шумерский бог Энки, установивший порядок во вселенной, наделяет реки и болота рыбой и назначает бога, „любящего рыбу" (имя его остается нерасшифрованным). Так как у Энки есть свой корабль, то шумерская схема (бог воды на корабле, заботящийся о рыбе) оказывается инвертированной по отношению к индийской схеме потопа (рыба заботится о первочеловеке). [...] Вавилонский Эа, соответствующий шумерскому Энки, мог представляться в виде человека-рыбы. Эа приписывались не только мощь и мудрость, но и целительные способности; известны изображения „рыбообразного" Эа у постели больного ребенка (ср. роль изображения и фигурок рыбы в целебной магии). О широком распространении культа рыбы в Закавказье свидетельствует, в частности, использование рыбы (например, форели) при лечении разных болезней (в том числе бесплодия)», что тоже указьвзает на рыбу как на своего рода спасителя, в данном случае - от физических недугов; наконец, в том же ключе «с рыбой связывается и тема умирающего и воскресающего бога плодородия, которая прослеживается в контексте реконструкции афро-евразийского мифа об Иштари (Иштар) и ее соответствиях; идеографически один из основных центров культа Иштар Ниневия обозначается как „дом рыбы"» (Топоров 1982, 392). К теме умирающего и воскресающего бога приведем, вслед за Н.В. Брагинской, указания Вячеслава Иванова на некоторые аналогии между возникающим христианством и религией Диониса: «В евангельских притчах и повествовании мы встречаем непрерывную череду образов и символов, принадлежащих кругу дионисических представлений. Виноград и виноградник (ampelos Dionysu); виноградари, убивающие сына хозяина в винограднике, - как титанические виноградари в винограднике умерщвляют Вакха, он же непосредственно сын Диев, рожденный из чресел небесного отца; рыба и рыбная ловля (Dionysos ichthys как ichthys, наравне с Орфеем, - символ Христа; Dionysos halieus [ Дионис морской ]); чудесное насыщение народа хлебами и рыбами; хождение по водам и укрощение бури» и т.д. (Брагинская 325). В свою очередь хорошо известна связь Диониса с кораблем, как, например, в Гомеровском гимне «Дионис и разбойники», где тот сбрасывает морских разбойников с корабля в море и превращает их в рыб (вернее, в дельфинов), оставляя (т.е. спасая) при этом лишь одного богобоязненного (т.е. праведного) кормчего (см. АГ, 111-112; Jung, Kerenyi, 67). Тем более что корабль как таковой в античном (как и в христианском) символизме сам может отождествляться с рыбой (Jung, Kerenyi, 46, 51).19 В таком случае спасение рыбой человека можно усматривать не только в предупреждении последнего о грядущем потопе и обучении необходимым приготовлениям, но и в непосредственном вынесении его из воды на своей спине = палубе корабля (об этом под другим углом зрения еще будет говориться). Ввиду близости Диониса Деметре [ср. гимн Каллимаха «К Деметре»: «Что ненавидит Деметра, всегда Дионис ненавидит» (АГ, 169)], можно еще упомянуть почитание рыб в Элевсинских мистериях (Jung, Kerenyi, 151).
Рыба - хтоническое существо, смерть
Владыка вод во многих традициях имеет облик рыбы. Например, «среди божеств дакота высшим духом их колдовства и религии считается Унктахе, бог воды в виде рыбы» (Тайлор, 405). В образе рыбы выступает морской дух и хозяин рыб камчатских ительменов Митг, или Митгк (МНМ II, 275; Тайлор, 89, 406). В русской народной традиции водяной также не только царствует над рыбой, пасет рыбу, но и сам представляет собой рыбу. «Рыба - традиционный облик водяного, хотя чаще всего он то рыба, то человек; и рыба и человек или ездит на рыбе. [...] Водяной может быть „щукой без наросного пера" (Вятская губ.), может „напоминать налима" (Вологодская обл.), быть просто „громадной рыбой" (Вологодская обл.) или рыбой, ведущей себя необычно: Один мельник ловил рыбу ночью. Вдруг к нему в лодку вскочила большая рыбина. Мельник догадался, что это водяной, и быстро надел на рыбу крест. Рыба жалобно стала просить мельника отпустить ее... Наконец он сжалился над водяным, но взял с него слово никогда не размывать мельницу весною (Новгородская обл.)»; «Днем он рыба (сом), а ночью - старик с длинной зеленоватой бородой и сосновой плесой (Тамбовская обл.)» или же «водяной - одетая моховым покровом щука, которая держит морду по воде (Новгородская обл.)» (PC, 95, 97)67. Таким образом, «по утверждению рассказчиков, водяной может выглядеть, как рыба (превращаться в нее или казаться ею). Наиболее часто водяного видят в облике щуки, культ которой был распространен и у славянских, и у финно-угорских народов» (Криничная, 453). «У лужичан известны рассказы рыбаков о водяном, принимающем облик чудовищной, сильной щуки. Иногда у такой щуки телячьи [!] глаза, она прыгает на спину рыбаку, исчезает в виде черного облака или улетает уткой. В виде щуки часто представляют водяного и на Русском Севере: такая щука отличается от обычной огромными размерами» и т.п. (Гура, 753). Тем самым «щука воспринимается как нечистое существо. Ей приписывается близкое знакомство с нечистой силой» (Гура, 752):
Водяной - так это водяная сила. У нас тут тоже потонул мужик, а жена поехала тело разыскивать. Там, в Данилове живет Ольга Васильевна Якимова, у нее мужик потонул, она и поехала вместе со свекром. Вот та баба, которая умела вызывать лешего, вот она и водяного вызывала. Вызывала водяного, и она этой Ольге Васильевне написала записочку - так и так, чтобы тело найти. Вот они в лодку сели и поехали. Как только выехали, она эти слова, что ей написали, три раза прочитала, и вот щука такая б ольшиханская нырнула под лодку, и надо было им за этой щукой плыть, она бы их привела к утопленнику. Они испугались и вернулись. Да нет, тут уж не щука была. Она вызвала водяного, это водяной щукой показался. Да уж в леща или в налима он не превратится, а щука - рыба хищная. В щуку может превратиться нечистая сила (Левкиевская, 344-345) .
Вспомним, что очень похожим образом «большая рыба» вела корабль Ману. Обратим также внимание на то, что рыба, спасшая Ману, была рогатой: «Тут всплыла к нему рыба, и к ее рогу он привязал корабельную веревку» (см. в главе 1.1). Также ср. выше рогатую акулу, верхом на которой изображался Варуна. Русский водяной, как только что упоминалось, тоже ездит на рыбе. В свою очередь, у него, по словам Е.Е. Левкиевской, может быть «рыбий или коровий хвост, гусиные лапы с перепонками или коровьи копыта, кожа, как у налима, р о г на голове» (Левкиевская, 341) или два рога (см. PC, 96, 97; ЭС, 71). И ведет он себя так дружелюбно, как в вышеприведенной быличке, далеко не всегда. В севернорусских житиях святых, например, рассказывается:
Ехали через Мезень реку в лодке Нисогородской волости Фока с братьею Петровы дети на пашню свою и плавили лошадь, и выехали до полуреки, и найде на них дух нечистый водный и нача лошадь топити; они же лошадь держаху, а нечистый дух яве хождаше аки рыба велика волнами и нападаше на лошадь и за лодку хваташе, потопить хотя... (Криничная, 502; ср. Левкиевская, 345).
Вообще чаще всего «водяной злобен и враждебен людям. Из всех духов-„хозяев" он ближе всех стоит к ч е р т у, а во многих местах Полесья считают, что черт и водяной -одно и то же» (Левкиевская, 344)69. Иногда он представляется просто как «черное, обросшее волосами человекоподобное существо с рогами, хвостом и когтистыми лапами» (Криничная, 457)70. «Обитатели дома водяного - чертенята (Вятская губ.), у хаты водяного множество детей-чертенят, шумно, играет музыка (Тульская обл.)» (PC, 98). «Отношение к водяному как к представителю „левого" мира и нечистой силы выражено в следующих номинациях: цёртышко-перевёртышко (рус. арханг.), водяный черт (волын.)» и т.п. (СДI, 396). «Былая соотнесенность водяного с определенной породой рыб просматривается в поверье, согласно которому у него есть своя рыба, называемая „лежная", или „чертова рыба", т.е. рыба водяного, который в данном случае представлен уже в качестве нечистой силы. Имеются в виду, например, голые рыбы: налимы, угри. [...] Иная рыба, например сом, используется им вместо лошади в поездках под водой. Это „чертов конь"» (Криничная, 454). Ср. еще пример щучьих проявлений водяного, записанный в Полесье и явно раскрывающий его «нечистую» природу:
Одын чоловик на Благовишчэне кажэ: пойду заколю пару рыб и пойду в цэркву. Ну, и пушов вин на тое озэро. И появилася тая шчука. И вона его водила всё врэмне, пока людэ з цэрквы нэ выйшлы. Вин тылько ее хочэ сколоты, а вона уходить. И вот вона его водыла-водыла и доводила почты до обэдни. Всю обэдню проводила, и наврэшты тогды плюнув, и вона засмиялася в води. И вин пэрэхрэсьтывся и пошов до дому (Гура, 752-753; см. Левкиевская, 346).
Выше уже упоминалась литовская быличка, в которой озерный «господин», приходящий за своей рыбой-«свиньей», прямо назван чертом, velnias (BLP I, 72, № Ш.9). Водяным духам, проявляющим себя непосредственно в облике рыбы, в литовском фольклоре тоже, по словам Л. Бугене, «свойственны черты, позволяющие непосредственно связать их с вяльнясом, например, пойманные во время обедни рыбы превращаются в пни (LTR 1608/141), у щуки вырастают рога, крылья и хвост, щука превращается в собаку (LTR 1289/134) и т.п. Такие метаморфозы - характерное свойство вяльняса» (Bugiene, 42; см. Velius 1987,42-43). Например,
Pasakojo vienas senas zmogus, kad syk\ vienas zmogus sventq dienq nuejes { ezerq maudytis. Nusirenge_s pradejo plaukioti, pamate atplaukiant baisiq zuv[. Jis kai tik tokiq nepaprastq zuv( pamate, dar netoli nuo krasto buvo, tai jis pasiskubino laukan begt ant kranto. Toji zuvisjl vyti, bet pavyt nepasiseke. Tikpaskui isgirdo balsq iS vandens: „ Tavo laime, mano nelaime, - tau ЬйЩ daugiau nereikejq sventq dienq eit megint vandenti Рассказывал один старый человек, что однажды один человек на праздник пошел на озеро купаться. Разделся, стал плавать и увидел, что к нему приближается страшная рыба. Он, как только такую необыкновенную рыбу увидел, еще недалеко от берега был, так сразу же поспешил бегом на берег. А эта рыба бросилась вдогонку, но догнать его не удалось. Только потом услышал он голос из воды: «Твое счастье, мое несчастье, - тебе больше не пришлось бы на праздник идти воду пробовать» (Bugiene, 42; Balys III, 486, № 728А; варианты: Balys III, 486, № 728В, 487, № 732).
Рыба в связи с символикой среднего мира: (воз)рождение и жизнь
Как заметил уже Потебня, герой русской сказки «Иван Голик, брошенный в море и поглощенный большою рыбою, добывается из нее на свет, и это, быть может, есть его настоящее рождение» (Потебня, 277, 278). По наблюдениям Проппа, «в Буине некогда существовал обычай бросать кости сожженных трупов рыбам», и «это бросание костей рыбам для нас очень важно. Оно приводит нас к кругу представлений, что съеденный рыбой или змеем вновь возрождается» (Пропп 1976,230). Юнг утверждает, что чудовище-кит, заглатывающий героя, есть «символ Страшной Матери» и что здесь «мы сталкиваемся с идеей Страшной Матери в форме пожирающей рыбы, персонифицирующей смерть», а также обращает внимание на «тесную связь между [др.-гр.] delphis дельфин и delphys матка » (Jung 1990, 248). По словам Юнга, «почти неизменной особенностью мифа о чудовище-ките является то, что герой во чреве чудовища испытывает сильный голод и для пищи отрезает куски внутренностей. На самом деле он находится внутри „матери кормилицы"» (Jung 1990, 338), т.е. как бы во вскармливающей его утробе.
Тут надо вспомнить о весьма широко распространенном и достаточно хорошо известном символическом тождестве охоты и любви, пожирания и оплодотворения вообще121, которое отражается, например, и в русском слове чрево брюхо, живот , но в то же самое время и утроба ; ср. соответственно др.-гр. enteron (pi.) кишки, кишечник и чрево, матка , а также ср.-ниж.-нем. inster внутренности убитого животного , лтш. ieksas внутренности, потроха , но лит. [scios в основном, а ныне и единственном значении утроба 122 и т.п. Здесь мы находим тот же «двойной символизм», связанный с архетипом смерти и возрождения, о котором выше говорил Элиаде, частный случай которого и составляет пожирание рыбой, которая в то же самое время представляет материнскую утробу. Отсюда и подмеченная А.В. Гурой «символическая амбивалентность рыбы: она является одновременно и символом смерти, и символом рождения» (Гура, 747).
Ср. в этом отношении известные представления о vagina dentata, притом в «Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend», в статье, посвященной этому образу, кроме всего прочего, говорится: «Согласно верованиям индейцев васпишиана и тарума, первая женщина в своей вагине имела рыбу, пожирающую плоть» (FW, 1152). Далее признак пожирания утрачивается, и рыба уже символизирует просто женские половые органы, утробу, матку, наконец, само материнство и саму женственность. Так, по сведениям Юнга, «в беотийской вазовой росписи „повелительница зверей" изображается с рыбой между ног или внутри тела» (Юнг 1997, 132), в чем Юнг, правда, усматривает указание непосредственно на рыбу-сына, но в этих двух интерпретациях (мать и сын, матка и зародыш), как мы еще увидим, вовсе нет противоречия. Во всяком случае, Мария Гимбутас, обсуждая археологические находки на Мальте (IV—III тысячелетия до н.э.), обращает внимание на ряд скульптур, изображающих лежащую на кровати женщину с выраженными детородными органами. Но «поскольку и рыбы лежали на таких же кроватях, можно предположить, что и женщина и рыба могли иметь сходное символическое значение. Рыба является одной из самых ярких инкарнаций Богини и ее матки. Лежащие на кровати и рыба, и женщина (Богиня) могут символизировать инкубацию в могиле и следующее за ней возрождение» (Gimbutiene 1996, 175). Ниже исследовательница еще раз обращает внимание на фигурку, которая «изображает рыбу, лежащую на кровати. Так как в Древней Европе рыба символизировала Богиню и ее матку, можно думать, что здесь представлена сама Богиня в процессе регенерации» (Gimbutiene 1996, 204-206). Ср. в этом отношении такое русское название рыбы, как бабура подкаменщик , производное от баба; сверху эта «рыба представляет собой почти треугольник, в основании которого широкая большая голова и резко сужающееся к вершине треугольника, то есть к хвосту, тело; эта же рыба местами носит название vulva-piscis; возможно и катька-рыба подкаменщик (костром.) того же происхождения. Ср. подобные обсценные названия: рус. курва снеток ; с.-хорв. попов курац чоп , pizdin poklopac серебряный карась » (Усачева, 173).
В окрестностях литовского села Гервечяй до сих пор о рождении ребенка говорят zuvys dave, буквально рыбы дали , например: Dar sako: bacenas atanese, ё anksftau - zuvys jam dav[e] berniokq a mergiotq Теперь говорят, аист принес, а раньше - рыбы ему дали мальчика или девочку (Lipskiene, 139; LKZ XX, 1009).
Сюда же, видимо, относятся и представления о происхождении людей из рыб вообще. См. выше о том, что «в одной из китайских версий потопа Гунь принимает после гибели облик рыбы, а из его тела возникает Юй, которому удается укротить воды» (Топоров 1982, 392), где мы снова находим в образе рыбы смерть и возрождение. В мифологии индейцев тукуна (Бразилия, Перу, Колумбия) культурные герои «Дьяй и Эпи из пойманных ими рыб сотворили людей» (МНМ I, 417). Вообще «существуют поверья о рыбах разных видов как о предках людей» (Топоров 1982, 393). Еще раз вспомним в этом отношении и австралийское предание о туземных «Ромео и Джульетте», в самом начале которого говорится, что «в давние Времена сновидений молодой мужчина по имени Магги был рыбой баррамунди - гигантским окунем» (Кудиновы, 74, № 49). Упоминались также и наблюдения Фрэзера о том, как перуанские индейцы «представляли себе происхождение клана от рыбы, как рыбы появились на земле из-под воды, как они были обучены человеческому языку, стали ходить на ногах и пр.» (Пропп 1976, 228). А вот Анаксимандр по этому поводу говорил, согласно цитате у Censorinus a («De die natali» 4.7), что «из теплой воды и земли родились рыбы, или рыбоподобные существа, а в этих существах сформировались люди. Эмбрионы оставались в них до половой зрелости. Тогда рыбоподобные существа раскрывались, и из них выходили мужчины и женщины, уже способные себя прокормить» (Jung, Kerenyi, 46). Далее К. Кереньи вспоминает древнеиндийского Вишну, в облике рыбы спасшего от потопа Ману, и поскольку тот же Вишну породил из себя вселенную, богов и людей, он, «следовательно, является одновременно рыбой, эмбрионом и маткой, чем-то вроде анаксимандрова первичного существа»; причем «рыба-матка», порождающая богов и героев, была известна и греческой мифологии: по словам Кереньи, «греки называли ее „животным-маткой" и почитали больше всех жителей глубин, как бы признавая в ней способность самого океана рожать детей. Это существо - дельфин», «ср. delphys матка , a-delphos брат (от той же матери) » (Jung, Kerenyi, 49-50), о чем нам уже напоминал
Поскольку рыба приобретает символическое значение утробы, матки и материнства, понятно и ее частое сопоставление вообще с женщиной, особенно с невестой - будущей матерью. Например, - в литовской народной песне LTR 5086(27), подразумевающей свадебный контекст: Lydekele seserele, I Paduok Шкц skepetelq. I Paduok Шкц skepetelq, I Nusluostyk asareles Щучка-сестрица, I Подай шелковый платочек. І Подай шелковый платочек, / Утри слезы и пр. (причем в виду известной аналогии свадьба-смерть рыба здесь опять же обнаруживает связь со смертью) (Tiinkunaite, 89-90; см. Bugiene, 53). Или еще: Mares ziuveles - musti mergeles svetimosios saleles Морские рыбки - то наши девушки с чужой сторонки (LKZ XX, 820). Слово iuxis рыба издавна употребляется в качестве ласкательного обращения к женщине, жене, подруге, например, Мапо zuvyte Моя рыбочка в словаре Нессельманна (Nesselmann) 1851 г. (LKZ XX, 1013) или Мапо zyvyte grazioji Моя рыбочка прекрасная в словаре Бродовского (Brodowski) середины XVIII в. с пояснением: «Это самый красивый любовный эпитет литовских женщин» (SLT, 403). Ср. типичные современные поговорки: Geros mergos, kaip lydekos! Хорошие девицы, как щуки! (с. Пеляса); Apsilaizytai pamates - merginos kaip lydekos Увидишь, облизнешься: девушки как щуки (В. Креве-Мицкявичюс) (LKP2, 146). Загадка Vikri mergaite, sidabro suknaite Шустрая девочка, серебряная юбочка имеет разгадку zuvis рыба (MS, 146). Параллелизм рыба - девушка и, соответственно, рыбалка - свадьба в литовском фольклоре чрезвычайно популярен и, видимо, составляет вариант более общего известного параллелизма охота - свадьба/соитие (см. Stukaite, 36-40). Также ср. уже приводившуюся по другому поводу песню, в которой сначала утопленница превращается в рыбу, а эта рыба, после того, как ее поймают рыбаки, вроде бы собирается снова превратиться в девушку: Tai Ъйб buvusi zvejn mergele, / pajuriskiti mar tele Вот была бы рыбачьей невестушкой, / рыбачьей снохой . Здесь мы опять наблюдаем связь свадьбы со смертью: сначала девушка умирает и превращается в рыбу, и лишь после этого рыба - в невесту.
Рыба и птица
Солнце во многих традициях, как известно, представляется птицей, ср. крылатое солнце Гора, сокола Ра в Древнем Египте, солнечную птицу Гарутмант в «Ригведе» и т.п. Что касается Млечного Пути, то надо иметь в виду «одно из самых распространенных его наименований птичий путь , используемое на территории от Балтийского моря до Тянь-Шаня», как то лит. РаикЗсіц takas, «названия Птичий Путь и Гусиная Дорога, Журавлиная Дорога известны и в русских народных говорах, они есть и в других славянских языках, например: пол. Droga ptasia, укр. Дорога у вирій» (Карпенко, 20). Так как и солнце, и звезды Млечного Пути, этой ночной «небесной реки», соотносятся с рыбами, в этом можно узреть и косвенное уподобление рыб птицам.
В частности, «птица есть представительница воздушного царства мертвых, рыба -подводного. Эти представления стоят в связи с образованием представлений о воздушном далеком царстве мертвых, куда улетают, и о царстве мертвых, находящемся под землей или под водой» (Пропп 1976, 230)163. Но так как воздушное далекое царство мертвых, как мы видели, при кружении небесных сфер меняется местами с водным-подземным, или подводным, то рыба периодически должна занимать место птицы и наоборот. Вспомним здесь, например, о том, что в росписи на одном из позднеэллинистических саркофагов «над мумией парит рыба вместо обычной птицы - души» (Юнг 1997,140).
Как уже не раз говорилось, «в герменевтических сочинениях Отцов Церкви, восходящих еще к дням первоначального христианства, Христос имеет несколько символов или „аллегорий", общих с дьяволом», в частности, «птицу (дьявол = nocturna avis [ночная птица!]), ворону (Христос = nycticorax, ночная цапля ), орла и рыб у» (Юнг 1997, 89). В народной традиции птичьи черты, в свою очередь, иногда принимает водяной, непосредственно связанный с нижним потусторонним миром, отождествляемый с дьяволом, чертом и, как правило, выступающий в облике рыбы, о чем развернуто говорилось выше. Так, «у лужичан известны рассказы о водяном, принимающем облик чудовищной, сильной щуки. Иногда у такой щуки телячьи глаза, она прыгает на спину рыбаку, исчезает в виде черного облака или улетает уткой» (Гура, 753). Также и в русской традиции, «кроме рыбьих обликов, водяному свойственны и птичьи. Чаще всего водяной бывает именно обитающей на воде птицей - лебедем (Тульск., Олон.), селезнем (Юг), гусем, точнее, человеком с гусиными руками и ногами (Олон.)» (PC, 95). По данным О.А. Черепановой, «он похож на рыбу с хвостом. Снизу у него два крыла»164. По словам СВ. Максимова, под Вологдой «в Кадниковском у. увидали [водяного] духа в виде толстого бревна, с небольшими крыльями у переднего конца, летящим над самою водою» (ЭС, 71; см. PC, 97).
Похожим образом водяного представляли и в Литве. Уже приводились слова Л. Бугене о том, что «в доступных нам записях фольклора литовским водяным духам свойственны черты, позволяющие непосредственно связать их с вяльнясом, например, пойманные во время обедни рыбы превращаются в пни (LTR 1608/141), у щуки вырастают рога, крылья и хвост» (Bugiene, 42) и т.п. По другому поводу уже приводилась быличка, в которой рассказывается: О cion is galvos zuvies pradeda ragai augti, sparnai, opaskui ir uodega. Irpavirto lydeka {tokiq baidyklq, net baisu ziuretl А тут из рыбьей головы рога стали вырастать, крылья, а потом и хвост. И превратилась щука в такое страшилище, что страшно смотреть! (BLPI, 73, № ШЛО).
Образ крылатой рыбы проявляется и в том, что, например, литовское sparnas крыло непосредственно принимает значение рыбий плавник , например: Sparnas zuvies Крыло рыбы (в «Dictionarium trium lingvarum» К. Сирвида, начало XVII в.); Sparnai zuvies vadinas pelekai Крылья рыбы называются плавниками (в «Литовском словаре» А.Юшкевича, 1897-1922); Zuvys laikos ant sparni{ Рыба держится на крыльях ; Zuvyte sparnais pasivarineja Рыбка крыльями продвигается (из живой речи); Zuvaite ро vandenl asjaunapo darzell zuvaite su sparneliais, asjauna su kvietkeliais Рыбка по воде, я молодая по цветничку, рыбка с крылышками, я молодая с цветками ; Atplauke iuveU raudonais sparneliais... Приплыла рыбка с красньми крылышками... (из фольклора); ср. также наименования рыб raudonsparne красноперка , буквально краснокрылая ; minkstaspafne zuvls рыба Anacanthini , буквально - мягкокрьшая рыба (LKZ XIII, 329; XI, 267; XX, 1008, 1010) и т.п. Ср. также sperklas плавник и такие, видимо, контаминированные с pelekas плавник формы, как sparlekas, sperlekas (LKZ XIII, 328, 380). Ср. отождествление на этой основе рыбы и птицы в загадке: Turi sparnus, bet nelekia, neturi kojti bet nepavysi Имеет крылья, но не летит, не имеет ног, но не догонишь - «рыба» (MS, 146; STKS, 173). Ср. в этом отношении следующие латышские народные четверостишья: Ai, mencini, zeltsparnlti, Эй,трескочказолотокрылая, Nak аг mani viesoties; Пойдем со мной гостить; Es tev dosu kumosinu Я же тебе дам кусочек Zida diega galinai. На конце шелковой жилы (BDS, № 30695; ср. № 30694). Lidacina zeltsparnite, Щучказолотокрылая, Nac ar mani speleties; Пойдем со мной играть, Ти dzi(ajurina, Ты в глубоком море, Es ozola laivina. Я в дубовой лодочке (BDS, № 30807 var.). В свете сказанного в предыдущей части данной главы о небесных светилах в образе рыб можно вспомнить и такие уже приводившиеся строки из «Ригведы» 1.105.1: «Месяц в глубине вод:/ Прекрасно к р ы л ы й (suparnd-) мчится по небу». Определение su-parrxa- прекраснокрылый , наряду с др.-инд. рагпа- крыло, перо , этимологически непосредственно соотносится с лит. spafnas, лтш. spams крыло , с которыми в славянском, не говоря о соответствиях в других и.-е. языках, связано рего, ср. др.-рус. перо крыло (XII в.), перо (XV в.), рус. перо и др.165
В свою очередь, русское слово тоже может пониматься, по определению В. Даля, как «рыбье перо, плавник, плавильце, плавательное перо; бывает: хребтовое, плесковое (хвостовое), жабреное, брюшное или красное» (Даль III, 101). Но и золотое, ср. следующий отрывок из русской песни свадебного цикла: Оне выловили цело три окуня, I Да три окуня златопёрые (РНПО, 208, № 314); вариант: Они выловили целых три окуня, да и за Дунай, I Целых три окуня да златопёрые, да и за Дунай (РФ, 91). Ср. также следующие отрывки из былины «Садко»: А я знаю, что во Ильмень да во озере IА что есте рыба-то перья золотые ведь; А я в кажну тоню дам топерь по рыбины I Уж как перья золотые ведь; А как мне, Садку, только есть одним да мне похвастати, - I Во Ильмень да как во озере I А есте рыба как перья золотые ведь (РНПЭ, 121-122). Ср. также в пересказанной выше А.А. Потебней сказке о царице, зачавшей от съеденной рыбы: «У царя нет детей. По совету нищего он приказывает девкам-семилеткам за одну ночь напрясть, а мальчикам - сплести шелковый невод. Тем неводом поймали золотоперого леща» и т.д. (Потебня, 277-278). Причем этимологическое соответствие как между первыми, так и между вторыми составляющими выражений лтш. zeltsparnis и рус. золотопёрый указывает, может быть, на общий прообраз соответствующей балто-славянскому единству древности.
В иных случаях мы имеем дело лишь с семантическим соответствием. Ср., например, русскую загадку с ответом «рыба»: Кину не палку, убью не галку, ощиплю не перья, съем не мясо (Загадки, 32, № 586; Даль IV, 116, вар.: III, 101) и литовскую (диал.) с тем же ответом: Nupese - пе рій ksnas, suvolge - пе masu. (= mesa) Ощипали - не перья, съели - не мясо (STK.S, 173).