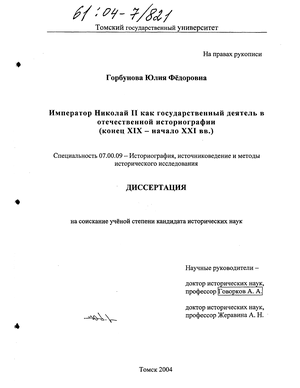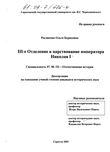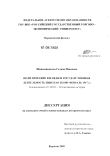Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Император Николай II как государственный деятель в восприятии современников 42
1.1. Образ последнего самодержца в записках отечественных авторов 42
1.2. Первый опыт анализа государственной деятельности императора николая ii в дореволюционной отечественной публицистике 85
1.3. Отечественная историография 1917 г.: подведение итогов царствования императора Николая II в Революционной России 140
ГЛАВА II. Государственная деятельность императора Николая II в изображении советской и эмигрантской исторической науки и публицистики 161
2.1. Государственная деятельность императора Николая II в изображении советской исторической науки и публицистики 161
2.2. Государственная деятельность императора Николая II в изображении эмигрантской исторической науки и публицистики 210
ГЛАВА III. Современное состояние отечественных исторических знаний о государственной деятельности императора николая iiи возможные перспективы их развития 246
3.1. Государственная деятельность императора николая п в изображении современной отечественной исторической науки и публицистики 246
3.2. Возможные перспективы развития отечественных исторических знаний о государственной деятельности императора Николая II 294
Заключение 371
Список использованных источников и литературы 381
- Образ последнего самодержца в записках отечественных авторов
- Отечественная историография 1917 г.: подведение итогов царствования императора Николая II в Революционной России
- Государственная деятельность императора Николая II в изображении советской исторической науки и публицистики
- Возможные перспективы развития отечественных исторических знаний о государственной деятельности императора Николая II
Введение к работе
Более века минуло с того дня, как последний представитель династии Романовых - Николай Александрович Романов вступил на российский престол. Вместе с тем можно сказать, что и историографическая традиция, сложившаяся вокруг имени этого монарха, тоже уже отметила свой столетний юбилей, поскольку первые попытки оценить Николая II как человека и государственного деятеля стали осуществляться именно его современниками практически с момента воцарения, впервые достигнув пика в ходе революции 1905-1907 гг. Вот почему, если верно, что историографические факты — вещь тоже довольно упрямая, то явно ошибочными представляются утверждения историков, будто «первая книга, повествующая о Николае Александровиче Романове..., была издана в Германии в 1912 году», или, тем более, будто «первая волна книг, брошюр и статей приходится на 1917-1918 гг.»1
С тех пор фонд документальной, научно-исследовательской, публицистической, даже художественной литературы о последнем самодержце быстро, хотя и не беспрерывно пополнялся , а на нынешнем этапе своего роста вовсе сделался трудно обозримым: вот уже около пятнадцати лет в нашей стране год от года исправно публикуются все новые и новые работы современных учёных и публицистов, переиздаются былые, часто уже забытые труды их коллег-предшественников, в том числе реабилитируются
Кряжев Ю. Н. Военно-политическая деятельность Николая II Романова. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Курган, 1997. С.2; Кряжев Ю. Н. Военно-организаторская деятельность Николая II как главы государства. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук. Омск, 2000. С.4; Архипенко В. Предисловие// Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз. М.: Мысль, 1987. С.З.
2 Значительная составляющая этого литературного фонда создана усилиями зарубежных авторов, но, будучи известной на многих иностранных языках, лишь отчасти переведена на русский. См. например: Вильтон Р. Последние дни Романовых// Последние дни Романовых. М.: Книга, 1991. С.363-476; Геретц Л. Николай II как император// Шаргунов А. Православная монархия и новый мировой порядок, М.: Новая книга, б. г. С. 169-176; Деруазье К. Царь-мученик Николай II// Шаргунов А. Православная монархия и новый мировой порядок. М.: Новая книга, б. г. С.218-221; Дориа де Дзулиани М. Царская семья. Последний акт трагедии. М.: Художественная литература, 1991. 206с; Леве Х.-Д. Николай II// Русские цари. Ростов н/Д.: Феникс, 1997. С.489-514; Ливен Д. Николай II// Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. М.: ИВИ РАН, 1999. С.262-269; Масси К. Р. Романовы. Последняя глава. Смоленск: Русич, 1998. 448с; Мэсси К. Р. Николай и Александра. М.: Интерпракс, 1990. 448с; Труайя А. Николай II. М: Эксмо, 2003. 480с; Уортман Р. Николай II и образ самодержавия// История СССР. 1991. №2. С.119-128; Ферро М. Николай II. М: Международные отношения, 1991. 352с; Хереш Э. Николай И.
4 недоступные ранее издания. «Нынешний "романовский бум", - полагает исследователь
А. Ю. Полунов, - по размаху, разноплановости и накалу страстей давно грозит превзойти все повальные идейные увлечения, которыми так богата история российской интеллигенции. Венценосцам посвящаются книги, статьи, фильмы, телепередачи, выставки, специальные выпуски журналов, конференции, фотоальбомы. О монархическом прошлом спешат высказаться литераторы, публицисты, кинематографисты, политики...»1
Объектом настоящего исследования является именно эта разнообразная и разновозрастная отечественная историческая литература об императоре Николае П. Таким образом, данное исследование представляет собой первый опыт обобщения и анализа имеющегося в рамках обозначенной темы историографического материала, по большому счёту практически не изучавшегося до сих пор ни целиком, ни частично. Причём в этом комплексе впервые в равной степени займут своё места работы российских дореволюционных и советских авторов, представителей русского зарубежья, а также многочисленные новейшие публикации.
Предметом настоящего исследования являются условия, ход и результаты предпринимавшихся в отечественной историографии попыток рассмотреть императора Николая II в качестве государственного деятеля, то есть человека, осуществляющего функции управления государством, участвующего в определении внешне- и внутриполитического курса страны.
Обилие нынешней печатной продукции о последнем царствовании никто не спешит признать свидетельством её высокого качества. Напротив, доминирует скептическое мнение, что качество это обратно пропорционально её распухающему объему, что разразилось много шума из ничего, и потому состояние знаний о Николае II до сих пор подобно гордиеву узлу, в котором вокруг царского имени многое неразличимо пере-
Ростов н/Д.: Феникс, 1998.416с. и другие.
1 Полунов А. Ю. Романовы: между историей и идеологией// Свободная мысль. 1995. №11. С.117.
5 плелось - и устоявшиеся суждения, и демонстративно противоположные им утверждения, и сенсационные открытия, и разнообразные спекуляции, и домыслы, и быль.
Конечно, можно утешать себя мыслью, что такая путаница неизбежно сопутствует спорным фигурам прошлого, что она больше присуща обывательскому сознанию с его непритязательным любопытством или весьма распространившейся теперь публицистической литературе, часто рассчитанной именно на такие невзыскательные вкусы, чем научным размышлениям современных историков с их стремлением толком во всем разобраться и строго выверенными выводами. Но между тем и осуществлявшиеся за минувшее десятилетие в лоне российской исторической науки попытки замены былого подхода к изучению личности и деятельности Николая II не столько внушают историкам-профессионалам обнадеживающий оптимизм по поводу достигнутых на новом пути результатов, сколько вызывают вопрос об их действительной новизне, весомости, степени превосходства и перспективности по сравнению с когда-либо раньше бытовавшими в отечественной историографии.
Симптоматично, как, выражая робкую надежду, не «спровоцируют» ли иностранные исследователи «российских историков всерьез и объективно заняться-изучением предыстории 1917 года», последним «что-то» мешает «утвердиться в такой надежде»1. Причём промедление с ее реализацией предоставляет ученым законный повод говорить, что «несмотря на всю важность изучения этого (предреволюционного. — Ю. Г.) периода для понимания всего последующего развития России, он до сих пор не получил всестороннего, достаточно глубокого и объективного отражения в отечественной историографии»2. А вместе с тем стали уже привычными сентенции современных авторов, что всё ещё «у нас нет» ни «научной биографии Николая II», ни «добросовестных исторических исследований о его времени», что год за годом «фигура» этого императора остаётся «загадочной», что «как личность и как политик он не узнан и не понят», что
1 Черкасов П. Последний император// Новый мир. 1993. №1. С. 196.
2 Искендеров А. А. Российская монархия, реформы и революция// Вопросы истории. 1993. №3. С.87.
доныне «оценка его как государственного деятеля почти не изменилась»... Если же, указывают историки, теперь и «появилось достаточно много различного толка изданий и публикаций с полярными точками зрения на деятельность последнего самодержца», то «научные аргументация и анализ данной проблемы нередко субъективны, а то и просто тенденциозны», ибо «тема эта до настоящего времени еще не освобождена от предубеждений прошлого, от клише и ярлыков длительной социально-идеологической конфронтации» и т.п.1
Представляется, однако, что неблагополучие историографической ситуации находит свое выражение даже не в том, что приведенные вьппе высказывания в какой-то мере справедливы, и их разделяют практически все современные авторы. Гораздо тревожнее, что эти общепринятые умозаключения не способны, по-видимому, инициировать никаких ожидаемых ощутимых изменений, поскольку о необходимости последних приходится напоминать снова и снова. «И авторы..., и все мы читатели по-прежнему шарахаемся из стороны в сторону при оценке прошлого», — уверен исследователь Н. В. Кузнецов . А историк М. В. Иванова озабоченно отмечает то обстоятельство, что практика «замалчивания одних фактов, выпячивания других», которая никак не претерпит существенных изменений, внушает «историческому сознанию нашего современника» очередной «усеченный» образ Николая II3. «Такая уж у нас, у русских, загадочная душа, - продолжает размышления своих коллег П. Черкасов, - вчера ещё громили православные храмы под пение "Интернационала", демонстрировали на площадях под алыми стягами и портретами антихристов и прочих членов Политбюро, а сегодня, тесня истинно верующих, набились в недоразрушенные по недосмотру храмы и неуверенно
1 Боханов А. Н. Император Николай II. М.: Русское слово, 1998. СП; Боханов А. Н. Сумерки монархии.
М: Воскресенье, 1993. С.5; Гаврилов Д. В. Идеи мира и согласия во внешнеполитической деятельности
императора Николая II// Россия. Романовы. Урал. Екатеринбург, 1997. Вып.З. СИ; Год памяти Государя
Императора Николая II Александровича// Международный год памяти Государя Императора Николая II.
М.: Дворянское собрание, 1993. С.20; История России с начала XVIII до конца XIX века. М.: ACT, 1997.
С.479; Кряжев Ю. Н. Военно-политическая деятельность Николая II Романова. С.1; Черкасов П. Ук. соч.
С. 189 и другие.
2 Кузнецов Н. В. Последний император России// Специалист. 1994. №1. С.24.
3 Иванова М. В. Царь Николай II на страницах нелегальной сибирской социал-демократической печати//
7 выводим "Отче наш"... Смущает массовость "мероприятия" и та легкость, с какой мы меняем убеждения...»'
Интересно, что стремление поставить на вид низкий уровень исторических знаний о Николае II и тем самым сподвигнуть исследователей к его повышению возникло отнюдь не в современной историографии. Так, в конце 1917 г. историк К. В. Сивков с сожалением констатировал: «Прошло 8 месяцев со времени падения династии Романовых, но до сих пор на нашем рынке не появилось ни одной книги, которая давала бы истинную и действительно историческую картину хотя бы последнего царствования этой династии: почти всё, что появилось до сих пор, не может быть названо иначе, как книжной макулатурой»2.
Но если «8 месяцев» спустя, вероятно, было еще преждевременно по этому поводу недоумевать и сокрушаться, то сегодня заявления, подобные сделанному К. В. Сив-ковым, заставляют серьезно задуматься. В самом деле, почему отечественная историческая наука, несмотря даже на предоставленную ей теперь свободу*, оказалась не в состоянии сказать ничего нового о последнем самодержце? И вовсе не давнее русское обыкновение бередить свои раны, и не застарелая привычка горячо критиковать чужие ошибки заставляют сегодня снова поднимать и обсуждать эту болезненную проблему при том, что она уже самим скептическим отношением к «новой» исторической лите-ратуре вполне поставлена, а отдельными учеными даже и четко сформулирована . Важнее другое: решение этой проблемы без сомнения имеет не только сугубо научную
Историческая наука на рубеже веков. Томск: Издательство ТГУ, 1999. Т. 1. С.119.
1 Черкасов П. У к. соч. С. 189.
2 Сивков К. В. Николай II и его царствование (библиографический обзор)// Голос минувшего. 1917. №9-
10. С.386.
* Сами исследователи оценивают новые условия своей работы следующим образом: «Появились условия рассказать правду», «стало возможным переосмыслить сложившиеся стереотипы... в оценке Николая II», «мощный сквозняк швырнул нам забытые факты, недоступные в прошлом мемуары и романы, эмоциональные размышления публицистов», «историческое сознание общества, долго сжатое давлением общеобязательных схем, "распрямляется"» и т.п. - Кузнецов Н. В. Ук. соч. С.24; Черкасов П. Ук. соч. С. 189; Днепровой А. Ю., Измозик В. С. Российский императорский дом в канун своего трехсотлетия// Наука и жизнь. 1991. №1. С.84; Полунов А. Ю. Ук. соч. С.117.
3 Полунов А. Ю. У к. соч. С. 126.
8 значимость, но актуально и для современного российского общества в целом.
Актуальность настоящего исследования определяется, таким образом, целым
комплексом разнообразных факторов:
Во-первых, фигура императора Николая II продолжает вызывать острые споры, в которых участвуют сегодня не только профессиональные историки, но и публицисты, широкая общественность, высказывающие подчас об этом монархе самые разные и даже противоположные суждения.
Во-вторых, огромный массив разноплановой исторической литературы о последнем самодержце, появившейся в течение ста с лишним лет, никогда не подвергался специальному историографическому рассмотрению.
В-третьих, достижения современной историографии о последнем царствовании вызывают у многих учёных-историков мучительное чувство неудовлетворённости, обманутых надежд. Это значит, что для продолжения эффективных научных изысканий требуется подвести итоги уже проделанного исследовательского пути. И прежде всего именно комплексное историографическое исследование может объяснить то, какие факторы оказывали и продолжают оказывать влияние на процесс накопления исторических знаний, каковы закономерности этого процесса, этапы его развития. Может и должно историографическое исследование наметить и возможные перспективы дальнейших научных поисков. От обычных общих слов о едва ли не перманентном кризисе научных исследований последнего царствования пора переходить к необычному конкретному делу - разрабатывать и обсуждать прежде всего те или иные пути преодоления этого недужного состояния и уж только «по размышленьи зрелом» браться за их реализацию. В противном случае кризисное состояние науки действительно станет хроническим: исследовательский опыт последних лет, думается, свидетельствует как раз о том, что ставить телегу впереди лошади, обращаясь к конкретно-историческому исследованию прежде серьезной предварительной проработки тех средств, с помощью
9 которых из во многом прежнего исторического материала можно сформировать новое
историческое знание, малопродуктивно.
- В-четвёртых, одновременно подтвердилась и другая старая истина - свято место пусто не бывает: будучи ныне обделено свежей научной информацией о последних Романовых, российское общество вынужденно черпает сведения о них из более доступных источников, насыщаясь любопытными подробностями идентификации и захоронения останков царской семьи, сообщениями о перипетиях её канонизации Русской Православной Церковью, широковещательной рекламой той России, которую «мы потеряли», популярными переложениями идеи реставрации отечественной монархии, занимательными анкетными данными многочисленных претендентов на вакантный престол и т.п. Избегая угодливо следовать преходящей общественно-политической моде, но не умея противопоставить ей что-либо значительное, профессиональным историкам . >. только и остается теперь как, по меткому выражению А. Ю. Полунова, «скромно отираться» на обочине столбовой дороги переосмысления тех исторических КОЛЛИЗИЙ, КО- .'У торые нашей стране было суждено испытать в конце ХГХ - начале XX вв.
Могут возразить, дескать, наука, оберегая свою репутацию, и должна сторониться ' разного рода политической пропаганды, подозрительных сенсаций и скороспелых переоценок прошлого, тем более что борьба с ними подобна сражению с ветряными мельницами. Спору нет: повинуясь лишь общественно-политической конъюнктуре, они, как показывает опыт, даже после кропотливого научного разоблачения всё-таки будут терпеливо ждать своего звёздного часа и нетерпеливо восстанут из пепла при любом подходящем повороте общественно-политической фортуны. «Исторические мифы сильнее истории», - пишет Г. 3. Иоффе, недвусмысленно указывая на «бастионы» коммерческой историографии как цитадель этого мифотворчества . Вместе с тем, если безапелляционные утверждения, действительно, чрезвычайно живучи, если нельзя
1 Иоффе Г. 3. А. Боханов. Распутин. Анатомия мифа. М., 2000.413с.// Новый журнал. 2002. №227. С.302.
10 окончательно наступить на горло ни одной пропагандистской басне, то в конечном счете подобные обстоятельства свидетельствуют не столько о тщете любых исследовательских усилий историков, сколько как раз о необходимости активно формировать альтернативное сомнительному ширпотребу новое историческое знание. Не нужно, чтобы это историческое знание стало единственно допустимым и общеобязательным. Нужно, чтобы оно было. Но признав дело его формирования совершенно неотложным, намереваясь осуществить именно добротную ревизию былых представлений о последнем самодержце, историки, по собственной же оценке, до сих пор не сумели преодолеть этих представлений, не сумели обезвредить их влияния на свои нынешние исследования. И само собой такое положение вещей едва ли изменится, скорее оно будет и дальше устойчиво воспроизводиться - стереотипные представления, изгнанные в дверь, являются и будут являться к нам в окно.
Историографическое исследование способно сыграть в борьбе с этими представлениями значительную роль. Думается, однако, что преодолеть их, следуя путем тех « мимолётных скептических замечаний, которыми как будто и был обычно ограничен интерес исследователей к исторической литературе о Николае II, невозможно. Затруднительно искать и тем более найти новое, лишь поверхностно зная, в чём заключается «старое». Вместе с тем накопленный в этой сфере опыт анализа весьма важен для продолжения и главное - развития историографической традиции. Ведь начинать новые исследования приходится не с «чистого листа», а переосмысливая полученные предше-ствующими поколениями исследователей результаты, учитывая их положительные и преодолевая их неприемлемые для современной историографической науки стороны.
Состояние научной разработанности темы следует поэтому рассмотреть предельно тщательно. Первыми попытками таких разработок, очень ещё далёкими от профессионального историографического анализа, можно признать немногочисленные и немногословные, но всегда резко критические отзывы дореволюционных российских
11 публицистов на сочинения своих политических противников, обращавшихся среди
прочего и к освещению государственной деятельности Николая П. Причём эти отзывы исходили, как правило, только из либерального и радикального, то есть оппозиционного престолу лагеря, представители которого энергично обсуждали личностные недостатки императора в нелегальной и заграничной печати, попутно возмущаясь чудовищной лживостью его возвышенного парадного образа и прозревая за писательскими стараниями его апологетов низменные корыстные цели1. Что же касается официальной публицистики и периодики, которые этот образ именно и культивировали, то они в силу ряда цензурных ограничений не имели возможности вести какую бы то ни было полемику, касавшуюся личности самодержца, просто игнорируя выпады его критиков.
Революция 1917 г., подарив общедоступность вчерашним нелегальным изданиям, не привнесла, однако, особых изменений в процесс осмысления уже появившейся и> продолжавшей прибывать литературы о Николае II. Более того, это осмысление на время практически утратило свой объект: критика официальных изданий недавнего-прошлого стала бессмысленной - их тенденциозность в оценке личности и государственной деятельности последнего Романова казалась очевидной, новая литература подобного сорта появляться перестала, а критиковать авторов, приветствующих свершившуюся революцию и обличающих представителей старого режима, было несколько странно. По крайней мере, единичные голоса, призывавшие обратить внимание на поверхностный и местами даже бульварный характер новоиспечённых публикаций о Николае II, чтобы не допускать таких недостатков впредь, усльппаны не были. Именно это печально констатировал историк К. В. Сивков, поместивший на страницах популярного журнала «Голос минувшего» в конце 1917 г. первый в отечественной историографии последнего царствования специальный библиографический обзор .
1 Обнинский В. П. Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора России Николая П.
М.: Республика, 1992. С.154.
2 Сивков К. В. Ук. соч. С.386-388.
12 Наступление советской эпохи, начало которой совпало с развёртыванием гражданской войны и постепенным массовым отъездом россиян в эмиграцию, одновременно ознаменовалось возобновлением ожесточённого публицистического, а несколько позднее и научного противостояния по вопросам, имевшим отношение к освещению и оценке государственной деятельности императора Николая II. Но теперь эта неистовая словесная борьба, разразившаяся между советскими и эмигрантскими (а затем и зарубежными) исследователями, имела уже обоюдный, а не односторонний, как прежде, характер. Вместе с тем ни количественно, ни качественно историографические суждения тогда, думается, не изменились. Лишь эпизодически обращаясь к анализу высказываний своих идейных оппонентов о последнем самодержце, обе стороны предъявляли друг другу такие обвинения, чтобы продемонстрировать главным образом «беспардонную лживость» противника и тем самым до основания разрушить его исторические построения1. Сходным образом трактовали враждующие стороны и те мотивы, которые побуждали противника проявлять крайний субъективизм при оценке Николая II: в качестве таковых рассматривались политические и идеологические пристрастия авторов, требовавшие исторического обоснования и, следовательно, негласного внесения определённых корректив в систему исторических знаний. Это значит, что и до и после революции отечественная историческая мысль была склонна концентрировать всё своё внимание только на таком предопределявшем процесс и результат осмысления истории последнего царствования обстоятельстве, как сознательное искажение исторической истины во имя определённых идейных и (или) даже материальных интересов.
Таково было положение историографических дел, когда в СССР началась пере-
1 Гаранин Б. Предисловие к записке В. М. Руднева// Светлый Отрок. Сборник статей о Царевиче-Мученике Алексее и других Царственных Мучениках. М.: Диалог, 1990. С.67; Павлов Н. А. Его величество Государь Николай И. Париж, 1927. С.9-10; Жуков Ю. О чём они мечтают// Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз. М.: Мысль, 1987. С. 526-528; Василевский И. М. Что они пишут? Мемуары бывших людей. Л., 1925. С.100-102; Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз. М.: Мысль, 1987. С.19-20; Нежданов Л. Предисловие к русскому изданию// Извольский А. П. Воспоминания. М.: Международные отношения, 1989. С.5-6.
13 стройка, а изучение личности и деятельности Николая II подошло к новому рубежу.
Казалось бы, чтобы не нагромождать на пути научного осмысления личности и деятельности этого монарха дополнительные макулатурные завалы, увеличение которых историки не раз с тревогой отмечали , следовало заняться анализом накопленного за сто лет историографического материала, определить перспективы развития отечественной исторической науки. Между тем такому анализу в новейшей историографии достойного внимания снова уделено не было — достаточно сказать, что все предпринимавшиеся за последнее время его попытки выглядят очень скромно и, как правило, умещаются либо в несколько строк, либо в несколько абзацев. Но главное даже не в их предельном лаконизме, их объединяет и нечто более существенное - отношение к рассматриваемому материалу, сам механизм этого рассмотрения и его цель, которые, как представляется, уже не способны дать особого эффекта для дальнейших поисков.
Анализируя долгий опыт предшествующей работы над конкретно-историческим образом последнего самодержца, современные историки выделяют и противопоставляют сформировавшиеся в её ходе «две главные тенденции, два основных подхода», которые условно обозначаются как «уничижительно-критический» и «апологетический», «подход марксистской историографии» и «подход дворянской историографии», «обличительство» и «слезливое умиление» и т.п.2 Причем разительные внешние отличия между «карикатурным образом» Николая II и его «иконографическим изображением святого новомученика», созданными посредством применения указанных подходов в исследовательской практике, более не заслоняют кардинального сходства этих последних, ибо, по мнению авторов, «оба они одномерны», но «только с разными знака-
Боханов А. Н. Сумерки монархии. С.4-5; Кряжев Ю. Н. Военно-политическая деятельность Николая II Романова. С.4-5; Полунов Ю. А. Ук. соч. С.122-123.
2 История России с начала XVIII до конца XIX века. С.478; Чакшов В. Н. Романовы: кто они?// Отечественная история. 1998. №1. С. 167; Кряжев Ю. Н. Николай II как военно-политический деятель России. Курган, 1997. СП; Иванова М. В. Ук. соч. С.119; Кузнецов Н. В. Ук. соч. С.24; Черкасов П. Ук. соч. С. 189.
14 ми» . «Было бы крайне опасно, - предупреждают в своей совместной статье историки
А. Ю. Днепровой и В. С. Измозик, - заменить одни догмы другими, поменять "плюсы" на "минусы" и "минусы" на "плюсы"»2. Такая метаморфоза, по оценке А. А. Искенде-рова, «не прибавляет объективных исторических знаний, не способствует восстановлению правды о прошлом» . Совершенно бесцельной, если не сказать — вредной, признают процедуру поспешной «смены знаков» и сотрудники издательского центра «Ме-рос», согласно коллективному мнению которых, «чрезмерное "отмывание" самодержавия, предпринятое некоторыми современными изданиями, ...выглядит ничуть не лучше», чем «дворцовые сплетни о венценосцах России» или «грубая попытка нарисовать мрачные портреты российских государей, и особенно последнего, Николая II»4.
Примечательно, что уже в самих словесных определениях, выбранных для сущностной характеристики «тенденций», явно поставлена под сомнение возможность провести в рамках как одной, так и другой из них объективное историческое исследование, достичь приемлемого для современной науки результата. И как выясняется, основное и даже единственное к тому препятствие ученые усматривают в заведомой колоссальной идеологической и политической ангажированности этих подходов, утверждая, будто их адепты искажают историческую истину в соответствии со своими идеологическими и политическими предубеждениями. «Политическая, пропагандистская ангажированность леворадикальной печати в формировании политического имиджа Николая II очевидна. В советское время она, как известно, "переселилась" в научную литературу, в учебники», - считает М. В. Иванова5. Подобную точку зрения высказывает и А. Н. Бо-ханов: «Объектом беззастенчивых манипуляций, - пишет историк, - было прошлое нашей страны, которое "свободно интерпретировалось" в соответствии с примитивными
1 Иванова М. В. Ук. соч. С.П9; Чакшов В. Н. Ук. соч. С.167.
2 Днепровой А. Ю., Измозик В. С. Ук. соч. С.84.
3 Искендеров А. А. Ук. соч.// Вопросы истории. 1999. №11-12. С.98.
4 Предисловие// Ельницкий Л. Династия Романовых. Ташкент: РИЦ «Мерос», 1990. С.З.
5 Иванова М. В. У к. соч. С.118.
15 идеологическими схемами. Историю стали излагать не на основе принципов объективности, а в русле господствовавших представлений о том, как должно было быть. Отсюда и преобладание тёмных и мрачных тонов при изображении жизни России до 1917 г.» «Советской исторической наукой усиленно насаждались негативные и весьма тенденциозные оценки, создавались многочисленные мифы о Николае II, его правлении и обстоятельствах падения монархии, - указывают и другие исследователи. - Эти представления были достаточно прочно усвоены общественным сознанием, и потребуется немало времени, для пересмотра навязанных нам штампов»2. Суть последних уточняет П. Черкасов: «Что, собственно, мы знали о нём (Николае II. - Ю. Г.) до недавнего времени? - напрягает автор свою память. - Только то, что нам дозволялось знать в обстановке идеологического диктата КПСС. Что царь был, во-первых, Кровавый, а во-вторых, бездарный. И всё» .
Сходным образом представляется в современной историографии и противоположная традиция, обременённая, по словам А. Ю. Полунова, «необходимостью под- * держивать престиж династии» и не обладавшая поэтому возможностью продемонстрировать должный уровень «критического анализа»4. «Исполненная великодержавного пафоса, подобная литература, - пишет об официальных дореволюционных изданиях А. А. Искендеров, - изображала не только царствование Николая II, но и всю историю российского самодержавия исключительно в радужном свете, сознательно уходила от освещения драматических и трагических страниц российской истории» . «Естественно, - заключает размышления своих коллег историк Ю. Н. Кряжев, - что вся официальная дореволюционная литература лишь восславляла Николая II и о научности или объек-
1 Боханов А. Н. Сумерки монархии. С.З.
2 Шокарев С. Падение династии Романовых (мемуары современников)// Гибель монархии. М.: Фонд Сер
гея Дубова, 2000. С.461; Гаврилов Д. В. Ук. соч. СП; Кузнецов Н. В. Ук. соч. С.24; Платонов О. А. Ни
колай Второй. Жизнь и царствование. СПб.: Общество святителя Василия Великого, 1999. С.36.
3 Черкасов П. Ук. соч. С. 189.
4 Полунов А. Ю. Ук. соч. С.118.
s Искендеров А. А. Ук. соч.// Вопросы истории. 1999. №11-12. С.98.
16 тивности оценки его деятельности как высшего государственного и военно-политического деятеля там не может быть даже речи...»1
Однако подобные умозаключения всегда остаются в значительной, а иногда -предельной мере абстрактными, и вследствие нерасположенности нынешних исследователей к детальному анализу сочинений, посвященных Николаю II, трудно понять, всех ли «доперестроечных» авторов они признают «апологетами» и «обличителями» и, особенно, к кому конкретно эти малопривлекательные определения приложимы в современной публицистике и исторической науке, об идеологизации и политизации которых пишется тоже довольно определённо. Вот, например, наблюдения Ю. Н. Кряжева: «С середины 80-х годов, как мы знаем, ситуация в стране изменилась, обострилось общественное сознание людей, повлиявшее и на новое возрождение интереса к этой теме... Однако, - продолжает исследователь, - сама личность Николая II как царя, его--; жизнь, деяния и преступления перед народом, к сожалению, не стали у некоторых историков и публицистов предметом глубокого рассмотрения, кропотливого изучения и, .* конечно же, тщательного анализа и основополагающих суждений и выводов в этот период. Характерным для некоторых исследователей этих лет стал популистский приём —-главное, неважно как переоценить настоящее и пересмотреть прошлое; любым путём, даже самым бессовестным, любой ценой вскрыть "засилье лжи и безнравственности" в обществе, что позволило им тем самым показать всем свои новые "демократические" взгляды, а значит кое-кому оказаться, а кое-кому удержаться на высоте популярности, острие, опять же, по их мнению, исторической науки...»
Примечательно, что речь в данном случае идёт не только о безответственных любителях исторических изысканий на актуальные темы, но и о неких «бессовестных» представителях профессиональной историографии. При этом затруднительно опреде-
' Кряжев Ю. Н. Военно-политическая деятельность Николая II Романова. С.З; Кряжев Ю. Н. Военно-организаторская деятельность Николая II как главы государства. С.4.
2 Кряжев Ю. Н. Военно-политическая деятельность Николая II Романова. С.4; Кряжев Ю. Н. Военно-организаторская деятельность Николая II как главы государства. Сб.
лить, насколько имеется в виду и имеется ли в виду вообще круг тех современных отечественных ученых, из-под пера которых вышли наиболее крупные за истекшее десятилетие научные труды о последнем самодержце1. Если предположить наиболее вероятное, а именно - что никому из них высказанные претензии не адресовались, если учесть, что их труды, как правило, вообще выпадают из поля проводимого ныне историографического анализа2, то приходится признать - наиболее серьёзная, с точки зрения науки, часть литературы о Николае II, необыкновенно важная для историографического рассмотрения, в нём попросту игнорируется!
В результате, констатацией чрезмерной идеологизации и политизации познания прошлого нынешний историографический анализ по сути и заканчивается, но признаётся, однако, вполне достаточным не только для описания, но и для преодоления тех пороков, которые долгие годы парализуют изучение личности и деятельности императора Николая II. Причём эти пороки кажутся современным исследователям столь очевидными, что элементарный характер приобретают, в их глазах, и пути получения искомого, то есть по-настоящему нового знания о последнем самодержце, пути, которые так до сих пор и не стали предметом обсуждения и каждый раз лишь провозглашаются - «серьёзный исторический анализ», «спокойный объективный анализ», «беспристрастное исследование исторических источников», «честное и непредвзятое исследование», «объективные обобщения и выводы», «стремление понять случившееся», «отбро-
1 Среди таких ученых и их трудов, видимо, следует назвать: Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Николай IV/
Вопросы истории. 1993. №2. С.58-77; Боханов А. Н. Император Николай II. М.: Русское слово, 1998.
567с; Боханов А. Н. Николай II// Российские самодержцы. 1801-1917. М.: Международные отношения,
1994. С.307-384; Боханов А. Н. Николай II Романов// Свободная мысль. 1992. №11. С.101-109; Боханов
А. Н. Сумерки монархии. М.: Воскресенье, 1993. 394с; Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905
году. Реформы и революция. СПб.: Наука, 1991. 221с; Ирошников М. П., Процай Л. А., Шелаев Ю. Б.
Николай II - последний российский император. СПб.: Духовное просвещение, 1992. 512с; Иоффе Г. 3.
Революция и судьба Романовых. М.: Республика, 1992. 351с; Искендеров А. А. Российская монархия,
реформы и революция// Вопросы истории. 1993. №3, 5, 7, 1994. №1, 6, 1999. №1, 3, 9, 11-12; Кряжев Ю.
Н. Николай II как военно-политический деятель России. Курган, 1997.224с
2 Фактически его проявления сводятся сегодня к отдельным, разбросанным в книгах и статьях высказы
ваниям, что «безусловно, читателя порадовала... монография известного историка А. Н. Боханова "Су
мерки монархии"» и т.п., которые трудно определить как аналитические. Едва ли не единственным ис
ключением на этом фоне является интересная статья А. Ю. Полунова «Романовы: между историей и
идеологией», посвященная анализу современного состояния научных исследований истории отечествен
ной монархии.
18 сить традиционные клише», «осознать их (последних Романовых. - Ю. Г.) дела и поступки непредвзято» и т.п.1 Между тем в главном всё это уже по меньшей мере неоднократно обещалось и осуществлялось, приводя к достижению диаметрально противоположных заключений и, если верить отзывам сегодняшнего дня, отнюдь не гарантируя при этом их объективности или научности. Следовательно, если мы не хотим в очередной раз наступить на грабли, то время для подобных ритуальных деклараций прошло -ни «объективность», ни «строгая научность», ни «новизна» не станут достоянием науки в силу одних лишь рассуждений о необходимости, наконец, продемонстрировать их.
Необходимость реализации таких целей в принципе не вызывает сомнений, но молчание по поводу того, как может или должна происходить эта реализация, способно вызвать самые активные возражения. Ведь игнорировать указанный вопрос не значит не иметь ответа на него, тем более что одновременно полным ходом осуществляются ' исторические исследования, демонстрирующие, по уверениям их авторов, тот самый серьёзный, непредвзятый анализ предмета. Однако ответ этот никогда не афишируется, и поскольку специально замалчивать его нет никакого смысла, то остаётся предположить, что он либо представляется исследователям само собой разумеющимся, либо просто не сформулирован ими достаточно отчетливо за своей кажущейся маловажностью. Как бы то ни было, характеристике вводимых в научный оборот новых нетрадиционных подходов, по-видимому, надлежит уделять существенно большее внимание: их суть должна быть прояснена, а выбор — обоснован, поскольку они являются не бесспорной исходной аксиомой, а результатом определённого и притом достаточно сложного мыслительного пути, проделанного историками. Пока нет этих объяснений и аргументации, нет и никакого серьёзного повода ожидать исследовательских открытий в
1 Платонов О. А. Ук. соч. С.36; Чернокрылова Е. Н. Николай II - портрет на фоне уходящей эпохи. Хабаровск: Издательство Дальневосточного университета путей сообщения. 1998. С.З; Шокарев С. Ук. соч. С.461; Искендеров А. А. Ук. соч.// Вопросы истории. 1993. №3. С.87, 88; Кряжев Ю. Н. Военно-политическая деятельность Николая II Романова. С.8; Иоффе Г. 3. Революция и судьба Романовых. С.З; Боханов А. Н. Император Николай II. СП; Боханов А. Н. Сумерки монархии. С.5.
19 области истории последнего царствования, ибо остаётся непонятным, в каком же направлении и на каком основании мы рассчитываем их совершить.
Таким образом, основная проблема современных отечественных историков, нацеленных на обновление представлений об императоре Николае II, думается, состоит не в том, что они выбрали «не ту» методологию, а в том, что они вольно или невольно игнорируют её обсуждение, ссылаясь на авторитет объективности, строгой научности, здравого смысла, подлинной новизны и т.д.1 Между тем даже столь неконкретные, мало что объясняющие упоминания о технологической стороне ещё предстоящего или уже осуществлённого исследовательского процесса составляют в современной историографии последнего царствования значительную редкость. И одним из наиболее показательных проявлений этого неоправданного анабиоза теоретической и методологической мысли можно признать тот поныне практикующийся подход к работе с историческими источниками, применение которого, как представляется, способно обеспечить историкам больше вопросов, нежели чем ответов. Так, вопросы вызывает уже то удивительное обстоятельство, что исследователи личности последнего самодержца, обладая, по собственному признанию, «невероятным объемом доступного материала», до крайности скупо и неохотно пишут о том, как с этим материалом следует работать, то есть как этот только ещё «материал» можно превратить в нечто гораздо большее - научное историческое знание.
Единственное, чем в данном отношении приходится располагать, это вполне традиционные рассуждения о «соответствующей критической обработке», «серьёзном сравнительно-историческом анализе» и тому подобных испытательных процедурах, через горнило которых непременно должна пройти источниковая база любого респек-
1 Это кажется тем более странным, что в отечественной исторической науке теоретические и методологические проблемы обсуждаются сегодня весьма активно. - Актуальные проблемы теории истории. Материалы «круглого стола» (12 января 1994)// Вопросы истории. 1994. №6. С.45-103; Актуальные теоретические проблемы современной исторической науки. Материалы «круглого стола»// Вопросы истории. 1992. №8-9. С. 159-165; Данилов В. П. Современная российская историография: в чём выход из кризиса?// Новая и новейшая история. 1993. №6. С.95-101; Колосов Н. Е. Советская историография, марксизм, тота-
20 табельного исторического сочинения. Однако к чему же реально сводятся сегодня подобные процедуры в исследовательской практике историков последнего царствования? Как будто лишь к тому, чтобы, говоря словами А. Н. Боханова, строить «взвешенные и объективные оценки... не на эмоциях и случайных впечатлениях, а на совокупности разнородных документов», причём, понятно, только таких, подлинность которых «не вызывает сомнения»1.
Безусловно, формирование надёжной источниковой базы для дальнейшего изучения личности и деятельности императора Николая II и важно и необходимо. Сомневаться заставляет совсем другое - тлеющая в высказываниях историков убеждённость, что проблема долгожданного обретения «взвешенных и объективных оценок» вполне сводима к проблеме обновления источниковой базы, и если таковое осуществилось, то остальное приложится. «В научный оборот, - пишет о своей работе Ю. П.. Кряжев, -вводится значительный пласт ранее не опубликованных документов, которые в конечном счете, безусловно вносят абсолютную ясность в изучаемые проблемы и, конечно же, дают уникальную возможность многое осмыслить и понять о роли личности высших носителей власти в истории и судьбе России, её вооруженных сил конца XIX - на-чала XX веков» . А вот фрагмент из рассуждений Г. 3. Иоффе о знаменитом «Архиве русской революции»: «Не нужно, конечно, ждать от авторов беспристрастных описаний... Разве наш взгляд, взгляд с нашей баррикады был беспристрастен? - резонно замечает историк. - Вот почему "Архив" во многом скорректирует наши знания, пополнит их и, как я убеждён, приблизит к пониманию истории революции и гражданской войны»3. На тот же эффект рассчитывает и автор «Вступительных замечаний» к опубликованному дневнику последнего самодержца: «Издаваемый дневник императора Ни-
литаризм// Одиссей. Человек в истории. 1992. М.: Круг, 1994. С.51-68 и т.д.
1 Боханов А. Н. Предисловие// Богданович А. В. Три последних самодержца. М.: Новости, 1990. С.16;
Боханов А. Н. Император Николай II. С. 12.
2 Кряжев Ю. Н. Военно-политическая деятельность Николая II Романова. С. 19.
3 Иоффе Г. 3. Читая «Архив русской революции»// Архив русской революции. М.: ТЕРРА, Политиздат,
1991.T.1.C.XIX.
21 колая II, - пишет В. М. Шевырин, - должен пролить новый яркий свет на причины катастрофы и выяснить, насколько она была неотвратима»1. Эти и подобные им утверждения предполагают, что ценные для науки исследовательские результаты незамедлительно и - странно сказать - практически машинально следуют за нынешними усилиями ученых по расширению источниковой базы собственных исследований.
Сходным образом рассуждают и авторы, которые хотя и не задавались целью писать академический научный труд, но для которых тем не менее важно, чтобы в их книгу попала «только правда, ничего, кроме правды»: «Нам обоим, - рассказывает А. Мей-лунас об истории создания своей, совместной с С. Мироненко, "трагедии в документах", — удалось за сравнительно короткий срок просмотреть буквально сотни тысяч документов, писем, дневников, полицейских отчетов, опубликованных и неопубликованных мемуаров. Среди них было множество совершенно уникальных документов, которые до нас не только никто не читал, но о которых никто даже не слышал. Все вместе они и составили историю, которая, в сущности, не нуждается в комментариях» . Между тем в комментариях нуждается уже само это высказывание. Для специалистов не является, конечно, откровением то обстоятельство, что эпоха последнего царствования подарила своим наследникам колоссальное количество замечательных и занимательных документов, многим из которых пока ещё не было суждено попасть в руки не только читателей, но даже исследователей. Вместе с тем можно сколько угодно восхищаться этими, действительно бесценными, документами, прилагать к ним внушительные эпитеты и величать «вскрывающими правду о жизни и смерти императорской семьи», однако ещё не факт, что их беспризорная («в комментариях не нуждается») публикация способна «вскрыть» для нас эту «правду». А как будто именно такого эффекта ожидает А. Мейлунас, когда напрямую увязывает объёмы вскрытой правды с количеством задействованных в издании источников: «Всё в этой книге только правда, ничего, кроме
1 Вступительные замечания// Дневник императора Николая II. М.: Полистар, 1991. С.4.
2 Мейлунас А., Мироненко С. Николай и Александра: Любовь и жизнь. М.: Прогресс, 1998. С. 12-13.
22 правды, но не вся правда! - предупреждает автор своего будущего читателя и критика. - Главный наш грех - грех упущения; мы не использовали массу важных исторических документов, бывших у нас в руках, и безжалостно сокращали некоторые использованные...» Выходит, будь они целиком опубликованы, историческая правда наконец обнаружилась бы?
Если документы в силах самостоятельно «внести абсолютную ясность в изучаемые проблемы», «вскрыть правду» и т.п., то, стало быть, они несут в себе совершенно однозначный смысл, готовую истину, которые вполне очевидны и доступны помимо наших специальных умений и усилий приблизиться к их пониманию. В таком контексте не покажется случайным намерение современных авторов «предоставить слово документам эпохи», позволить Николаю II и его близким «самим рассказать о себе, о своём восприятии людей и событий», о своей «жизни и роковой судьбе», в общем - «самим рассказать свою историю, своими собственными словами»2. Расчёт, скрытый за подобными рассуждениями, прост: раз «наши герои - люди образованные, и все они пишут друг другу», раз «большая часть написанного ими сохранилась в различных архивах», значит, «именно для такого короткого периода истории - нам стал доступен и внешний и, что гораздо важнее, внутренний мир наших героев» . Но это значит также, что задача попасть туда в общем не столь уж и сложна, а заслуга - не столь уж и велика, ибо достаточно процитировать или пересказать ряд изречений последнего самодержца, как из них выступит его подлинный облик со всем своим «внешним и внутренним миром», как мы услышим историю его жизни из его собственных уст и увидим события и лица последнего царствования его собственными глазами.
Нетрудно заметить, что высказанный подход к делу практически стирает существенную разницу между описанием почерпнутых в источнике фактов и их пониманием,
1 Мейлунас А., Мироненко С. Ук. соч. С. 13.
2 Ирошников М. П., Процай Л. А., Шелаев Ю. Б. Ук. соч. С.6; Боханов А. Н. Император Николай И. СП;
Мейлунас А., Мироненко С. Ук. соч. С.14,22.
3 Мейлунас А., Мироненко С. Ук. соч. С.11-12.
23 в том числе - пониманием значения, которое этим фактам придавал сам автор источника. По крайней мере необходимость теоретически запланировать эту разницу оставлена без внимания, и совершенно не заметно, чтобы в среде исследователей личности и деятельности последнего самодержца всерьёз обсуждались проблемы извлечения исторической информации из источников, пути и возможности её дальнейшей интерпретации. Вместо того чтобы решить, как развязать источникам язык и организовать с ними продуктивный диалог, историки предпочитают пассивно ожидать, что те, от лица своих создателей, всё «сами расскажут». При этом без внимания остаётся ещё одно важнейшее обстоятельство: формирование источниковой базы исследования, контроль за её качеством, отбор существенной информации внутри каждого источника в отдельности, не говоря уж о последующей интеграции выделенных фактов в целостную историческую картину, осуществляются самим историком в соответствии с определёнными : , принципами, отнюдь не абстрагированными от его сознания. Вот почему было бы куда точнее сказать, что это не документы нам щедро «рассказывают», а мы их жадно «чи- » таем», что «расскажут» они нам лишь то, о чём мы сумеем их «расспросить», чем намеренно поинтересуемся. И необходимо, чтобы правила этого «чтения» (коль скоро обойтись без них невозможно) сознательно формулировались и соблюдались, а не игнорировались под эгидой борьбы за объективное историческое знание. Размышления о том, как мыслит и работает историк и как это отражается на его трудах, думается, представляют собой далеко не праздное или экзотическое времяпрепровождение, но необычайно плодотворное и более того — прямо насущное для современной исторической науки занятие, без должного внимания к которому никакое подлинное движение вперёд в научных изысканиях невозможно.
К слову, именно поэтому периодические ссылки исследователей на «наше смутное, беспокойное время», которое будто бы «явно не располагает ни к взвешенности,
24 ни к объективности исторических оценок»1, нельзя признать ни особенно содержательными, ни особенно полезными. Дело в том, что они лишь ретушируют проблему, апеллируя к её мнимой неразрешимости ввиду не зависящих от науки обстоятельств, в то время как её решение зависит именно от историков и им вполне по силам выяснить и устранить её. Можно ли надеяться, что «после стабилизации обстановки в нашей стране станет возможным объективное, беспристрастное, базирующееся на всей совокупности достоверных фактов исследование отечественной истории... во всей многогранности раскроются характеры исторических деятелей с их достоинствами и недостатками, яснее выявятся праведники и злодеи»?2 Думается, что эти надежды безосновательны: само собой ничего возможным не станет, ничего не «раскроется» и не «выявится» - всё это необходимо сделать возможным, необходимо раскрыть и выявить на основе продуманной методологии. А продумать её, преодолевая «разруху в головах», как представляется, не мешает никакое «время».
И совсем уж иллюзорной представляется поэтому уверенность иных авторов, будто некая непреложная историческая истина вдруг сама собой станет очевидной и достанется современной историографии без всякого созидательного усилия с её стороны, только в силу неумолимого движения исторического процесса. «История, — утверждает О. А. Платонов, - расставила всё на свои места. Под лучами её прожекторов вся жизнь Николая II и его политических оппонентов просвечена до малейших подробностей. При этом свете стало ясно, кто есть кто» . Между тем, «кто есть кто», ясно сегодня далеко не всем, и, по крайней мере, ответ, предложенный на этот вопрос самим О. А. Платоновым, не пользуется в среде учёных особым признанием .
Таким образом, бытующее теперь представление об очевидности дефектов, при-
1 Черкасов П. Ук. соч. С. 196.
2 Кривое М. Николай II - святой ли? Открытое письмо членам предстоящего архиерейского собора Рус
ской православной церкви// Огонёк. 1992. №42-43. С.5.
3 Платонов О. А. Ук. соч. С.36.
4 Кряжев Ю. Н. Николай II как военно-политический деятель России. С. 10; Кузнецов Н. В. Ук. соч. С.24;
Черкасов П. Ук. соч. С. 190.
25 сущих сочинениям о последнем российском венценосце, освобождает современных исследователей от сущностной критики путей их постоянного воспроизводства и закрепления, изначально ориентируя не столько на понимание сложившейся традиции изучения и оценки личности Николая II, сколько сразу на противопоставление себя ей, на исключительную претензию сделать первый шаг в ликвидации вопиющих ошибок прошлого и восполнении зияющих пробелов настоящего. Однако этот способ историографического анализа отнюдь не нов, и представители тех самых якобы принципиально отвергнутых за несостоятельностью исследовательских подходов практиковали его в полной мере. Полагая друг друга за «казённых советских историков» или, напротив, за «чернильных наймитов антисоветского промысла», они не только обвиняли оппонентов как раз в бесстыдной идеологизации и политизации исторических изысканий, но и декларировали своё стремление к объективности, и резервировали именно за собой .->, право сказать об императоре «одну только правду», а Россию «представить такой, какой она была в действительности»1. И если две последние цитаты приведены из сочи-. „ нений так называемых апологетов Николая II, то и самый известный труд о нём советской эпохи — «Двадцать три ступени вниз» М. К. Касвинова — некогда тоже оценивался * как не в пример «зарубежным фальсификаторам истории» «достоверно рисующий» личность последнего самодержца2. В отношении же трудов противника следовали не терпящие возражения оценки: «порция вымыслов, фальшивок, "концепций"», «якобы новое "прочтение"», «поделки советологов», «низкопробные фильмы и телепостановки» и т.п.3 Встречные отзывы, надо признать, были не менее категоричны: «революционные пасквили», «революционная ложь», «клевета», «мерзость писаний», «пошлость и
1 Платонов О. А. Ук. соч. С.36; Касвинов М. К. Ук. соч. С.19; Языков Н. Правда о Государе// Царствование и мученическая кончина императора Николая II. Париж, 1993. С.7; Сычов К. И. Царствование Императора Николая И. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1991. С.5.
Архипенко В. Ук. соч. С.4. 3 Касвинов М. К. Ук. соч. С.19-20; Шацилло К. Ф. По делам и воздастся...// Молодой коммунист. 1988. №8. С.65; Архипенко В. Ук. соч. С.4.
26 низменность» которых «очевидна»...1
Главная новация современной историографии на этом фоне лишь в том, что она объявила банкротство претензий на объективность обеих противоборствовавших сторон сразу, чтобы вслед за тем выдвинуть подобные уже от своего имени. Но что же предлагается ею в качестве гаранта от повторения ошибок прошлого? Только одно: «Профессиональная честность, ответственность историка могут и должны помочь в освобождении от излишней политизированности», — уверены исследователи, расценивая именно «научную добросовестность» работы как главное необходимое ей достоинство, причём и их читатели требуют «добросовестных исторических исследований» . Однако помимо того, что совсем отказывать предшествующим поколениям учёных в «профессиональной честности» вряд ли возможно, следует обратить внимание на ещё более важное обстоятельство: такой фактор как «профессиональная честность» или «научная добросовестность» способен удержать историка лишь от преднамеренных проявлений субъективизма (грубо говоря, - только от целенаправленной лжи), ибо область его влияния - область отрефлектированного.
Обращение к этому фактору, надежда на его могущество, думается, отнюдь не случайны; более того, с уверенностью можно сказать, что они не только вполне закономерны, но и чрезвычайно, показательны для состояния современной историографической критики. И вот почему: анализируя труды своих предшественников и современников, её представители по-прежнему склонны концентрировать своё внимание именно на том, что им кажется сознательным искажением истины или, по крайней мере, результатом нечаянных просчётов со стороны исследователей. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на те словесные определения, которые выбраны историографами для характеристики недостатков, увиденных ими в анализируемом научном и публици-
1 Государь Император Николай Александрович. Берлин: Стяг, 1922. С.7; Гаранин Б. Ук. соч. С.67; Язы
ков Н. Ук. соч. С.12; Павлов Н. А, Ук. соч. Париж, 1927. С.9, 10.
2 Иванова М. В. Ук. соч. С.119; Кряжев Ю. Н. Николай II как военно-политический деятель России. С. 13;
Год памяти Государя императора... С.20.
27 стическом материале - «накипь злонамеренной клеветы», «субъективистская грязь»,
«откровенная фальшь и случайные ошибки, заведомая ложь и фактические неточности», «беззастенчивые конъюнктурные манипуляции», «грубые передержки, умолчания, недомолвки, а то и откровенная фальсификация», «совершенно сознательно смешаны правда с вымыслом», «прочная традиция замалчивания», «замалчивание одних фактов, выпячивание других», «тяга к сенсационным открытиям» и т.п.
Возбудителем этих явлений обычно считаются политические и идеологические предубеждения авторов, о чём уже говорилось, а иногда ещё и ряд случайностей вроде их неосведомлённости или невнимательности. Определив это для себя, исследователи вслед за Л. Н. Толстым считают «эпиграфом к истории» девиз «ничего не утаю» и думают, будто для его осуществления достаточно «ничего не скрывать», «никогда не лгать, не гнаться за переменчивой модой, стараясь "попасть в тон" представлениям текущего момента»2. В итоге создаётся устойчивое впечатление, что стоит лишь «честно» отрешиться от излишней политизации исследований, «добросовестно» собрать и «научно» истолковать факты, как историческая истина или хотя бы действительно новое историческое знание будут, наконец, достигнуты.
Однако преднамеренные искажения исторической истины в угоду чьим-либо политическим интересам критиковались представителями историографии о последнем царствовании практически с момента её появления. Конечно, привлекать внимание исследователей к негативным фактам подобного рода, как это всегда делалось и делается, правомерно и полезно. Вместе с тем, если бы проблема состояла только в них, думается, её давно бы уже решили. По справедливому наблюдению Г. М. Каткова, «у истины
1 Пагануцци П. Император Николай II - спаситель сотен тысяч армян от турецкого геноцида// Родина.
1993. №8-9. С.93; Семьянинов В. П. Возвращение правды об убийстве Романовых// Последние дни Рома
новых. М.: Книга, 1991. С.5; Днепровой А. Ю., Измозик В. С. Ук. соч. С.84; Боханов А. Н. Сумерки мо
нархии. С.З; Искендеров А. А. Ук. соч.// Вопросы истории. 1993. №3. С.87; Шацилло К. Ф. Царь и цари
ца// Книга для чтения по истории отечества. Начало XX века. М.: Просвещение, 1993. С.4; Романовы и
Крым. М.: Крук, 1993. С.5; Иванова М. В. Ук. соч. С.119; Кряжев Ю. Н. Военно-политическая деятель
ность Николая II Романова. С.5.
2 Иоффе Г. 3. Революция и судьба Романовых. С.З; Черкасов П. У к. соч. С. 190; Боханов А. Н. Император
Николай II. С. 12.
28 много врагов. И ложь хоть самый заметный, но не самый пагубный. У явной и сознательной лжи, - писал этот исследователь-эмигрант, - по поговорке, ноги коротки, далеко уйти она не может» . В том-то всё и дело, что одного явившегося ныне желания сознательно покончить с преднамеренной идеологизацией и политизацией исторических изысканий о последнем царствовании, решительно порвать с устоявшимися неубедительными суждениями о Николае II или, во всяком случае, значительно их поправить оказалось недостаточно, чтобы построить современные исследования на принципиально новых основаниях. «Удивительно, - поражён результатом собственных размышлений А. Ю. Полунов, - но под флагом решительного разрыва с советскими догмами при оценке последнего монарха возрождается старый, идеологизированный подход»2. Иными словами, хотя о необходимости принципиально новых исследований постоянно говорят и пишут, но в сущности процесс воспроизводства прежних стереотипов остаётся неконтролируемым и, продолжаясь помимо желаний и намерений исследователей, не может быть ни понят, ни нейтрализован в пределах той модели историографического анализа, которая сегодня демонстрируется. Пытаться изменить традиционные формы познания личности Николая II, сразу ограничив их подлежащую преодолению «традиционность» сферой умышленного обмана и благообразно порицая их заведомые, притом — очевидные даже для «невооружённого глаза» недостатки, не значит уяснить суть этих прежних форм познания или, тем более, найти и применить к предмету новые. Недаром именно об этой-то якобы привносимой ныне в исследовательскую практику новизне авторы хранят показательное молчание, а если и пишут, то до крайности скупо и неопределенно.
Поиск преднамеренных извращений исторической истины в научных и публицистических сочинениях не является ни главной, ни, тем более, единственной задачей историографического исследования хотя бы уже потому, что, позволив по-своему разо-
1 Катков Г. М. Февральская революция. М.: Русский путь, 1997. С.7.
2 Полунов А. Ю. Ук. соч. С. 124.
29 браться, в чём мы хотели бы изменить традицию историописания о последнем самодержце, он не оставляет никаких шансов предусмотреть, насколько та со своей стороны способна анонимно повлиять на проводимые теперь изыскания. Проникая сюда, как уже было сказано, помимо желаний и намерений исследователей, так сказать контрабандой, она тем самым негласно и потому вполне надёжно обеспечивает нежелательную принципиальную преемственность между нынешней и прошлой манерами изучения последнего царствования.
Вот почему задача историографа в этой связи будет заключаться не столько в том, чтобы воспроизвести бытовавшие и бытующие представления о Николае II и, оценивая степень их достоверности, рассудить, где именно и с каким расчётом исследователи вводят читателя в заблуждение, сколько в том, чтобы выяснить, посредством каких логических процедур эти представления на протяжении вот уже больше века создаются. И как уже говорилось, особого исследовательского внимания заслуживают как раз те из них, которые пользователями хотя и применялись, но не осознавались, или, во всяком случае, не прояснённым оставалось их реальное влияние на конечный результат «объективного» изучения личности и деятельности последнего самодержца. Речь, таким образом, идёт о некотором расширении традиционного предмета историографического исследования .
Цель настоящего исследования, исходя из всего вышесказанного, обусловлена не только минимальной, явно недостаточной историографической изученностью российской исторической литературы об императоре Николае II, но и её непростым современным состоянием, внушающим многим учёным серьёзную озабоченность. Цель эта заключается в том, чтобы учитывая имеющийся в исторической науке опыт критического исследования накопленной по теме литературы, дать развёрнутый анализ отечественной историографии о последнем самодержце.
1 Зевелёв А. И. Историографическое исследование: методологические аспекты. М.: Высшая школа, 1987. С.27-28.
зо Реализация поставленной цели возможна на путях решения ряда исследовательских задач, в числе которых необходимо отметить следующие:
Рассмотреть содержание и особенности записок современников последнего царствования, в тексте которых имеются сообщения о личности и государственной деятельности императора Николая II или даётся его оценка.
Определить основные крупные этапы в развитии отечественной традиции осмысления истории последнего царствования, а внутри каждого этапа - основные сфор-мировавшиеся в ходе этого осмысления концепции, представляющие императора Николая II как государственного деятеля. На конкретном историографическом материале поэтапно раскрыть содержание этих концепций и проследить историю их формирования, их эволюцию и идейную преемственность между отдельными из них, а также перипетии полемики между их адептами.
Обозначить и проанализировать логический механизм, то есть механизм работы человеческого сознания, продемонстрированный исследователями разных эпох и приведший их к созданию того или иного образа императора Николая II, к той или иной оценке последнего самодержца в качестве государственного деятеля. Причём совершенно необходимо выявить те стороны этого механизма, которые не были достаточным образом эксплицированы в изучаемых текстах - «естественные» ценности и мыслительные привычки, присущие исследователям, применявшийся ими алгоритм постановки вопросов и поиска их решений, установленные принципы источниковедческого анализа и отбора годного для работы материала, допустимые способы аргументации.
Сопоставить основные наработанные в отечественной историографии концепции, представляющие императора Николая П в качестве государственного деятеля, и выделить общие для всех, повторяющиеся их черты. Установить причины, которые определяют устойчивый самовоспроизводящийся характер этих наиболее типичных черт, обеспечивающих в свою очередь нежелательную, но неизбывную стереотипность суж-
31 дений об императоре Николае II, несколько встревожившую представителей современной отечественной историографии.
- Наметить одну из возможных перспектив обновления исторического изучения личности и государственной деятельности последнего самодержца.
Источниковая база настоящего исследования представлена комплексом разнообразных исторических и историографических источников. Если понимать под термином «историографический источник» такой письменный источник, который заключает в себе информацию о процессах, протекающих в исторической науке, то историографические источники настоящего исследования могут быть сгруппированы следующим образом:
А) Научная литература, различающаяся не только по жанрам (монографии, брошюры, статьи, авторефераты диссертаций), но и по характеру (те работы учёных, которые посвящены специальному рассмотрению темы, и те их труды, в которых тема затрагивается лишь попутно, в связи с освещением других сюжетов) и происхождению (научные произведения, изданные в советское и постсоветское время, в эмиграции).
Б) Публицистическая литература, которая в настоящем исследовании рассматривается не в качестве исторического, а в качестве именно историографического источника. Несмотря на то, что многие историки не склонны относить литературу подобного рода к историографическим источникам, обратный подход представляется тоже вполне правомерным. Публицистика часто отражает не только общественные настроения, но и основные тенденции развития исторической науки и, как показывает настоящее исследование, оказывается во многом сходной с профессиональной историографией в плане тех принципов, согласно которым выстраивается представление о личности и государственной деятельности императора Николая II. Подобно научной литературе публици-
1 Прядеин В. С. Историческая наука в условиях обновления: философские основы, принципы познания и методы исследования (Историографический анализ). Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук. Екатеринбург, 1996. С. 18-19; Скоробогатов А. В. Павел Первый в российской исторической литературе. Казань, 1999. С.7-8.
32 стическая может быть подразделена по жанрам (брошюры, статьи, произносимые на различных собраниях речи, карикатура, иногда - художественные произведения в виде сказок, стихов, романов), характеру (работы, посвященные специальному рассмотрению темы, и затрагивающие её в связи с обсуждением иных проблем) и происхождению (дореволюционная, советская, эмигрантская, современная).
В) Учебная литература, которая тесно связана с научной: строясь с учётом новых достижений исторической науки, она, таким образом, не только изменяется вместе с её развитием, но и отражает процесс этого развития.
Г) Записки (дневники и воспоминания) современников последнего царствования, на страницах которых отразились многие характерные тенденции исторического сознания того времени, не всегда находившие себе место в подверженных жёсткой цензуре публицистических сочинениях. Думается, что указанное обстоятельство позволяют рассматривать записки не только как исторический, но и как историографический источник1.
Д) Биографические материалы, отражающие жизненный и творческий путь отечественных авторов, учёных и публицистов, осуществлявших изыскания в области истории последнего царствования.
Необходимо отметить, что для каждой российской исторической эпохи характерен особый набор создаваемых историографических источников. Так, до революции 1917 г. да и во время неё личность и деятельность последнего самодержца оценивалась главным образом на страницах публицистических сочинений, к которым сегодня и приходится в основном обращаться. Эту особенность, думается, можно считать характерной и для русского зарубежья, интерес которого к фигуре императора Николая II находил выражение прежде всего в исторической публицистике, а также в трудах представителей Русской Православной Церкви. Дореволюционную и эмигрантскую исто-
1 Скоробогатов А. В. Ук. соч. С.8-9.
33 риографию о последнем царствовании роднит ещё одно примечательное обстоятельство - о многих её представителях нет никаких биографических сведений, что невольно заставляет ограничиться упоминанием только их имён, причём иногда неизвестными остаются даже и они. Что же касается советского этапа в развитии отечественной исторической мысли, то многочисленные исследования о последнем царствовании (отдельных его периодах, событиях или процессах) создавались, как правило, учёными, а редкие работы о последнем самодержце — публицистами, с чем при осуществлении историографического анализа приходится считаться, уделяя значительное внимание именно публикациям вненаучного происхождения. Подвергая рассмотрению современное состояние исторической литературы по теме, следует признать, что именно сегодня историки-профессионалы активнее, чем когда бы то ни было, принялись за конкретное изучение личности и деятельности императора Николая II, завершив к настоящему моменту целый ряд масштабных исследовательских трудов. И хотя с учёными ныне успешно конкурирует публицистика, по обыкновению склонная к обсуждению актуальных исторических тем и проблем, научная исследовательская продукция всё же представляет для историографов несоизмеримо больший интерес.
Самостоятельную роль в настоящем исследовании играет составленная автором библиография отечественной исторической литературы о последнем самодержце. На сегодняшний день это самая полная библиография по теме. В ней учтены сочинения дореволюционных, советских и современных учёных и публицистов, а также работы представителей российской эмиграции и переводные издания.
Колоссальный, увеличивающийся с каждым годом объём исторической литературы, посвященной личности и деятельности императора Николая II, предопределил невозможность рассмотреть все многочисленные составляющие её элементы одинаково подробно. Критерием отбора тех публикаций, которые с точки зрения историографического исследования представляют наибольшую значимость, явился не столько размер
34 рассматриваемых сочинений, сколько отражение в них общих закономерностей, характерных для развития отечественной историографии последнего царствования вообще или отдельных его этапов в частности.
Для полноценного анализа и проверки выводов, предложенных отечественной историографией последнего царствования, в настоящем исследовании был использован комплекс разнообразных исторических источников, которые можно подразделить на следующие группы:
A) Официальные документы - законодательные акты, исходившие от верховной
власти в годы последнего царствования; тексты международных договоров, подписан
ных тогда Российской империей.
Б) Делопроизводственные документы — текущая документация по различным вопросам государственной жизни, которой Николай II обменивался с подчинёнными и которая представлена с одной стороны в виде отчётов, донесений, докладов и записок, поступавших на высочайшее рассмотрение, а с другой - в виде резолюций, рескриптов и другого рода письменных указаний, выражавших реакцию самодержца на содержавшиеся в поступавших к нему документах предложения; стенограммы и протоколы заседаний высокопоставленных гражданских и военных чинов, нередко проходивших под председательством самодержца.
B) Документы личного происхождения - дневники, воспоминания и письма со
временников Николая II, в том числе дневник самого императора и его обширная пере
писка с множеством адресатов.
Методологическим основанием настоящего исследования послужил принцип историзма, согласно которому ни сам человек, ни его интеллектуальная деятельность, ни результаты последней не должны рассматриваться вне связи с конкретно-историческими условиями современного им этапа общественного развития. Представляется, однако, что этот вроде бы общепризнанный принцип исторического и историо-
35 графического познания требует в рамках темы более последовательной реализации, поскольку при анализе литературы об императоре Николае II обычно недооценивается. Проводить такой анализ можно и нужно вовсе не только для того, чтобы лишь ещё более внушительно указать на ошибки прошлого, предотвратить их повторение в будущем. Урезав понимание всей длительной традиции осмысления личности и деятельности Николая II до констатации её очевидных или пусть даже скрытых пороков, представляя дело так, будто она ими и исчерпывается или, по крайней мере, ими исчерпывается наш интерес к ней, мы рискуем упустить из вида историзм исторического познания: то, что теперь признаётся недопустимым, ложным или лживым, некогда таковым могло и не казаться, а чаще именно и не казалось.
Так, например, без конца повторяя укоризненную формулу о чрезмерной зависимости прежних исторических изысканий от идеологических и политических пристрастий авторов, мы забываем, что учёные и публицисты, для которых история сначала была «действительно хорошим подспорьем для политики», а затем стала уже и самой «политикой, опрокинутой в прошлое», видели эту зависимость, но не только не считали её предосудительной, не только не стремились её ликвидировать, а напротив - находили в ней именно положительную сторону, преимущество в своём движении к исторической истине.
Сказанное вовсе не подразумевает, будто бесполезно спорить с предшествующими поколениями исследователей о том, что современную науку не устраивает у них в плане методологии познания или его конкретных результатов. Вместе с тем, однако, надо помнить: одно дело считать теперь ошибочными те или иные аспекты их исследовательской работы, и совсем другое - сводить к ошибочности всю её смысловую полноту, как это обычно делалось и делается. С подобной точки зрения апологеты Николая II всегда взирали на работы его критиков, а критики в свою очередь - на работы его апологетов. Не чужда она и современной исторической науке, наперёд настроенной ви-
36 деть в любых исследовательских результатах главным образом их несоответствие научным требованиям сегодняшнего дня и тем самым обнаружить всю сомнительность этих результатов. Наиболее отчётливое тому подтверждение - нынешняя критика советской историографии последнего царствования. «"Царский режим" так долго критиковали, - пишет, например, А. Н. Боханов, - так страстно поносили, дошли до таких степеней ослепляющей ненависти, что уж и представление о реальности потеряли»1. «Официальная историческая наука, - указывает и А. А. Искендеров, - была настолько идеологизирована и политизирована, что утратила способность воспринимать объективную историческую истину»2. Дальше этого тезиса, который в конечном счёте венчает сегодня рассуждения и многих других (если не сказать - большинства) авторов, историографический анализ не движется, исподволь обесценивая заявленный-таки ныне и заявленный, по-видимому, вполне искренно отказ от претензии на обладание объективной истиной3.
Щепетильно протестуя сегодня против такой, действительно неуместной для кого бы то ни было привилегии, мы тем не менее действуем именно как её обладатели или по крайней мере как обладатели больших прав на её использование. Так, благосклонно приветствовать у наших предшественников лишь те элементы знания, которые как будто отвечают современным научным теориям или, по-видимому, послужили их появлению, это всё равно, что остальные его элементы счесть всего-навсего заблуждением, обременительным и заведомо вредным для дальнейшего развития науки балластом. Таким образом, уже в самой идее анализировать исследовательские достижения прошло-
1 Боханов А. Н. Император Николай II. С. 10.
2 Искендеров А. А. Ук. соч.// Вопросы истории. 1993. №3. С.87.
3 Вот некоторые из подобных заявлений: «Автор лишён иллюзии, что только он должным образом рас
ставит исторические смысловые акценты, определит все сюжетные линии, справедливо всё опишет, оце
нит и правильно интерпретирует, — в предисловии к собственной монографии указывает А. Н. Боханов. -
Истину истории не знает никто, может быть лишь Всевышний». - Боханов А. Н. Император Николай II.
С.11-12. «Кто возьмёт на себя право и смелость сказать: "Я понял всё" - и погасить свечу, освещающую
тропу к истине? - рассуждает Г. 3. Иоффе. - Грех "Краткого курса истории ВКП(б)"... был, может быть,
не столько в грубой фальсификации истории, сколько в категоричности, безапелляционности, злобе, ис
ключавших возможность несогласия, дискуссии, спора». - Иоффе Г. 3. Революция и судьба Романовых.
С.4.
37 го, исходя из собственных представлений о том, каким надлежит быть подлинно научному знанию, запечатлено, что для нас эти представления не просто первые среди равных, а безусловно лучшие, более того - единственно допустимые на пути к серьёзным историческим открытиям и историографическим свершениям. Между тем безоговорочно отрицать право ушедших эпох на историческую истину лишь потому, что рождённые ими представления о последнем самодержце не удовлетворяют взглядам современной науки на объективность, значит не только абсолютизировать эти взгляды, но и поразительным образом отступать от признанного принципа историзма, поскольку самый историзм, оказывается, как раз и не предполагается ни в понятии «историческая истина», ни, соответственно, в понимании и выборе допустимых путей её получения.
Сотворив себе вневременной эталон научности, соответствующий на деле его современному состоянию, исследователи обречены рассматривать любые исторические труды только как более или менее удачное воплощение этого эталона, последовательно отыскивая в тексте признаки его присутствия (в том числе особенно часто - формы и причины отклонений от него). В результате историки невольно вынуждают себя искать и находить в исследовательских процессах прошлого лишь прообраз исследовательских процессов настоящего, их менее совершенный аналог. Попав в эту своеобразную смирительную рубашку, история изучения последнего царствования усилиями своих нынешних представителей приноравливается покорно пребывать в роли подготовительной ступени к полноценной реализации исследовательских идей сегодняшнего дня, в роли их инкубационного периода.
Вместе с тем при соблюдении ряда условий такой, по-видимому ограниченный, методологический подход jc историографической работе и правомерен, и продуктивен. Во-первых, анализируя былые представления о Николае II с позиций достигнутого теперь уровня знаний, не стоило бы выстраивать свои и без того немногословные историографические экскурсы так, будто их цель - научить историков и публицистов про-
38 шлого тому, как им не надо было писать историю. В свете обнаружившихся между исследователями разногласий более закономерно обратиться к прояснению их сути, к совершенствованию путей собственных исторических изысканий, используя счастливую возможность поучиться на чужом опыте - аккумулировать пусть, с нашей точки зрения, и немногочисленные позитивные его аспекты, предотвратить репродукцию отрицательных. И во-вторых, подобный историографический подход не следовало бы использовать как единственный.
Никаких сомнений, можно и нужно изучать познавательный опыт былых поколений с тем, чтобы стимулировать развитие науки настоящего. Но можно и нужно ли допускать при этом, чтобы они произвольно лишались права на собственные, только им присущие образ мышления, душевный склад, систему ценностей, язык и даже ошибки? Не таков ли по сути принцип действий и того литературного садовника, который, не ведая никаких ботанических различий, кроме «съедобно» и «сорняк», не видит толка от девяти десятых порученного его попечению сада, вырывает самые волшебные цветы, рубит благороднейшие деревья? Думается, абсолютизация подобного подхода к анализу историографического наследия будет без преувеличения означать, что даже в «делах давно минувших дней» нам интересны только мы сами: признавая работы предшественников исключительно в качестве дурных копий современных исследовательских проектов, мы безотчётно следуем не к тому, чтобы понять прошлое, а к тому, чтобы привычную нам современность расширить до его пределов. Уже поэтому опрометчиво было бы всецело доверяться заманчивой возможности осмыслить длительную исследовательскую традицию не иначе как через уподобление любых прежних её путей тем, которые практикуются ныне или скорее даже предполагаются в качестве передовых многообещающих планов на ближайшее будущее.
Не менее правомерно и продуктивно допустить обратное и, не обременяя историческую мысль прошлого перспективой стать исторической мыслью настоящего, пред-
39 ставить её в уникальной внутренней целостности — ставящей собственные вопросы и
решающей собственные задачи. В этой атмосфере интеллектуального рыцарства — подлинного идейного равноправия в центре историографического внимания окажутся не обнаружившиеся теперь чужие ошибки и детерминирующие их обстоятельства, не петляющая предыстория современного взгляда на предмет, а условия, правила, ход и результаты уже осуществлённых и ещё осуществляющихся попыток наделить фигуру императора Николая II преходящими историческими смыслами.
Совмещая и комбинируя эти два подхода к историографическому исследованию, можно осмыслить историю изучения последнего царствования в единстве, не сводя однако отдельные её этапы друг к другу - выявить общее, не упуская из вида особенное, указать на необходимость дальнейшего движения в исторических изысканиях, отнюдь не перечёркивая уже пройденного пути.
Среди использовавшихся в работе общеисторических исследовательских методов необходимо отметить следующие*:
Метод классификации, направленный на вычленение отдельных этапов развития отечественной историографии о последнем царствовании, а внутри этих этапов -крупных концептуальных заключений о личности и государственной деятельности последнего самодержца.
Историко-генетический метод, направленный на анализ развития историографического процесса.
Историко-системный метод, направленный на рассмотрение каждого отдельного этапа историографического развития в качестве целостной структуры.
Историко-сравнительный метод, направленный на выявление индивидуальных и повторяющихся черт, свойственных историографической практике разных эпох.
* Наименования методов приводятся согласно исследованию И. Д. Ковальченко. - Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М: Наука, 2003. С. 182-208.
40 — Проблемно-хронологический метод, направленный на выявление основных
тенденций в освещении и объяснении конкретных государственных мероприятий императора Николая П.
Хронологические рамки настоящего исследования охватывают весь продолжительный период существования историографии последнего царствования с момента её зарождения в конце XIX в. до наших дней, открывающих XXI в.
Структура настоящего исследования продиктована поставленными перед ним целью и задачами. Хронологический метод изложения материала представляется наиболее целесообразным, поскольку он даёт возможность провести классификацию существующих по теме публикаций, выявить и рассмотреть содержание всех значительных концепций, установить их эволюцию, сходства и различия между ними. Основная часть работы содержит три главы, первая из которых посвящена анализу представлений современников Николая II о его личности и государственной деятельности, а вторая и третья - анализу подобных представлений, бытовавших и бытующих после смерти императора. Это значит, что в первой главе обстоятельному историографическому рассмотрению будут последовательно подвергнуты и обширный комплекс записок современников последнего царствования, и посвященные императору Николаю II публицистические работы дореволюционных авторов, как официально изданные, так и нелегальные, и аналогичные сочинения, появившиеся на российском книжном рынке в 1917-1918 гг. Что касается записок современников, то их содержание будет подвергнуто также и источниковедческому рассмотрению, чтобы установить их характер и особенности, и использовать эту информацию при анализе тех приёмов работы с ними, которые практиковали и практикуют исследователи. Во второй главе предстоит рассмотреть научное и публицистическое творчество советских учёных-исследователей и публицистов-литераторов, а также научное и публицистическое творчество представителей российской эмиграции. Третья же глава предназначена изучению современного (пост-
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
перестроечного) состояния исторических знаний о личности и государственной деятельности последнего самодержца и определению возможных перспектив развития этого знания. Причём, поскольку в современной исторической литературе представлены самые разные толкования конкретных государственных деяний императора Николая II, включая и все те толкования, которые появились ещё до революции или в эмигрантской и советской историографии, то закономерно рассмотреть их в одном месте, именно в параграфе, посвященном определению перспектив развития исторических знаний о последнем царствовании.
Раздробить историю изучения последнего российского царствования на эти составляющие, думается, вполне оправдано, поскольку видоизменения в его формах, его обогащение всегда следовали за метаморфозами в политическом режиме нашей страны, что между прочим уже само по себе свидетельствует не только о чрезвычайной политизации темы, но и о близком родстве познавательных процессов, характерных для отечественных историков разных поколений. Раскрывая сегодня суть этих процессов и вырабатывая методы их плодотворного преобразования в будущем, можно и глубже понять законы традиционного историописания об императоре Николае II, и пытаться ответить на вопрос, в каком же состоянии находится сегодня отечественная историческая наука и какие маршруты ей ещё предстоят.
Образ последнего самодержца в записках отечественных авторов
По-видимому, представители ни одной отечественной исторической эпохи пока не одарили своих наследников таким несметным и колоритным мемуарным богатством как очевидцы страшного, но удивительного времени последнего царствования, времени сумерек российской монархии. Заводили дневники или позднее писали воспоминания очень многие: высочайшие особы — император Николай П и императрица Александра Фёдоровна, другие члены дома Романовых, многочисленные царские министры и генералы, гражданские и военные чины без столь «степеней известных», независимые от престола общественные деятели и лидеры политических партий, светские львы и львицы, люди, принадлежавшие к творческой интеллигенции и научной элите страны. Словом, затруднительно будет указать такие круги тогдашнего образованного общества, которые не оставили бы по себе мемуарных документов. Брались за перо и в самой России (как императорской, так и советской), и в эмиграции, справедливо рассчитывая на интерес к перипетиям памятных лет не только со стороны уцелевших их свидетелей, но и в особенности со стороны грядущих поколений.
Этот расчёт оправдался, тем более что предыстория краха романовской династии и императорской России ещё не скоро станет предметом, занимающим исключительно специалистов. Внушительная же часть мемуаров, рождённых событиями последнего царствования, в гораздо большей степени посвящены как раз общественным и политическим коллизиям, чем личностям самих авторов, их жизни или семье. Поистине удивительно на этом фоне выглядят ежедневные записи самого императора Николая II, неоднократно переиздававшиеся и в журнальном, и в книжном вариантах, хотя до сих пор значительные его фрагменты не опубликованы1. Этот дневник за своё содержание мно 43 го раз подвергался и критике, и оправданиям, однако, избегая поспешных суждений о том, насколько он «ярко характеризует интеллект автора», интересно отметить, что, будучи в гуще политических страстей, до крайности скупо и неохотно писал о них чуть ли не единственный человек среди мемуаристов - сам царь!
Обращаясь к написанию дневников и воспоминаний, их создатели часто одинаково полагали свои сочинения необходимыми для формирования исторических знаний будущего, но приписывали им определённо разное значение и место в таком процессе. «Я... вовсе не намерен уничтожать этот дневник, — отмечал великий князь Константин Константинович. - Так же как бы не хотелось давать его читать при своей жизни, так же точно я желаю, чтобы его читали и перечитывали после моей смерти те, которым будет любопытно заглянуть в мою внутреннюю жизнь»1. Другие же «летописцы» дальновидно предрекали своим произведениям помимо некоторого значения в глазах отдельных пытливых потомков и прямо «историческую ценность» для познания судеб отечества. «Говорю... о моих маленьких ежедневных заметках... - пояснял один из таких сочинителей, министр иностранных дел граф В. Н. Ламздорф. - Какого огромного труда потребовал бы в будущем поиск всех тех сведений, которые тщательно и день за днём записываются мною под непосредственным впечатлением событий!» Обещанием «записывать» в дневник то «многое..., ускальзывающее часто от будущего - разные слухи и рассказы, волнующие общество, события, не попадающие в газеты, частная жизнь сильных мира сего, оценки их...» открывались мемуарные труды публициста С. Р. Минцлова и С. И. Демидовой, дочери наместника на Кавказе И. И. Воронцова-Дашкова . А княгиня Е. А. Святополк-Мирская в августовские дни 1904 г., когда решалось назначение её мужа на пост министра внутренних дел, декларировала свои писательские намерения, явно рассчитанные на будущих исследователей: «Я начинаю писать свой дневник для того, ...чтобы истина сохранилась... - утверждала княгиня. — Всякие петербургские дрязги могут погубить репутацию святого, а не то что простого смертного... Поэтому... хочу вести точную запись»2.
Простодушно полагая, что им именно в качестве очевидцев событий выпала счастливая возможность «смотреть на вещи так, как они есть» , эти рассказчики усматривали основной смысл собственных повествований прежде всего в сохранении той совокупности сведений, которую они могли сообщить идущим вслед поколениям, чтобы помочь разобраться в произошедшем, не предопределяя, однако, его понимание. «Это -только материал для истории», - указывал на предназначение своего дневника М. Лем-ке4. Вот почему в дневниках вполне можно заметить потребность их авторов сначала для себя определить «убеждения и взгляды на то, что происходит в России», можно прочесть выражение трогательного сочувствия «трудной задаче будущего историка», можно обнаружить даже иронию над неизбежными в будущем попытками «подводить всякие глубокомысленные причины крушения старого строя», но всё-таки нельзя встретить того отношения к. собственным словам, которое окажется столь характерным для авторов, работавших в жанре воспоминаний. Да, и они на правах именно очевидцев событий будут утверждать, что излагают «только факты», но притом ясно давая понять и цель их изложения - «выводы», которые, как писал генерал П. Г. Курлов, якобы «на 45 прашиваются сами собою»1. Главнейшим в общении с будущими читателями становится уже не совокупность передаваемых во всеобщее пользование сведений, а как раз устанавливаемый принципиальный взгляд на предмет повествования. Взгляд, которому приписывался дух исторической правдивости и который поэтому должен был бы впредь не только сигнализировать о достоверности данного сообщения, но ещё служить мерилом правдивости чужих сочинений.
«Быть объективным в своём изложении - моя цель, - заверяет в воспоминаниях М. В. Родзянко, - резкого же или пристрастного отношения к рассматриваемой эпохе я буду тщательно избегать». «Моя цель, - вторит бывшему председателю Государственной Думы генерал П. Г. Курлов, - восстановление правды и объективное ко всему произошедшему отношение». «Что касается фактов и сути дела, - предупреждает в предисловии к своим мемуарам С. Ю. Витте, - то всё изложено с полной правдивостью и точностью». «Хочется, чтобы побольше истинной правды распространялось», - объясняла свои издательские намерения дочь придворного врача Т. Е. Мельник-Боткина и т.д.2 Тем самым подразумевалось, что последующие эпохи вполне могут получить готовую непреложную истину о прошлом из уст прошлого же. И совсем не меняло сути дела, а напротив даже утверждало в этой мысли и побуждало высказываться то обстоятельство, что разноречивость суждений самих современников о своём веке была для них совершенно очевидной. Ещё в дневниках указывая на окружающие их «груды противоречий и сплошного вранья», «вакханалию сплетен», «крыловских музыкантов» и т.п., а затем в воспоминаниях бесцеремонно обвиняя друг друга во лжи, они тем не менее сохраняли за собой право рассказать правду о когда-то виденном, слышанном, пережитом, знание которой каждый приписывал в первую очередь себе.
Отечественная историография 1917 г.: подведение итогов царствования императора Николая II в Революционной России
Февральская революция сняла табу на обсуждение и осуждение недавнего «помазанника божьего» в легальной общедоступной печати. В результате, за один лишь 1917 г. о Николае II было написано больше, чем за почти четверть века его царствования. Начало этой мощной писательской кампании положили сотрудники периодических изданий — газет и журналов, едва ли не на следующий день после крушения монархии принявшиеся усиленно публиковать «любопытные статьи и заметки», способные «пролить некоторый свет на загадочный для многих характер низверженного русского самодержца»1. Вскоре, однако, книжную жизнь России захлестнуло такое множество мелких непериодических изданий, что её вполне уместно охарактеризовать как время «брошюромыслия, брошюрочтения, брошюробеседования», хотя это ёмкое определение было высказано А. С. Сувориным применительно к годам ещё первой русской революции2.
Сами свидетели февральских событий 1917 г. часто придерживались не особенно высокого мнения о публиковавшейся тогда литературе, посвященной последнему представителю династии Романовых на российском престоле. А. Ф. Керенский вспоминал впоследствии, что «в течение двух месяцев после падения империи» развернулась «злобная кампания по дискредитации бывшего царя и его супруги»3. Подобные отзывы существовали уже и в самом 1917 г.: «Почти всё, что появилось до сих пор, - оценивал накануне октябрьской революции усилия своих коллег историк К. В. Сивков, - не может быть названо иначе, как книжной макулатурой... Скучно, серо и часто пошло» . Указывая на «спешность работы», «погоню за сенсацией», «развязный бульварныйтон», присущие многим из опубликованных в свободной России сочинений, К. В. Сивков отмечал, что для некоторых авторов особым шиком стало «рассказывать об "амурных похождениях" последнего самодержца и целый ряд анекдотов» . Возмутительным считал это обстоятельство и Л. Г. Жданов (настоящее имя - Л. Г. Гельман), автор многочисленных исторических романов и хроник: «Когда переворот совершился и судьба Николая Последнего обозначилась окончательно, - писал он в своей новой книге, -вместе с лавиной негодующих воплей и жгучих обвинений против бывшего повелителя России хлынул мутный поток скандальных, нередко циничных и омерзительных для нормального человека "разоблачений"... Мне, как полагаю, многим и многим, - указывалось далее, - было отрадно отметить, что поднялись отдельные смелые, благородные возражения, зазвучали голоса, остерегающие от переигрывания на этой почти порнографической струне»2.
Но странное дело: осуждая разные недопустимые в чужих сочинениях вольности, авторы не спешили привести собственные труды в соответствие с предъявляемыми к другим требованиями. Так, тот же Л. Г. Жданов подробно поведал своим читателям не только о том, «что творят в тиши ночной... владыки людей», но и о «том месте, какое занял... "чудодейный" стойкий хлыст (речь идёт о Г. Распутине. — Ю. Г.) ...в алькове жалкого царя» . Недаром его «исторические наброски» поставлены ныне в один ряд с художественными произведениями о Николае II и расцениваются как роман, к тому же такой, который «отличается тенденциозным подбором и односторонним истолкованием исторических фактов и явлений (главным образом скандальных) и фамильярным обращением прозаика с историческими лицами»1. А в предельно критическом библиографическом обзоре К. В. Сивкова не нашлось места ни слову критики в адрес вполне того достойной и по содержанию напоминавшей другие проанализированные здесь работы брошюры «Последний самодержец. Черты для характеристики Николая П», о которой автор обзора не мог не знать — она рекламировалась журналом «Голос минувшего», где К. В. Сивков сотрудничал, и принадлежала перу редактора этого журнала С. П. Мель-гунова.
Не вполне правомерной представляется и позиция А. Ф. Керенского в отношении инициаторов «злобной кампании дискредитации Николая II». Признав, что в либеральной и демократической прессе за 1917 г. «иногда появлялись статьи... крайне сомнительного свойства», он тем не менее отрицал в её «критических комментариях по поводу свергнутого монарха» «дух сенсационности», а «фантастические и порой совершенно недостойные описания дворцовой жизни» полагал прерогативой «жёлтой прессы» и тех изданий, которые «до последнего дня старого режима являлись "полуофициальным" голосом правительства и извлекали немалую выгоду из своей преданности коро-не» . На подобное положение дел неопределённо намекал и С. П. Мельгунов, полемизируя в печати о том способе издания, какой редакция «Голоса минувшего» применила к скандальным запискам иеромонаха Илиодора (в частности, были опущены «некоторые интимные подробности, касавшиеся царского дома» и «совершенно фантастические и необоснованные утверждения», что и вызвало возражения журнала «Исторический вестник»3): «Казалось бы, - писал С. П. Мельгунов, — "Исторический вестник", как журнал "монархического" течения до 1 марта, должен был бы понять наши мотивы и скорее одобрить...» Между тем, если верно, что многие лояльные прежде к власти издания поддержали обвинительную кампанию против Николая II после его отречения, то также верно и то, что либеральные и революционные публицисты никогда её и не прекращали. Теперь она просто приобрела новых сторонников, причём объединила тех, чьи взгляды на происходящие в России события либо уже во многом расходились, либо коренным образом разойдутся очень скоро, определив и дальнейшую судьбу авторов: часть их пополнит ряды советских учёных и писателей, а часть будет вынуждена податься на чужбину.
Так, среди тех, кто в гуще революционных событий считал необходимым высказаться о личности и деятельности низложенного монарха, известными в будущем советскими историками можно назвать академика АН СССР Н. М. Лукина (псевдоним — Н. Антонов), посвятившего свои основные научные изыскания Великой французской революции, и К. В. Сивкова, занимавшегося исследованием социально-экономической истории России XVIII - первой половины XIX вв. Продолжал ещё некоторое время писать исторические романы Л. Г. Жданов, полностью затем переключившийся на сотрудничество с издательством «Центрсовет безбожников» и создание стихов, посвященных красным датам и успехам социалистического строительства. В эмиграции же обоснуются - писатель и публицист А. В. Амфитеатров, юрист и экономист В. В. Водовозов2, историк С. П. Мелыунов, побывавший после Октябрьской революции в тюрьме и даже приговорённый к смертной казни за пособничество антисоветским организациям.
Государственная деятельность императора Николая II в изображении советской исторической науки и публицистики
Великая октябрьская революция в полном соответствии с программным, стратегическим заявлением К. Маркса, что «философы лишь различным образом объясняли: мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его», была нацелена на свершение грандиозных, глобальных перемен в жизни России. События, последовавшие за приходом к власти большевистской партии, только укрепили сторонников её политической практики в радостном убеждении, что «сегодня рушится тысячелетнее "Прежде"», что многовековая история страны получила наконец «такую страницу, которая уничтожила почти все предшествующие», что «совершился величайший поворот в человеческой истории» вообще1. Принципиально иную страницу, казалось, предстояло начать и отечественной историографии.
Между тем, уже первые годы этой новой эпохи ознаменовались сильнейшим рецидивом одной из давних российских традиций: в советской России, как и в России царской и императорской, не оказалось законного места никаким проявлениям критического, тем более оппозиционного отношения к существующему режиму, почему его противникам, кому добровольно, а многим — именно в приказном порядке, пришлось перебраться за рубеж, в эмиграцию. Этот, как никогда в истории страны многолюдный, исход не мог не отразиться на состоянии отечественной историографии, предопределив её раскол на вполне самостоятельные и самобытные элементы - историографию российской эмиграции и официальную советскую историографию, взаимопонимание и конструктивный диалог между которыми всегда являлись проблематичными.
Претерпела подобную метаморфозу и традиция историописания о последнем царствовании, причём её новые представители, по-своему продолжая противоборство легальной и нелегальной печати «старорежимных времён», оказались враждебными друг другу настолько, что, по обоюдным наблюдениям, были способны лишь «врать без зазрения совести», распространяя «контрреволюционную белоэмигрантскую ложь» и «революционную большевистскую клевету». Дополнительным фактором обострения этого конфликта явилась страшная участь императора Николая II и его семьи, чью судьбу Октябрьская революция решила, как известно, окончательно и бескомпромиссно. Отныне исследователям его личности, жизни и царствования предстояло размышлять о том, кто, по безучастным словам советских писателей, «был расстрелян, сожжён, развеян по ветру, как некогда Лжедмитрий», превратился в «кучку пепла под Екатеринбургом».
Необходимо при этом отметить, что к самой теме цареубийства советские историки, литераторы и публицисты из десятилетия в десятилетие практически не обращались , и такое подчёркнутое деланное невнимание настораживало эмигрантские круги, многие представители которых открыто уличали своих советских оппонентов в стремлении воспрепятствовать распространению достоверной информации о постигшей цар 163 скую семью участи, «скрыть от мира совершённое зло», «замести следы злодеяния».
Из этих, во многом справедливых, наблюдений последовал, однако, довольно спорный вывод, что именно факт убийства предопределил ту крайне негативную оценку последнего самодержца, которая культивировалась в советской России и на создание которой была мобилизована советская историография. «Убийцам Государя», настаивали противники осуществившейся в Ипатьевском подвале казни, нечем «оправдать» совершённое именем нового политического режима «преступление», и потому они «так негодуют против замученного Царя», «с яростью бросают в него отравленные стрелы», прилагают усилия «помрачить нравственный образ Его», дабы, подсунув под убийство моральный принцип, выговорить себе «оправдание»2.
Но, прежде всего, чтобы оправдываться, нужно по крайней мере чувствовать за собой вину, сомневаться в правильности своих действий, а такое чувство вряд ли могло быть у тех, кто считал «уральский приговор» «стародавним требованием всего трудового населения страны», «волей народных масс, поднявшихся на революционную борьбу за освобождение от гнёта царизма». «Большевики, - гласило заключение советской историографии по этому поводу, — выполнили справедливое требование народа», - причём выполнили «мужественно и смело, действуя в огненном кольце, перед сонмом врагов»3. Конечно, деловитые рассуждения тех лет о мнении «всего народа» и апелляции к нему не вызывают безоговорочного доверия современной исторической науки, но надо признать, что по сути они мало отличаются от сегодняшних умозаклю 164 чений о «повсеместном осуждении», которое в России было бы выражено «готовившемуся преступлению», не скрой «революционные власти» его «следы» столь тщательно1. Более того, если для подтверждения этих умозаключений до сих пор не удалось собрать сколько-нибудь значительных свидетельств, то в пользу большого предубеждения против низверженного монарха говорит многое - «враждебное Николаю» «возбуждённое настроение солдатских тыловых масс и рабочих петроградского и московского районов», отмеченные А. Ф. Керенским, сохранившиеся в письменном виде «требования народа о заключении Николая Романова в крепость», поток «угрожающих и порнографических писем», которые адресовались заключённой царской семье, но были пере-хвачены комиссаром Временного правительства В. С. Панкратовым и т.п. Впечатление же, произведённое самим фактом убийства «на толпу, на то, что принято называть "народом"», ярко характеризуют наблюдения В. Н. Коковцова: «В день напечатания известия, - вспоминал он, - я был два раза на улице, ездил в трамвае и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями... Самые отвратительные вьфажения: "давно бы так", "ну-ка - поцарствуй ещё", "крышка Николашке", "эх, брат Романов, доплясался" - слышались кругом, от самой юной молодёжи, а старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали».
Иными словами, известие о казни последнего Романова было воспринято (при известных исключениях) тем желательным для революционных властей образом, суть которого в характерной для себя манере изобразил М. Е. Кольцов: «Трудовые массы России, - писал он в 1924 году, - знают, что свергли режим, а об остальном немедленно после февральского переворота забыли. Как человек, спросонья запустивший сапогом в крысу, чтобы подняв сапог, взяться за настоящие свои дневные дела... Только за границей, вне советского воздуха могут ещё идти споры и разговоры о царе... А здесь, в России, стоя в трезвом виде на советской земле, о чём спорить, если ничего не было»1. Такое, в лучшем случае безразличное, а в худшем - враждебное отношение масс к погибшему, думается, освобождало авторов смертного приговора от необходимости срочно оправдываться в содеянном, преднамеренно подчиняя общую оценку личности и деятельности Николая II делу обоснования его убийства. Но главное, почему связь между ними представляется не столь очевидной и значимой, как на то советским исследователям нередко указывали из-за рубежа, даже не в этом.
Возможные перспективы развития отечественных исторических знаний о государственной деятельности императора Николая II
Освещение конкретных аспектов государственной деятельности императора Николая II в современной отечественной историографии лишний раз свидетельствует о глубокой преемственности, существующей между «старыми» и «новыми» формами исторического познания. Показательно, что круг самых обсуждаемых сегодня исследователями тем, как правило, по-прежнему исчерпывается крупными внешне- и внутриполитическими событиями российской истории конца ХГХ — начала XX вв. А если участие в них непосредственно Николая II историки пытаются впервые восстановить не только в общеизвестных моментах, но и в малознакомых подробностях, то всё-таки это выглядит как традиционный более или менее вольный пересказ источниковых сообщений, сопровождающийся рассуждениями авторов о правомерности или, наоборот, недопустимости тех политических действий и мероприятий, которые Николай II считал нужными и предпринял.
По традиции же внешнеполитическая роль последнего самодержца интересует представителей современной историографии в заметно меньшей степени, чем его внутриполитическая роль, и по крайней мере современное историческое повествование о ней до сих пор ведётся более скупо. «В литературе о Николае II, — указывает на это обстоятельство А. В. Игнатьев, - значительно больше внимания уделяется его роли во внутренней жизни страны, чем во внешней политике»1. Происходит это не только потому, что последнее царствование отмечено для потомков прежде всего грандиозными внутренними событиями, корнями в которые уходит вся российская история XX в., но и потому, что внешней политике историки сегодня, как то было и всегда, отводят изначально подчинённое место. Этот её несамостоятельный характер часто запёчатлён уже в том, что многие внешнеполитические мероприятия Николая II, по мнению исследова 295 телей, были призваны решить именно те или иные внутренние проблемы страны и политического режима - укрепить трон, предотвратить или притушить революционную активность масс, развязать самодержавию руки в неотложных внутренних делах и т.п.
Приступая сегодня к исследованию внешнеполитических акций последнего царствования и отношения к ним императора Николая II, историки справедливо признают, что «о роли последнего царя во внешней политике высказаны противоположные мнения»1. Вместе с тем их попытки представить дело так, будто главной причиной историографических разногласий в этой области послужила именно «роль последнего царя во внешней политике» — роль венценосного «флюгера», отстранённого от реального участия в международных делах империи, или роль полноправного (хотя и не всегда компетентного) руководителя, державшего российский внешнеполитический курс в собственных руках, а российских дипломатов - в «ежовых рукавицах», вызывает серьёзные сомнения. Вот почему невозможно согласиться и с тем общим направлением, в котором современная историография предлагает начать поиски новых исторических знаний о Николае П-дипломате - «где-то посередине». Дело в том, что среди историков и публицистов этот спор практически уже утратил свою актуальность, и представляется весьма проблематичным отыскать ныне исследователей, которые, опираясь на источники, обосновывали бы полную непричастность императора к формированию международных отношений Российской империи. Но главное - этот спор и раньше, и тем более теперь имеет второстепенный, частный характер. Он не должен заслонять собой то обстоятельство, что центральным предметом продолжающейся в исследовательских кругах полемики является вопрос вовсе не о фактической роли последнего самодержца во внешней политике России, а о полезности этой его (и его помощников) политики для государства и общества, и, следовательно, о том, какой она должна была быть в конце XIX - начале XX вв. Именно с такой точки зрения все внешнеполитические проекты и действия Николая II оцениваются в первую очередь.
Так, малоизвестный, но чреватый международными осложнениями внешнеполитический дебют новоиспечённого монарха - проект захвата турецкого пролива Босфор, высочайше одобренный и оказавшийся на грани исполнения осенью 1896 г., историки склонны считать «сомнительным»1. Такая оценка не нова и в своей истории восходит к тому времени, когда об этой предполагавшейся, но так и не осуществлённой акции стало доподлинно известно из опубликованных документов. Николай II «начал своё царствование с авантюры», - писал в начале 1920-х гг. М. Н. Покровский, с долей неуверенности полагая, что реализации плана помешала «нелепость предприятия в данный момент и в данных условиях»2. Чудовищному замыслу «внезапно, среди полного мира, захватить Константинополь» удивлялся несколько позднее и другой советский историк Н. Н. Фирсов3.
Между тем о захвате Константинополя речь тогда не шла, речь шла о том, чтобы «обеспечить нашу безопасность на Чёрном море посредством занятия десантным отрядом верхнего Босфора, ...никоим образом не касаясь Константинополя». Более того — эта, по мысли своих разработчиков, действительно внезапная акция планировалась отнюдь не «среди всеобщего мира», а лишь на тот случай, если настанет «необходимость вооружённого вмешательства Европы в Турецкие дела», представлявшегося тогда вполне возможным в виду политической нестабильности Османского государства, то есть она могла осуществиться лишь «одновременно с движением европейских военных эскадр из Средиземного моря к Константинополю»4. Но поскольку оное «движение» всё-таки не состоялось, то и российский проект в силу не вступил, будучи мерой скорее вынужденной и в общем-то нежелательной, ведь Россия до вступления Турции в первую мировую войну не поддерживала идею её немедленного раздела, стремилась по возможности притормозить любые мероприятия держав прямо или завуалированно к тому направленные. Причём эту принципиальную позицию российской дипломатии разделял и неоднократно озвучивал сам Николай IIі. Примечательно, что намерение, родившееся у болгарского правительства в ходе балканских войн, овладеть Константинополем и «предложить его России, как дар признательности за освобождение от турецкого ига», вызвало его крайне негативную реакцию: «Россия не может принять такого подарка», - считал российский монарх и настойчиво рекомендовал Болгарии отказаться не только от такой демонстрации своей признательности, но и от захвата Кон-стантинополя . Лишь присоединение Турции к Германии и Австро-Венгрии в 1914 г. заставило его изменить свою обычную точку зрения: «С Турцией надо покончить, — резко писал император летом 1916 г. - Во всяком случае в Европе ей больше не место».
Если осуществление одобренного Николаем II проекта по захвату Босфора в 1896 г. напрямую зависело от поведения других держав в районе черноморских проливов, то трудно согласиться с имеющимся в эмигрантской историографии утверждением, будто бы император, преодолев «сильное давление» окружающих, аннулировал весь план из опасения, что для России такой «шаг грозит европейской войной»4. Кроме того, именно «европейской войны» молодой император от осуществления проекта как раз и не ожидал и едва ли даже всерьёз опасался каких-либо международных трений, поскольку на осторожные замечания Н. П. Шишкина, временно управлявшего тогда российским МИД, безмятежно отвечал, что державы «не посмеют» воспрепятствовать и что «мы с
ними справимся»1.