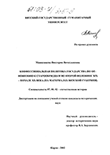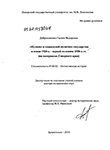Содержание к диссертации
Введение
Глава I Государственно-церковная политика военного периода и первых послевоенных лет как объект исторического исследования
1 Задачи исследования, терминология, методологическая основа 12
2 Историография проблемы 16
3 Характеристика источников 27
Глава II Государственно-церковные отношения в предвоенный период и первые годы Великой Отечественной войны
1 Развитие отношений советского государства и Русской Православной Церкви в предвоенный период 41
2 Патриотическая деятельность Русской Право славной Церкви в первые военные годы 86
3 Материальный вклад в дело Победы 115
4 Особенности религиозной жизни на временно оккупированной территории 129
Глава III Новый государственно-церковный курс 1943 - 1948 гг.
1 Политические предпосылки перехода к новому курсу 157
2 Создание системы православного церковного единства в ходе Второй мировой войны и после ее окончания как основное содержание внешнеполитических задач нового курса 180
Глава IV Международные аспекты государственно- церковной политики 1943 - 1948 гг.
1 Отношения с Англиканской Церковью 219
2 Отношения с православной эмиграцией в Америке 230
3 Методы противостояния политике Ватикана 246
4 Государство, Русская Православная Церковь и экуменизм 260
5 Укрепление позиций Московской Патриархии в Западной Европе, Китае и на Ближнем Востоке 267
Заключение 273
Источники и
литература 281
- Задачи исследования, терминология, методологическая основа
- Развитие отношений советского государства и Русской Православной Церкви в предвоенный период
- Политические предпосылки перехода к новому курсу
Введение к работе
Перемены в государственно-политическом строе России повлияли на все аспекты духовной жизни общества. Демократизация общества затронула и религиозную сферу, что привело к изменению роли Церкви в жизни страны.
И сегодня, в конце второго тысячелетия, в условиях духовно нравственного кризиса, переживаемого Россией, Русская Православная Церковь может стать существенным фактором возрождения страны.
За последнее десятилетие произошли глубокие изменения во взаимоотношениях государства и Церкви, что нашло свое отражение в отношении Церкви с государственными и общественными институтами: Церкви и школы, Церкви и политических партий, Церкви и армии - всего гражданского общества в целом, в которое Русская Православная Церковь, с ее богатейшим опытом духовно-просветительской и благотворительной деятельности, традиционно вносит нравственные ценности.
Российское общество и формирующаяся новая российская государственность стоят перед необходимостью выработки новой концепции в своей политике отношений с Церковью, которая на сегодняшний день до конца не определена, о чем свидетельствует отклонение Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным 22 июля 1997г. принятого Государственной Думой и одобренного Советом Федерации закона "О свободе совести и религиозных объединениях". В своем Заявлении по этому поводу Патриарх Московский и всея Руси сказал, что это решение президента "...вызвало сожаление в среде верующих Русской Православной Церкви"1, и подчеркнул, что "вызывает удивление критика упомянутого закона со стороны некоторых зарубежных го-
)
сударственных органов и религиозных объединений, которые никак не реагируют на наличие в ряде стран гораздо менее либеральных законов о религии, а подчас прямо или косвенно поддерживают эти законы. Это говорит о предвзятости и политике "двойного стандарта" в отношении России.2 Предвидя возможную негативную реакцию власти, Патриарх продолжает: "...новый закон, почти единогласно принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации, уже пользуется широкой общественной поддержкой. Его окончательное отклонение может создать в России напряжение между властью и большинством народа, что существенно затруднит движение нашего общества к миру и согласию..."3 (Как известно, Федеральный закон был принят 26 сентября 1997.года4, и в нем отсутствовала преамбула, упоминающая об уважении к православию, исламу, иудаизму, буддизму и иным, традиционно существующим в России религиям. Это можно рассматривать как правовое устранение Русской Церкви от ее традиционного, тысячелетним опытом апробированного государственно-строительного служения.)
В этой непростой ситуации сегодняшних дней становятся все более актуальными уроки истории взаимоотношений власти и Церкви. Их практическое значение заключается в том, что они позволяют учесть ошибки прошлого при таком непростом формировании новой концепции государственно-церковных отношений. Об этом говорил в своем недавнем выступлении на общеправославном совещании в Салониках митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл: "Покуда Русская Православная Церковь пребывала в социальном "гетто", покуда голос ее не был слышен за церковной оградой, не было и тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня".5 Большинство из них берут свое начало в военные и послевоенные годы. Это и непростые
отношения Русской Православной Церкви с экуменическим движением и с Всемирным Советом Церквей, истоки которых лежат в государственных замыслах 1946 года. Важными проблемами являются также отношения Московской Патриархии с Поместными Церквами, становление и укрепление которых в военные и первые послевоенные годы шло при непосредственном участии . советского государства. Осложнились на рубеже 80-90-х годов , межконфессиональных отношений между Православной и Католической Церквами. Причиной тому стала активизация Греко-католических церквей, которые начали восстанавливать свои приходы силовыми методами не только на Украине, но и в Румынии, Венгрии, Словакии. Акции по присоединению униатов к Православной Церкви прошли в этих странах в 1947-1948 гг. как составные части сталинского общеполитического плана.
Особенно сильно проходило вытеснение, православия на Западной Украине. Попытки христианских Церквей и международных организаций приостановить разгром православия в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях не увенчались успехом. Принятый в июне 1993г. в БаламаНде (Ливан) документ, подписанный представителями Римско-католической и девяти Поместных Православных Церквей (кроме Иерусалимской, Элладской, Сербской, Болгарской и Чехословацкой), отмечал, что "история отношений между Православной Церковью и восточными католическими Церквами отмечена гонениями и страданиями. Каковы бы ни были эти страдания и вызвавшие их причины, они ни в коей мере не оправдывают какой бы то ни было триумфализм; никто не имеет права превозноситься или использовать эти страдания в качестве аргументов, чтобы обвинять или поносить другую Церковь. Лишь Господь знает истинных своих свидетелей".6 Документ содержал также практические
_ j
рекомендации по преодолению напряженности между униатами и православными.
И сегодня, на наш взгляд, особенно актуальной является объективная оценка событий 1945-1948гг., когда советское государство, а не Русская Церковь, стремительно осуществило воссоединение греко-католиков Западной Украины и Закарпатской области с Московской Патриархией. Подобные мероприятия были проведены и в странах Восточной Европы, униаты которых тоже ничего не знают об истинных целях и их исполнителях. Так, к примеру, румынские верующие, в лице епископа Георгия Гутя, апостольского администратора для греко-католиков страны, обвиняют не Советское руководство, а Румынскую Православную Церковь, что она не опровергает утверждение о том, что Румынская униатская Церковь была присоединена в 1948 году к Румынской Православной Церкви «путем насилия и террора.»-7
И "ныне, когда Голос Церкви хорошо различим"8, ей необходимо знать историческую правду тех лет для диалога со своими оппонентами, в первую очередь, с Зарубежной Церковью, упрекающей Московскую Патриархию в пропаганде советских идей Языком Церкви как инструментом воздействия на Православные Церкви Восточной Европы в 1943 -1948гг. Анализ исторических событий пятидесятилетней давности и оценка позиции самой Церкви в военные и первые послевоенные годы являются основной задачей настоящего исследования.
Долгие годы новейшая история Русской Православной Церкви оставалась закрытой темой. Только с получением доступа к раннее закрытым документам стало возможным развивать новые подходы к изучению отечественной истории и по-новому, более глубоко, рассматривать вопросы взаимоотношений Церкви
и советского государства, к которым, в частности, относится и политика Московской Патриархии в 1943-1948гг.
Церковь всячески использовала улучшения в отношениях с государственной властью для возрождения церковной жизни, фактически уничтоженной в предвоенные десятилетия, хотя многие обещания, данные Сталиным 4 сентября 1943 года на встрече в Кремле с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), так и остались невыполненными.
Создав видимость благополучия в государственно-религиозных отношениях, Сталин оставил за собой решение всех ключевых проблем государственной политики по отношению к Церкви и поставил ее под жесткий контроль новой структуры -Совета по делам Русской православной церкви, председателем, которого стал полковник госбезопасности Г.Г.Карпов. Одной из важнейших своих задач власть считала использование Церкви в послевоенном переустройстве Европы.
Проделанный сравнительный анализ ранее закрытых источников с церковными материалами на страницах "Журнала Московской Патриархии" приводит к выводу, что истинных внешнеполитических целей "нового" курса, по-видимому, не знали не только иерархи Церкви, но и ответственные работники МИДа, МГБ и внешней разведки, на чьи плечи легли разработка конкретных мероприятий. Тысячи же верующих искренне считали, что государство по достоинству оценило патриотическую деятельность Церкви в войне. От кровавого террора конца 30-х годов власть пришла к торжествам по случаю 500-летия Автокефалии Русской Церкви в 1948 году. При чтении церковных материалов, освещающих празднества, чувствуется, что искренняя радость наполняла сердца православных, ничего не подозреваю-
щих об истинных причинах происходящего. За ширмой показ
ного благополучия проводилась строго секретная государствен
ная политика. _j . .
Научная новизна данной диссертационной работы состоит в том, что в ней впервые сделана попытка представить целостную картину взаимоотношений советского государства и Церкви в 1943-1948 годах. Для этого исследуются и анализируются причины нового государственно-церковного курса в 1943 году, рассматривается практика его осуществления на местах. Впервые на основе новых архивных источников прослежены все направления внешнеполитического плана, в интересы которых была включена Русская Православная Церковь, сопоставлены существующие точки зрения по вопросу об отношениях Московской Патриархии к экуменизму в рассматриваемый период и дана оценка причин вступления Русской Церкви во Всемирный Совет Церквей.
В процессе работы представилась возможность внести определенную ясность методологического и фактологического характера по таким вопросам, как влияние на- общественность стран-союзниц - Англии и США - по церковным каналам. Эти аспекты ранее в историографии не рассматривались.
і На основе новой обширной источниковой базы сделан комплексный анализ взаимоотношений СССР и Ватикана, в которых государство использовало исторически сложившиеся непростые отношения между Католической и Православными Церквами в своих целях.
Следует отметить, что рассмотрение отдельных вопросов выходило за хронологические рамки 1943-1948гг. Это было вызвано необходимостью целостного использования некоторых ключевых, малоизученных проблем, например: "Государство,
Русская Церковь и экуменизм ".
Кроме того, в работе дан краткий обзор истории взаимоотношений советского государства и Русской Православной Церкви в 1917-1941гг., так как без представления о них было бы затруднено понимание многих процессов новой государственно-церковной политики в военные годы и послевоенный период.
Собранный и проанализированный в диссертации материал по истории государства и Церкви в изучаемый период может быть использован при чтении курсов лекций по отечественной истории, истории Русской Православной Церкви, религиоведению, политологии в институтах, школах, в исследовательской работе светских и церковных научных центров, в лекционной просветительской работе.
Исследование указанных проблем в определенной степени будет способствовать решению ряда задач, стоящих сейчас перед Русской Православной Церковью: в отношениях с Всемирным Советом Церквей, для возобновления диалога с Католической Церковью по проблемам униатства, которые так и не решило Баламандское соглашение, а также для выработки мер, препятствующих внедрению государственных структур во внут-рицерковную деятельность.
Материалы диссертации могут быть использованы также при изучении современного состояния Русской Православной Церкви и перспектив ее влияния на общественную ситуацию в стране.
Проблема государственно-церковных отношений в СССР в целом, на наш взгляд, нуждается в комплексном изучении представителями различных гуманитарных дисциплин и в теоретических, и в конкретно-исторических направлениях.
Необходимость наметить методологические подходы к
проблеме, проследить внутренние и внешние причины нового этапа в государственно-церковных отношениях в 1943-1948гг., определила выбор темы настоящего исследования.
Примечания
Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нового закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" // Журнал Московской Патриархии. 1997. N 8. С. 19.
Там же.
Там же. С.20.
Закон РФ "О свободе совести и религиозных объединениях" // Собрание законодательств Российской Федерации. 1997. N 39. Ст.4465.
Митрополит Кирилл (Гундяев). Кредит нашего доверия Всемирному Совету Церквей исчерпан... // Независимая газета-религия. Ежемесячное приложение. 1998. июнь. N6. С.9.
6." Комментарий Синодальной Богословской комиссии к документам диалога между Русской Православной и Римско-Като-лической Церквами // Журнал Московской Патриархии. 1997. N 12. С.32.
7: Там же. С.28.
8. Митрополит Кирилл (Гундяев). Кредит нашего доверия Всемирному Совету Церквей исчерпан... // Независимая газета-религия. Ежемесячное приложение. 1998. июнь. N6. С.9.
Задачи исследования, терминология, методологическая основа
Основной целью настоящего исследования является изучение развития государственно-церковной политики в СССР в пе-риод Второй мировой войны и первые послевоенные годы, а также анализ внутренних и внешних причин становления "нового" курса в отношении государства и Церкви. В работе впервые сделано обобщение государственного опыта по использованию Русской Православной Церкви во внешней политике СССР в 1943-1948гг. Проанализированы государственные методы регулирования международной деятельности Московской Патриархии в нужных руководству страны направлениях в период послевоенного переустройства Европы и первые годы начавшейся "холодной войны".
Хронологические рамки работы (1943-1948гг.) соответствуют новому периоду политики государства в отношении Церкви, в которой Московский Патриархат впервые в истории СССР стал играть значительную роль во внешней политике страны.
Год 1943-й является той точкой отсчета, когда власть, окончательно отказавшись от планов уничтожения религии и Церкви, активно осуществлявшихся в предвоенные десятилетия, переходит к возрождению церковной жизни в стране под строгим государственным контролем.
Оценив духовный потенциал Русской Православной Церкви в начальный период войны, государство изменило не только отношение к ней, но и перешло к применению новых методов воздействия на Церковь и ее использования в своих внутри- и внешнеполитических целях. За внешним расположением к епископату, за положительной оценкой личного вклада духовенства и клира в дело Победы, за быстрым возрождением всех церковных структур скрывалась тайная, глубоко секретная государственная стратегия. И, если в предвоенные годы ГПУ-ОГПУ-НКВД занимались подготовкой и проведением акций, направленных на разложение и уничтожение Патриаршей Церкви как духовного и консолидирующего начала в обществе, то в 1943-1948гг. духовный потенциал православия использовался и МГБ, и МИДом, и внешней разведкой в интересах государства и лично Сталина, политические амбиции которого нуждались в создании православного единства европейских Автокефальных Церквей под эгидой Московской Патриархии. Органом, являвшимся посредником между Правительством и Церковью и фактически осуществлявшим большинство государственных задач, стал Совет по делам Русской православной церкви, созданный осенью 1943 года и возглавлявшийся с первого и до последнего дня своего существования (1988г.) сотрудниками госбезопасности, как в центре, так и на местах.
Кульминационной, триумфальной точкой в создании православного единства под руководством Московского Патриархата должно было стать Совещание Глав Православных Церквей летом 1948 года, приуроченное к празднованию 500-летия Автокефалии Русской Церкви. По ряду причин, которые исследуются в работе, этого не произошло, и со второй половины 1948 года начинает проявляться падение заинтересованности советского руководства во внешнеполитическом использовании Церкви.
Развитие отношений советского государства и Русской Православной Церкви в предвоенный период
Решающим событием в истории Православной Церкви XX века, ознаменовавшим окончание «синодальной эпохи», длившейся от Петра I, стал Поместный Собор Православной Российской Церкви. Он открылся 15 (28) августа 1917 г. и продолжался до22 сентября 1918 года. В нем участвовало 265 представителей духовенства и 153 мирянина. Он восстановил институт патриаршества и древнейшую традицию регулярного созыва Соборов как высших органов церковной власти. Авторитет Патриарха Тихона (Белавина), избранного Собором 5 (18) ноября 1917 г., прежнего митрополита Московского, должен был укрепить церковное единство и помочь сохранить богатое нравственное и культурное наследие России для потомков.
Официально сторонясь политики и насилия, согласно принципу «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22.21; Марк 12.17; Лука, 20, 25), Русская Православная Церковь старалась, однако, сохранить свою автономию и былые права.
Отношение русского православия к политике выразил в докладе на заседании Поместного Собора в тревожные ноябрьские дни 1917 г. профессор С. Н. Булгаков: «Церковь не предначертывает путей для достижения политических задач; православное сознание отличается от католического... Можно сказать, что если Церковь жива и действенна, то и культура, и государственность будут вдохновляться этой ее жизнью. Такова и есть задача Церкви, ее традиция, способ ее действования в истории, В смысле внутреннем и религиозном нельзя допустить отделения Церкви от государства: Церковь не может отказаться быть светом миру, не изменив вере. И задача ее определяется не бойкотом неугодной власти, а великой ответственностью перед Богом за народ».1
Однако вскоре искания русских богословов оказались в политических путах государства, а надежды верующих разбились о рифы циркуляров и декретов народных комиссаров. Советская власть, исходя из принципа идеологической монополии, расценила избрание Тихона как угрозу со стороны противостоящей ей политической силы, видя в Патриархе преемника и носителя идей поверженного монархизма, духовного самодержца над верующими и непримиримого, своего врага. Страх перед объединением, существовавших тогда реальных политических противников под церковными знаменами подгонял большевиков к началу антицерковной войны, для развертывания которой нужен был весомый и наглядный повод.
Долгие годы многие документы об этой войне хранились в секретных архивах, а атеисты и религиоведы в СССР создавали миф об агрессивной, антигосударственной и антинародной сущности Русской Православной Церкви в первые годы Советской власти. С этой целью передергивались факты, вырывались из исторического контекста события, освещение которых приправлялось выгодными цитатами из посланий Патриарха, духовенства и Соборных Определений.
Политические предпосылки перехода к новому курсу
5 июня 1943 года И. Сталин принял в Кремле наркома госбезопасности В.Н. Меркулова, который, согласно ранее полученным указаниям, представил проект совершенно секретного документа, именуемого «Мероприятия по улучшению зарубежной работы разведывательных органов СССР». Сталин вычитал все пункты, сделал поправки и подписал Постановление Государственного Комитета Обороны за № 3522 «СС» (совершенно секретно) об утверждении мероприятий. Этот документ означал новую веху в истории политической разведки СССР.
Всего несколько строк: «Утвердить представленные НКГБ СССР и Главным Разведывательным Управлением Красной Армии «Мероприятия по улучшению зарубежной работы разведывательных органов СССР».1
Прежде всего, это значило, что упомянутый в постановлении документ имел статус государственной программы на высшей законодательной основе и подразумевал такую же высшую ответственность за выполнение его положений.
Сами «Мероприятия», в отличие от весьма краткого постановления ГКО, состояли из четырнадцати пунктов и стольких же подпунктов и примечаний.
Надо заметить, что многие из них для органов госбезопасности были не новы, и только сведения о положении национальных меньшинств и о религии в иностранных государствах были впервые отнесены к категории интересов внешней разведки.
В преддверии грядущих преобразований в Европе И.Сталин трезво взвешивал шансы СССР в условиях мирного противостояния общественных систем. С одной стороны, симпатии народов Европы, государственных и политических лидеров к СССР как государству, спасшему европейскую цивилизацию от германского фашизма, с другой — настороженность, недоверие к СССР как большевистскому государству, печально известному своими репрессиями, своими преследованиями религии.
Как максимально использовать эти симпатии и как нейтрализовать недоверие? Морально-этической основой сближения разных государств и народов в новых условиях могла стать религия с ее универсальными ценностями и идеалами. Но для этого надо было показать уважение к ней, терпимость к «чуждым социализму ценностям». Однако внешнеполитические планы не ограничивались задачей завоевания симпатий европейских народов. В своих имперских амбициях Сталин претендовал и на лидерство в планируемом им объединении Православных Поместных Церквей вокруг Московского Патриархата, как центра международного православия, который мог стать духовно-нравственной опорой международной политики Кремля.
Создание такой системы с перенесением центра Вселенского Православия в столицу коммунистической империи должно было идти под личным контролем И.Сталина и В.Молотова. А право на «оперативную инициативу» в осуществлении плана было предоставлено «куратору» Церкви - Председателю Совета по делам Русской православной церкви, полковнику госбезопасности Г.Г.Карпову и «специалистам» по внешним сношениям с Лубянки.