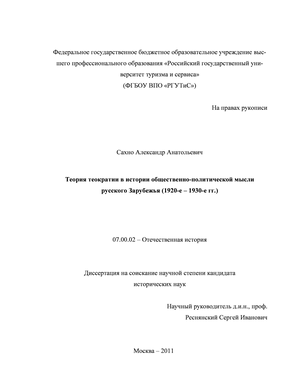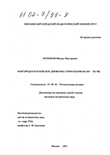Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Источники и историко-археологическое изучение Горно-Ассинской котловины (40-е годы ХVIII века – 2013 год) 15
1. Обзор источников 15
2. Основные этапы историко-археологических исследований в Ингушетии 24
Глава II. Некоторые аспекты этнополитической истории ингушей XIII-ХV вв 65
1. Об участии ингушей в политических событиях XIII-ХIV веков 67
2. Основные этнокомпоненты в этногенезе средневековых ингушей..79
Закавказский этнокомпонент 86
Кочевнический компонент в составе предков ингушей 89
- Иные группы населения 92
Глава III. «Профессиональная» специализация горского общества и конфессиональная ситуация в нем (по материалам Келийского и Шуанского некрополей XIII-XIV вв.) 95
1. О социальной дифференциации в горском обществе 95
2. Причины изменений социальной и общественной структуры ингушского общества в XIV-ХV веках .117
3. Общая характеристика поселений и башен горной Ингушетии и система внутренней организации горского общества рассматриваемого времени 122
4. Особенности системы религиозных воззрений населения горной Ингушетии XIII-ХIV вв 126
Глава IV. Внешние и внутренние факторы процесса имущественно - социального расслоения и феодализации горского общества 132
Заключение 163
Список литературы 169
- Основные этапы историко-археологических исследований в Ингушетии
- Кочевнический компонент в составе предков ингушей
- О социальной дифференциации в горском обществе
- Особенности системы религиозных воззрений населения горной Ингушетии XIII-ХIV вв
Основные этапы историко-археологических исследований в Ингушетии
Рассматривая историографию проблемы, автор работы столкнулся с тем, что историографическое изучение отдельных этапов и аспектов истории территории всей бывшей Чечено-Ингушетии предпринималось не один раз. Это были отдельные, но давно уже нуждающиеся не только в обновлении, но и в специальном, новом изучении разделы, несмотря на то, что нашими предшественниками сделано уже немало. Мы имеем в виду соответствующие историографические разделы в двух монографиях Е.И. Крупнова, в давней монографии В.Б. Виноградова и В.И. Марковина, в двух книгах М.Б. Мужухоева, в работах Д.Ю. Чахкиева, а также и в нескольких публикациях В.Б. Виноградова и Е.А. Асеевой. Есть они и в работах других авторов, среди которых следует указать и на историографические обзоры, предпринятые Р.М. Мунчаевым, М.Х. Багаевым, Х.М. Мамаевым и У.Б. Гадиевым. Все вышеуказанные историографические работы не представляют собою исчерпывающего анализа всего историографического наследия с момента зарождения научного интереса и вплоть до настоящего времени. К тому же акцент в них делается на археологический материал, что вполне понятно, поскольку интересующий нас процесс научного познания истории высокогорной Ингушетии, за редким исключением, базируется именно на археологическом материале.
Опираясь на накопленный опыт историографических обзоров и учитывая его позитивные наработки, все же необходимо внести некоторые коррективы. Прежде всего, это касается временных рамок основных этапов такого изучения.
Е.И. Крупнов, В.Б. Виноградов, В.И. Марковин, М.Б. Мужухоев, Д.Ю. Чахкиев и другие современные авторы вполне справедливо историю зарождения научного интереса к археологическим объектам нынешней Чечни и Ингушетии, впрочем, как и их предшественники ХIХ-ХХ веков, связывают с ХVIII столетием. Сначала В.Б. Виноградов и В.И. Марковин, а вслед за ними и Е.И. Крупнов, рассматривая данный аспект проблемы, полагали: «Первыми учеными, посетившими отдельные районы Северного Кавказа, в том числе и западную часть Чечено-Ингушетии, были академики Российской Академии наук И. А. Гюльденштедт (1770-1773 гг.) , П. С. Паллас (1793 и 1794 гг.) , Г. Ю. Клапрот (1807-1808 гг.) и другие. Все они не ставили перед собою специальных археологических целей, не производили раскопок, а занимались общим историко-этнографическим описанием быта горцев Кавказа, в том числе осетин и ингушей. К такой оценке роли вклада иностранных ученых, оказавшихся на службе в российской академии наук ХVIII века, следует добавить и наблюдения академика Арн. Чикобавы. Он, в частности, отмечал, что перед поездкой на Кавказ все выше перечислявшиеся ученые, И.А. Гюльденштедт и П.С. Паллас, помимо всего, лично от Екатерины II, имели четкую установку по необходимости сбора еще и лингвистического материала в горах Кавказа. Этот материал, по примеру представителей «французского Просвещения», российская императрица собиралась использовать в, якобы, планировавшемся ею «Словаре» по лингвистике горских народов Российской империи. Арн. Чикобава свидетельствует: И.А. Гюльденштедт и П.С. Паллас справились с заданием великолепно, и императрица искомый материал от них получила. По свидетельству современника Екатерины II Л.Ф.Сегюра, отчетные материалы П.С. Палласа российская императрица не просто получила, а приобрела у П.С. Палласа за кругленькую сумму. Что же касается отчетов Г.Ю. Клапрота, они оцениваются различно, особенно после опубликования нового русскоязычного перевода его «Путешествия..». В последнее время появились необоснованно восторженные оценки этих описаний, как отмечается, отличающиеся, якобы, значительной конкретикой и пространностью. Если А.В. Пачкалов и Э.Д. Зиливинская склонны относиться к ним с большим доверием, то Арн. Чикобава пишет о том, что сведения Г.Ю. Клапрота носят компилятивный характер, находя им многие «аналогии» в работах предшественников. С ним солидарны другие современные специалисты. Помимо этого ныне есть все основания и для некоторого удревнения начального этапа изучения региона. Здесь мы, в первую очередь, укажем на относительно новые периодизации историографического наследия, напрямую увязанные с динамикой российско-кавказских взаимоотношений. Наиболее удачным опытом стало совмещение периодизации российско-северокавказских взаимоотношения в версии К.Ф. Данилова и рубрикации историографии истории Северного Кавказа, предложенной Е.И. Нарожным. Этот опыт вполне приемлем и для нас.
Первый этап истории изучения проблемы по той периодизации ограничивается периодом с 1740-х годов – вплоть до 1881 года, т.е. с момента начала изучения северокавказских древностей в регионе, начатого тогдашним астраханским губернатором В.Н. Татищевым, и вплоть до V-го Археологического съезда в России, оказавшегося знаковым для изучения интересующего нас микрорегиона.
В 1741-1742 г. В.Н. Татищев был назначен на должность астраханского губернатора ; наряду с выполнением своих непосредственных обязанностей губернатор снаряжает на р. Куму художника М. Некрасова и «кондуктора инженера инженерного корпуса» А. Голохвостова для зарисовки архитектурных остатков на р. Куме и снятия плана «на пять верст». Все материалы В.Н. Татищев отправляет в РАН. Год спустя к губернатору в Астрахань прибывает другой геодезист Сергей Счелков, который снимает план «целого степного городка от Астрахани до Сулака». Помимо «Тюменского городка» на нижнем Тереке и Маджара, он побывает в Дагестане («Андреев-городок»), «в Тартубе» -Татартупе и на «Юлате» (в чегемском ауле Уллу-Эльт) . Позднее в Западной Европе литографию М. Некрасова с видом на маджарские мавзолеи публикует С. Бюшинг . Упоминает он и о карте «степного района от Астрахани до Сулака» С. Счелкова, которая позже попадет к С.Г. Гмелину во время его поездки в Персию . Благодаря С. Счелкову В.Н. Татищев вносит дополнения и в сведения «Книги Большому Чертежу», в одной из редакций которой (ХVIII в.) на реке Куме появляются конкретные подписи к развалинам золотоордынского времени. Впоследствии часть отчета С. Счелкова из архивов РАН (?) окажется и в бумагах российской императрицы Екатерины II, которые с ее автографом (1768 г.) будут опубликованы в 1906 г. На фоне такого «наследия» В.Н. Татищева нет никаких прямых данных о том, что и территория современной Ингушетии оказалась в сфере научных интересов экспедиций, им снаряженных. Тем не менее, очевидный факт пребывания С. Счелкова, геодезиста, присланного губернатору РАН, на территории Восточного Придарьялья и обследование Татартупа вполне дают определенный повод надеяться на появление новых материалов, связанных и с Ингушетией.
Кочевнический компонент в составе предков ингушей
В литературе уже указывалось о том, что в горы Ингушетии завозилась поливная керамика из грузинского Жинвали, а также керамика неполивная. Однако посуда с надписями разительно отличается от привозной, хотя и имеет немало схожего с образцами из Грузии. Во-первых, по своей форме и, что самое главное, по рецептуре состава глины – она местная. Но в отличие от массовой местной керамики, покрыта темно-коричневым ангобом, как и кувшины из Жинвали. Поскольку факт местного производства части керамики в Горно-Ассинской котловине ныне не вызывает сомнений, вполне возможно, что и ангобированные образцы – местного производства, но изготавливались, скорее всего, переселившимися сюда выходцами из Грузии.
Кочевнический компонент в составе предков ингушей. В предыдущей главе мы указывали, что в результате публикаций различных предметов защитного вооружения явно кочевнического происхождения М.В. Горелик выдвинул предположение, что в ХIII веке в горы Ингушетии, якобы, могли проникнуть равнинные половцы, которые и привнесли эти элементы вооружения, распространившиеся среди предков ингушей. Хотя эта версия ныне не имеет серьезной доказательной базы, проблема участия средневековых кочевников все-таки должна учитываться.
В 1960-х, а затем в 1970-х годах, рассматривая вопрос о возможных массовых миграциях равнинных и предгорных аланов вглубь горных ущелий, В.А. Кузнецов в качестве одного из аргументов в пользу данной версии указывал на наличие в Осетии и Ингушетии большого количества «пещерных» или «скальных» захоронений. Чуть позже были открыты и т.н. «катакомбы» у чеченского сел. Ушкалой, дав еще один повод для дальнейшего соотнесения «пещерных» захоронений с аланскими. В 1986-1988 годах были открыты новые «пещерные» некрополи в Бамутском районе Чечни и близ Келийского могильника в Ингушетии. Были учтены и картографированы все известные «скальные» захоронения, что позволило очертить их ареал – от Верхней Кубани и Кавминвод, до границ Чечни и Дагестана. В этом ареале самые ранние «скальники» - эпохи раннего средневековья – на Верхней Кубани; «скальники», расположенные в Осетии и Ингушетии, а также и в Чечне, надежно датируются монетными находками ХIII-ХIV вв. и более позднего времени. Самые поздние из них, исследовавшиеся еще Л.П. Семеновым в Ингушетии, датируются находками глиняных курительных трубок, обрывками бумаги в пределах ХVIII столетия. Все это дало право для постановки вопроса о том, что «скальные» или «пещерные» захоронения вместе с носителями этого погребального обряда распространялись постепенно: в эпоху раннего средневековья они оказались на Верхней Кубани, а в золотоордынское время продвинулись далеко на восток, заняв часть равнинных и горных районов региона. Данное предположение позволило обратить внимание и на то, что ареалы распространения «скальников» совпадают с ареалами распространения топонимических названий, так или иначе связанных с некими тюркоязычными «борганами», фиксируемыми в фольклоре различных северокавказских народов с раннего средневековья. В переводе с тюркских языков, «борган» - это «кочующий, перемещающийся, передвигающийся» во времени и в пространстве, т.е. то же самое, что и «бродники» Подонья и Приазовья. «Борганская» топонимика в долине р. Сунжи, как это доказал в свое время М.М. Базоркин, хорошо датируется золотоордынским временем. В грузинской историографии этого периода река Сунжа именуется не иначе как «Борагнис-Цкали», т.е. «Брагунская река»; в начале ХV века возводится мавзолей Борга-Каш («могила Боргана или Борганов»); близ места слияния Сунжи и Терека к ХVI веку возникает «Брагунская деревня» («Брагуны»). На фоне этих данных можно предполагать, что уже в ХIII веке «борганы» Северо-Западного Кавказа перемещаются на Северо-Восточный Кавказ, часть из них остается на равнине, другая часть перемещается вглубь горных ущелий, привнеся туда и «скальный» обряд захоронений, а также такие обычаи, как ломка сабель, и ряд категорий материальной культуры. В результате миксации с местным населением, возможно, складывается даже этнокультурная общность «карабулаков», родственная горным ингушам и чеченцам и характеризующаяся сильно выраженной тюркской их принадлежностью. Проживание таких тюрок-борганов в горной зоне Ингушетии, вероятно, не только сопровождалось их участием в миксационных процессах с горцами, но и обеспечивало сохранение контактов с их родичами, оставшимися на золотоордынской равнине. В настоящее время набирает силу альтернативная версия, базирующаяся на наблюдениях В.Х. Тменова. Этот автор считал, что т.н. «пещерные» или «скальные» захоронения с территории горной Осетии – это один из «завершающих» этапов эволюции аланских катакомб. Эта заманчивая версия, тем не менее, имеет свои недостатки: во-первых, в этом случае все равно такие «скальники»- пещеры необходимо «выводить» в горы Осетии как результат перемещений с Верхней Кубани или Кавминвод, где сосредоточена основная масса наиболее ранних «скальников». С таким же «успехом» скальники Осетии можно связывать и с миграциями алан из горного Крыма, где также известны образцы, тождественные северокавказским. Аналогичные скальники, впрочем, как и находки котлов с внутренними ручками, ныне открыты в Кузнецкой котловине и в Сибири. Связываются они там с тюрками, которые, вероятнее всего, и занесли данный тип погребальных сооружений на Верхнюю Кубань, что делает версию В.Х. Тменова дискуссионной.
Иные группы населения. В раскопочных материалах из горной зоны Ингушетии немало было предметов мелкой христианской пластики, суммарно датированных периодом ХII-ХIV вв. Несмотря на давний и стойкий интерес к данной проблеме, следует отметить, что из высокогорной Ингушетии сегодня известно чуть более 20-ти находок предметов мелкой христианской пластики, хорошо подразделяющихся на несколько условных групп – нательные крестики, кресты-энколпионы, наперсные кресты, змеевики. Такое их подразделение позволяет связывать находки с владельцами, имевшими различный социальный статус. Нательные крестики, как считается, это принадлежность христиан различного социального статуса. Энколпионы, как полагают некоторые исследователи, обязательный атрибут священнослужителей. Наперсные (нагрудные) крупные литые кресты, судя по их социальной стратиграфии в материалах Киева или Новгорода, носились «торговцами и купцами». Змеевики использовались не только представителями социальных низов, но и представителями «средних слоев». Уже по этим аналогиям можно предполагать, что владельцы русских предметов мелкой христианской пластики, попавшие в высокогорье, представляли социальные группы русского населения, оказавшегося сначала в золотоордынских владениях на Северном Кавказе, откуда они различными путями попадали и в горы.
Внутри этих групп предметов мелкой христианской пластики такие находки могут быть подразделены по аналогиям на разные подгруппы по их происхождению. Если нательные крестики можно включить в подгруппу «характерных для разных русских княжеств», т.е. бытовавших в различных уголках Руси, то энколпионы, изготавливавшиеся, как известно, при крупных монастырях или церквах, «распадаются» на характерные для территории Южной Руси, Твери, Московской Руси и др. Змеевики и иконка с изображением Георгия Победоносца имеют прямые аналогии в Новгороде. При этом змеевики Новгорода - с двусторонним изображением, их аналогии из Ингушетии – односторонние, т.е. отлиты с оттиска только одной стороны. Причины и пути их попадания в высокогорье, как представляется, были различными. «Южнорусские» нательные крестики, энколпионы и наперсные кресты можно связывать с русскими пленниками различного социального статуса, оказавшимися вблизи Дарьяла, откуда они впоследствии попали и в горы. Новгородские предметы связываются с новгородскими ушкуйниками, по Волге выходившими в Каспий, а также, вероятно, доходившими и до нижнего Терека, откуда проданные в рабство «новгородцы» также попадали к Дарьялу, спасаясь бегством в горы Осетии и Ингушетии. Либо же эти предметы можно ставить в прямую связь с походом Ногая, разорившего округу Новгорода, а затем вернувшегося в свои владения, которые были в Побужье и Поднестровье, а его войска находились в Придарьялье. В любом случае, причины, по которым русские владельцы крестов оказывались в горах, вполне достоверно объясняет русская летопись. Описания кануна убийства Михаила Ярославовича Тверского (1319 г.), произошедшего, как доказано, на р. Ачалуки («р. Горесть») вблизи Дарьяла, даются в источнике, на который в свое время обратила внимание Т.В. Николаева, а затем и В.Б. Виноградов. Русский летописец сообщал, что уже после того, как хан Узбек под напором московских князей – «заимодавцев» вынес Тверскому смертный приговор, к тверскому князю вечером пришли его бояре и слуги с предложением: «Княже, кони и люди готовы, бежим в горы». Михаил Тверской отказался спастись бегством и был убит. Однако вряд ли можно считать, что другие выходцы из Руси каждый раз отвергали такую возможность.
О социальной дифференциации в горском обществе
Исходя из общей статистики погребенных на указанных некрополях высокогорной Ингушетии, напомним: только в раскопанных погребальных сооружениях было чуть более одной тысячи захороненных, так что заманчиво предпринять посильный анализ внутренней структуры горского общества, основываясь на этих материалах.
Прежде всего, необходимо сделать несколько обобщающих выводов. В первую очередь мы обратим внимание на расположенность рассматриваемых нами могильников. Несмотря на частое упоминание тех или иных некрополей горной Ингушетии, все ныне известные из них состоят из каменных ящиков, грунтовых захоронений и полуподземных склепов. Наземные склепы и мавзолеи относятся к более позднему времени и нами не рассматриваются.
1. Паметский могильник в Джейраховском ущелье у самого его выхода к Дарьяльскому горному проходу. Эпизодически исследовался В.И. Долбежевым, осматривался В.Ф. Миллером, раскапывался небольшими площадями Л.П. Семеновым и Е.И. Крупновым. Последние по времени и самые масштабные раскопочные работы здесь были проведены Н.Н. Бараниченко, уточнившей площадь могильного поля и определившей датировку основной массы погребенных здесь. Датировка дана в рамках VIII-IХ веков. В начале 1990-х на южной периферии могильника Д.Ю. Чахкиевым были изучены две раннесредневековые катакомбы, находившиеся на территории данного некрополя, а также 4 каменных ящика ХIII-ХIV вв., находившихся в разных местах обрушавшейся восточной периферии могильного поля. Все 4 каменных ящика – воинские, надежно датированы золотоордынскими монетами. Но эта поздняя группа захоронений не позволяет считать, что здесь был достаточно обширный участок захоронений ХIII-ХIV веков, возможно, что раннесредневековый могильник эпизодически использовался для отдельных захоронений.
2. Второй относительно крупный могильник из каменных ящиков, надежно датированный XIII-ХIV веками, находится на Шуане, но и он достаточно компактный и занимает небольшую площадь. 3. Биштский перевал, соединяющий Джейраховское ущелье с Горно-Ассинской котловиной. Здесь известен каменноящичный могильник ХIII-ХIV веков небольшой площади. Любопытно, что все выше указывавшиеся пункты в фольклоре ингушей связываются с перманентно функционировавшими «сторожевыми постами», при помощи дымовых или огненных сигналов (костров) быстро оповещавших своих сородичей, находившихся далеко в Горно-Ассинской котловине, о надвигавшейся опасности.
4. Келийский могильник – самый обширный из всех известных могильников из каменных ящиков и грунтовых захоронений. В ходе охранно-спасательных археологических работ здесь была исследована лишь одна шестая всей площади памятника, хорошо просматривавшейся на окружающем фоне. Вся его территория на склоне подножия горы Цей-Лам была очищена от камней, в центре верхней части могильного поля стоял крупный каменный крест с отбитой вершиной. Интересно предположить: если раскопанная площадь могильника составляла 1/6 от всей площади некрополя и на ней были сосредоточены останки около 600 человек (+ 400 в склепах), следовательно, при такой же насыщенности захоронений на оставшейся нераскопанной части могильника должно находиться, примерно, в 6 раз больше, т.е. около 2400 человек + 400 в склепах., получается 2800 человек. Поскольку дата могильника предполагает его функционирование, как минимум, два века (ХIII и ХIV века), можно считать, что горское общество, использовавшее только Келийский могильник, хоронило здесь по 1400 человек в столетие. Понятно, что все приводимые здесь цифры условны, но они позволяют хотя бы в общих чертах представить себе масштабы такого общества.
В ходе сравнения масштабов этого могильника со всеми выше называвшимися напрашивается еще один вывод: материалы келийского могильника позволяют считать, что уже в ХIII веке происходит некий «демографический взрыв», скорее, консолидация мелких горских обществ в несколько единых, невзирая на разные элементы погребальной обрядности, хоронивших своих сородичей вместе на одном некрополе, видимо, расположенном рядом с местом их обитания, что весьма важно.
В специальной литературе нет сведений о домостроительстве горцев рассматриваемого периода, поскольку все авторы уделяли внимание лишь значительно поздним «жилым башням» (ХVI-ХIХ вв.). Отметим лишь статью М.Б. Мужухоева и Р.Б. Бекбузарова о т.н. «циклопических постройках» Ингушетии. Указывая на их наличие у сел. Карт, Бишт и Дошхакле в небольшом количестве, эти авторы пишут о многокамерных строениях, сложенных всухую из мощных каменных блоков, датируют их эпохой бронзы и связывают с мифологическими нартами. Между тем, такие же постройки, причем в большем количестве, находятся и у подножия Келийского могильника. Две их них были прошурфованы в 1987 году и дали керамический материал золотоордынского времени, т.е. оказались синхронными могильнику. Это многокамерные строения с изолированными помещениями, по всей вероятности, жилые, т.к. внутри некоторых из них прослеживаются каменные «лежанки» вдоль стен (точно такие лежанки есть и в полуподземных склепа). Судя по количеству «камер» - до 7-8 в каждой такой «циклопической» постройке, строение рассчитывалось на проживание в них нескольких и, вероятно, близко родственных семей. Интересно, что подобную картину демонстрируют отдельные группы захоронений Келийского могильника, и мы уже указывали на группу каменных ящиков с коллективным характером захоронений в них. Здесь следует сослаться и на следующие наблюдения: на территории Келийского могильника были выявлены «семейные участки», которые содержали группы индивидуальных каменных ящиков. В этих случаях на компактной территории находилось несколько ящиков с захоронениями мужчины, рядом – погребение женщины и между ними – захоронения детей-погодков. Известны случаи, когда на «семейных» участках фиксировались от 4 до 17 погребенных. Данные наблюдения интересны тем, что рядом с каменными ящиками на Келийском могильнике находились 12 полуподземных склепов, синхронных (в т.ч. и по нумизматическим материалам) каменным ящикам. Все склепы на момент их изучения были разграблены, и установить количество изначально погребенных в них было сложно. В 1987 году в раскопках некрополя принимал участие тогда студент медицинского института, ныне кандидат исторических наук, В.А. Фоменко, в обязанности которого входила статистическая обработка костных останков из склепов. Фактически впервые за всю историю изучения склепов учитывалась каждая косточка, что позволило определить максимально точное количество погребавшихся в них. Было установлено, что минимальное количество погребенных в Келийских склепах было 35-38 человек, максимальное – 68 человек. Судя по возрастным особенностям погребенных, можно предполагать, что склепы использовались как родовые усыпальницы, в которых погребались родственники из разных семей одного рода. На такую постановку вопроса указывает наличие костей многих «взрослых» мужчин и женщин. Возможно, в склепах изначально было больше погребенных, на что указывает, к примеру, наличие на Келийском могильнике грунтовых захоронений.
Грунтовые захоронения Келийского могильника представляли собой останки коллективных захоронений, располагавшихся на перекрытиях каменных ящиков, лежавшие не в анатомическом порядке, хаотично. В большинстве случаев это были останки от одного- шести неполных скелетов, в основном – крупные трубчатые кости, остатки черепов, челюсти, тазовые кости вперемешку с погребальным инвентарем. В полевых условиях появилась версия, предложенная Х.М. Мамаевым, о том, что данные останки первоначально находились в каменных ящиках более раннего времени, а при совершении захоронений ХIII-ХIV вв., натыкаясь на ранние захоронения, горцы вынуждены были изымать их и размещать на более поздних каменных ящиках. Но это предположение не подтверждается наличным материалом: в грунтовых захоронениях находился инвентарь, синхронный инвентарю не только из каменных ящиков, но и из склепов. Более того, при подготовке уже полного научного отчета в ОПИ ИА было установлено, что целый ряд фрагментированных предметов из грунтовых захоронений идеально стыкуется с другими фрагментами из склепов. А это позволяет считать, что данный процесс был связан с несколькими глобальными явлениями ХIII- ХIV веках в горной Ингушетии. С одной стороны, «старая» система родо-племенных отношений оказалась на стадии угасания, из родов начинают выделяться различные сильные «семьи», становясь ядром новых отношений. Именно эти семьи и хоронили своих сородичей на Келийском могильнике. Родовые склепы, продолжая сосуществовать с каменными ящиками, начинают терять прежний общественный вес. По всей видимости, по мере заполнения склепов, часть более ранних останков выносилась и перезахоранивалась над каменными ящиками. Такова первая версия, которая, к тому же, может быть построена и по-другому: на этот раз можно предполагать процесс обратного порядка, когда отдельные семьи, наоборот, усиливаясь, начинают отказываться от обряда захоронений в каменных ящиках, переходя к традиции захоронений в коллективных родовых усыпальницах. По-крайней мере, на такую постановку вопроса указывает статистика: на Келийском могильнике, рядом с могильником из каменных ящиков, находится всего 12 склепов. В ближайшей округе точно таких же склепов зафиксировано по 2-4, на Биштском перевале-16 (их гораздо больше, чем каменных ящиков). Более уверенно о данном процессе можно вести речь, основываясь на материалах Шуанского некрополя. Здесь, при наличии небольшого количества каменных ящиков, на площади могильника зафиксировано, по одним подсчетам, около 500 полуподземных склепов, по другим данным, около 250-ти. Первая цифра более близка к реальности, поскольку в 1988 году при проведении охранно-спасательных археологических исследований здесь, в пространстве между учтенными склепами, были выявлены и новые, полностью скрытые в земле. Таких участков на некрополе оставалось немало. Интересно, что помимо туманных описаний В.И. Долбежева, в чьих раскопках оказалось несколько совершенно непотревоженных захоронений, ситуация повторилась. В 1988 году было вскрыто и изучено несколько шуанских склепов, внутри которых находились непотревоженные захоронения. Интересно отметить, что в этих склепах было погребено от 2 до 6 человек, что вновь дает повод вести речь о постепенном переходе от традиции погребений в каменных ящиках к захоронениям в склепах, иными словами, о возвышении отдельных родов, все равно погребавших своих сородичей хотя и в разных, но рядом расположенных склепах.
Особенности системы религиозных воззрений населения горной Ингушетии XIII-ХIV вв
Еще в первой главе, рассматривая историографию, мы подчеркнули особо, что появившиеся уже в ХVIII столетии первые историко-этнографические сведения о горной Ингушетии того времени обращали внимание не столько на ее обитателей, сколько на обилие христианских храмов, находившихся там. О возможной христианской принадлежности погребенных на ряде могильников писали и первые исследователи Ингушетии, раскапывавшие погребальные комплексы с этой территории. Особо пристальное внимание на факт существования здесь средоточия христианских храмов было обращено в период создания и действия т.н. «Осетинской православной миссии», целью которой было «возвращение» горцев региона в «лоно христианской церкви». Археологические исследования и разведки 1960-1970-х годов привели не только к выявлению новых христианских храмов, но и целого ряда разнотипных «языческих» святилищ, в результате чего возникла полемика относительно характера конфессиональной принадлежности средневековых ингушей. М.Б. Мужухоев, разработавший свою собственную датировку культовых сооружений Ингушетии, базировавшуюся, в основном, на находках в таких сооружениях наконечниках стрел, датировал подобные памятники пределами Х-ХIV вв. Датировка, впрочем, как и атрибуция культовых памятников: «святилищ» и «христианских храмов» вызвала резкую критику со стороны В.Б. Виноградова и Н.Н. Бараниченко. Главными их аргументами было то, что у части «святилищ» наличествует такая ярко выраженная архитектурная деталь, как апсида, что не позволяет эти строения рассматривать как святилища. А в ряде «храмов», считают оппоненты М.Б. Мужухоева, им был зафиксирован мощный «культурный слой», чего в храмах, в принципе, быть не должно, т.к. они функционировали ежедневно и должны были убираться. Параллельно разгорелся и спор о характере погребений рассматриваемого времени. Опираясь на материалы паметского могильника, а также более поздних захоронений, В.Б. Виноградов И Н.Н. Бараниченко высказали предположение о принадлежности этой обрядности к христианству. М.Б. Мужухоев настаивает на том, что те же самые погребальные комплексы – «языческие» либо же «языческо-христианские». Возражая такой постановке вопроса, была предложена новая гипотеза – процесс христианизации горцев рассматривать как процесс «этнизации христианства», суть которого сводилась к длительной адаптации местным горским населением канонов христианства к старым, языческим верованиям, сопровождавшимся переплетением традиций и норм. Одним из итогов такой «этнизации» и стало переименование языческого святилища Тушоли в святилище Мариам (в честь девы Марии). На этом дискуссия завершилась, но сегодня ее вновь поднимает У.Б. Гадиев, в большей мере принимая версию о «языческо-христианской» обрядности таких захоронений. Между тем, проблема «этнизации христианства» продолжает оставаться актуальной и требующей дополнительного изучения. На нынешнем уровне ее понимания необходимо признавать, что этот процесс или явление имело глобальный общекавказский характер. Для сравнения можно обратиться к нескольким закавказским (Грузия и Южная Осетия) материалам, в свое время опубликованным специалистами. Речь идет о могильнике Накалакари, оставленном населением средневекового г. Жинвали, а также погребальных памятников Восточной Картли. (ущелье р. Арагва) и Южной Осетии. Подавляющее количество погребальных памятников отсюда, как отмечают их исследователи, христианские, хотя внутри абсолютного их большинства встречаются предметы погребального инвентаря – от 1 до 10 и более. Эту «аномалию» в погребальном обряде рассматривают как «пережитки» или же «атавизмы» прежних, языческих верований. Следует заметить, что помимо закавказских, а также ингушских средневековых погребальных памятников, близкая картина выявлена и при раскопках христианского некрополя Верхнего Джулата в Придарьялье, располагавшегося там вокруг христианской церкви №11. И здесь мы сталкиваемся с тем, что при заведомо христианской атрибуции основной массы погребенных, находившихся в непосредственной близости от христианского храма, в инвентаре погребений встречаются отдельные керамические изделия, пряслица, бронзовые и костяные пуговицы, украшения. Строго говоря, в таком инвентаре немало предметов, которые «инвентарем» назвать сложно, т.к. часть их – детали одежды, в которой погребались умершие; часть украшений – украшения, находившиеся в мочках ушей и пр. По канонам христианства эти вещи должны были быть сняты с погребаемых. Но, вероятно, повседневность того времени вполне допускала подобные «вольности» и формальности по отношению к погребальным традициям. Вполне возможно, что «достаточным» было захоронение на территории «христианского кладбища», под сенью большого каменного креста, как это было в случае с Келийским могильником, либо же на территории, близко расположенной к христианскому храму, как это было в случае с каменными ящиками Шуанского, Верхне-Джулатского и Тхаба-Ердинского могильников. Это и были различные проявления той самой этнизации христианства, которую, впрочем, отметили и средневековые современники. Здесь необходимо сослаться на свидетельство католика из «Ордена Проповедников» «брата Журдена», побывавшего в «Каспийских горах» близ Дербента. Упоминая точно такие же, чуждые христианству, в том числе и католическому, элементы «язычества», «брат Журден» замечает: «делают это люди, называющие себя христианами. Но какие они христиане, если ничего не смыслят в вере и приносят жертвы на Кресте?». Таким образом, констатируя очевидный факт существования сходной ситуации со спецификой этнизованного христианства в масштабах чуть ли не всего Кавказа, наверное, следует ее причины искать в следующем.
Во-первых, все предыдущие культовые и религиозные системы, являвшиеся традиционными для горцев Восточного Придарьялья (и не только для них), становились результатом длительного «эволюционного» развития. Христианство, как считают различные специалисты, было привнесено сюда, как минимум с Х века, причем, как полагает В.А. Кузнецов, горная зона Восточного Придарьялья входила в сферу конфессионального воздействия Византии и византийской церкви. По мнению других специалистов, эта зона северокавказского региона длительное время была в орбите прямого и непосредственного воздействия христианской Грузии. Одним из главных аргументов такой постановки вопроса является факт существования в самом центре горной Ингушетии христианского храма Тхаба-Ерды с явными чертами грузинского зодчества. Е.И. Крупнов упоминает и о деятельности здесь грузинских христианских священнослужителей (Ефимия), что подтверждает и грузинский «Хронограф» ХIV века, повествуя о миссионерской деятельности здесь Пимена Гареджийского. Ныне считается, что христианское воздействие на горцев со стороны Грузии стало и мощным фактором их вовлечения в антиордынскую коалицию на стороне Хулагуидов. Версия эта ныне имеет как противников, так и сторонников. На этом фоне нам вновь следует напомнить, что в ХIII-ХIV веках в Восточном Придарьялье действительно складывалась непростая конфессиональная обстановка. Аланы, переселившиеся в горы еще задолго до монгольского нашествия, а также и те из них, которые появляются в ХIII веке, были переселенцами из зоны активного влияния Византии и византийской церкви. Они постепенно «растворяются» в местной формирующейся среде предков ингушей, находившихся в сфере воздействующего влияния грузинской церкви. При этом, если судить, к примеру, по аналогичной ситуации в горной Аварии (Дагестан), где также фиксируется такое же воздействие Грузии и где влияние подтверждается этими известными находками «аваро-грузинских билингв» на надгробных крестах, свидетельствующих, как полагают, не только о грузинском воздействии, но и о значительном, местном «переосмыслении» такой политики. Применительно к Ингушетии предполагалось, что грузинская церковь активно привлекала к процессу христианизации местного (ингушского) населения выходцев из местной же среды, что вполне объясняет причины сетований «брата Журдена» на то, что, в конечном итоге, местное население «ничего не смыслило в христианстве», а погребальная обрядность настолько «видоизменялась», что от христианских требований сохранялись лишь формально и внешне выраженные признаки – захоронение в каменном ящике, трупоположение вытянуто на спине, головой на запад. Во всем остальном мы сталкиваемся с переосмысленными и больше характерными для языческих требованиями сопровождения покойников всем необходимым из того, что ему может пригодиться «в другой жизни».