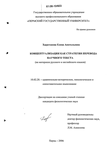Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Концепт «лектон» в пространстве античной философии 22
1.1. Предпосылки возникновения лектон в учениях античных философов 22
1.2. Стоический лектон в свете парадигм бытия и небытия, телесного и бестелесного 42
1.2.1. Лектон как «пустая предметность» 42
1.2.2.Лектон и понятие 50
1.3. Лектон и логос. Феномен «убывания» и «возрождения» логоса 62
1.4. Лектон и эйдос 73
Глава II. Явные и латентные формы лектон в философии Средневековья и Возрождения 82
2.1. Развертывание смысла в условиях средневекового словоцентризма 82
2.1.1. Вопрос о природе слова 88
2.1.3. Идея логосности бытия в византийской философии 94
2.1.4. Учение Августина об imago и spesies 108
2.2. Проблема универсалий 112
2.3. Эквивокация и обнаружение смысла 119
2.4. Субъективация смысла в эпоху Возрождения 124
Глава III. Смысл в интерпретациях Современности 131
3.1. Актуализация лектон 137
3.2 Поиски смысла в XX – XXI веках 139
3.2.1. Интерпретация лектон в постановке Ж. Делеза 144
3.3. Лектон и симулякр 148
3.4. Лектон и имидж 152
Заключение 157
Список литературы
- Стоический лектон в свете парадигм бытия и небытия, телесного и бестелесного
- Лектон и логос. Феномен «убывания» и «возрождения» логоса
- Учение Августина об imago и spesies
- Интерпретация лектон в постановке Ж. Делеза
Стоический лектон в свете парадигм бытия и небытия, телесного и бестелесного
Концепт «лектон» () в структуре античной мысли появляется достаточно поздно, в эллинистическую эпоху у философов стоической школы. Поэтому, перед нами стоит задача не только зафиксировать факт его появления, но и реконструировать картину его бытования в пространстве древней философии, определить, во взаимодействии с какими именно мысленными конструктами происходило его формирование. Прежде чем приступить к философскому расследованию «дела о лектон», необходимо представить тот контекст, который способствовал возникновению этого концепта. В настоящей главе нас будут интересовать достоические философские учения, которые, как можно предположить, имели отношение к появлению категории смысла.
Первый проблеск мысли, выходящей за пределы видимых вещей в сферу идеального, обнаруживается в понятии Анаксимандра (ок. 610 – 546 до н. э.) «апейрон». Диоген Лаэртский сообщает, что в качестве начала Анаксимандр мыслил «бесконечное ( ) не определяя [это бесконечное] как «воздух», «воду» или какой-нибудь другой определенный [элемент]».8Апейрон представляет собой попытку ума выйти за границы фюзиса, это первый шаг мышления на пути к «беспредельному». Вот одно из описаний этого туманного понятия: «Анаксимандр говорит неопределенно о теле, лежащем в основании, называя его апейроном и не определяя его по виду ни как огонь, ни как воду, ни
В отличие от своего учителя Фалеса (ок. 624 – 547 до н. э.), видевшего причину вещей в воде, Анаксимандр пытается «отмыть» идею первоначала от любой ограниченности. Он не связывает апейрон с привычными элементами (огнем, водой, воздухом) и первый пытается помыслить немыслимое, идею. В этом отношении апейрон – фантастическое явление, до его появления человек осуществлял поиск под ногами, и только Анаксимандр догадался оторвать голову от земли.
Осмысляя апейрон, Анаксимандр пытается описать его через отрицание, через «бес-» и «не-»: «[Апейрон] есть божество: ведь он бессмертен и непреходящ…».10 Это «бес-» и «не-» формирует иное предметное пространство, вернее бес-предметное, чисто смысловое пространство идеальных образований. Здесь, возможно, происходит первый прокол в субъектно-объектных отношениях, в них появляется «некто третий», это объект в темных очках, анти-объект, нечто, существующее исключительно в мысли. Апейрон – это стадия фиксации новой реальности, здесь происходит только противопоставление нового феномена всему существующему. «Бессмертность» и «беспредельность» выталкивают апейрон из привычного порядка вещей, делая его анти-вещью. Апейрон представляет собой нечто, с чем не сталкивался опыт, это новое неизвестное бытие, бытие абстрактной мысли. Мысль Анаксимандра доходит до «пятого элемента», он осуществляет перенос философского поиска первоначала из внешнего мира в мышление, в результате происходит переориентация с действительного на мыслимое. круговращающийся огонь [есть бог], судьба же – логос (разум), созидающий сущее из противоположных стремлений».11 Но Огонь Гераклита теряет свою «плотность», по мнению Дж. Томсона, он является символическим выражением Логоса.12 Возможно, огонь не столько символизирует, сколько структурирует мысль. Это скорее полумифологическая метафора, с помощью которой незрелый человеческий разум пытается осмыслить Логос, то «беспредельное», «вечное» с которым однажды столкнулся Анаксимандр. Если Анаксимандр первый уловил нечто лежащее за пределами вещей в мысли, то Гераклит был первым, кто начал редактировать этот бесформенный ментальный сгусток. Как бы ни был завуалирован Логос, его границы проступают более отчетливо, чем у апейрона Анаксимандра, о котором было сложно что-либо сказать, кроме того, что он беспределен и является началом всего. Гераклитовская мысль пытается оформить это «бессмертное и непреходящее» в более плотную структуру. В результате к этой зыбкой нейтральной мысли о иносущем добавляется форма (Огонь) и конкретизируется содержание (Разум, Судьба).
Лектон и логос. Феномен «убывания» и «возрождения» логоса
В средневековую эпоху развивается так называемое апофатическое (отрицательное) богословие, которое «исчерпывается одним НЕ или СВЕРХ, которое оно приставляет безразлично ко всем возможным определениям Божества».226 Считается, что человеку не дано знать, что есть Бог, он может знать только, что Он не есть. Богу, в отличие от вещей «свойственно быть, а не называться».227 То есть имя не может схватить чистое неограниченное бытие, Божество как сверхсущность, оказывается вне имени или над ним. Человек не может иметь знание о Боге, но только представление, которое возникает в результате контакта мысли с сотворенным миром. Слова и имена, которые даются Богу, суть именование не Его сущности, а Егодеятельности, Его творчества, человек погружен в переливающийся калейдоскоп творений, и может смотреть на Бога только сквозь множество стекол. Поэтому, различные формы именования Бога (Ум, Свет, Солнце и пр.) не предполагают отождествление Его сущности с данными именами, имя выражает всего лишь понимание отдельного фрагмента божественного явления, оно основывается на творении. В этом подразумевании и кроется момент смысла, имя оказывается маской, за которой скрывается понимание. Следует отметить, что между маской (лицом) и звучащим словом существовала реальная связь, на это указывает Боэций: «…Слово лицо (persona)…произведено от тех личин [или масок], которые служили в комедиях и трагедиях для представления отдельных друг от друга людей. [Слово] persona образовано от [глагола] personare (громко звучать) с облеченным ударением на предпоследнем слоге. А если [произносить его] с острым ударением на третьем слоге от конца, сразу станет видна его связь со словом sonus (звук). И это не удивительно: ведь полая маска непременно должна усиливать звук».228 Как маска скрывает лицо, так слово скрывает смысл. Обратив внимание на несоответствие ни одного имени Бога его сущности, средневековые теологи выходят на смысл. Только таким образом можно было выпутаться из наброшенной на Бога словесной сетки, в противном случае, при буквальном прочтении имен, христианский Бог превратился бы в языческого идола.
Вопрос о божественных именах тесно связан с вопросом о природе самого слова. Является ли слово изобретением человека, или же отблеском божественного Логоса? Эту задачу пытались разрешить каппадокийцы (Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий Великий). В споре с арианским епископом Евномием Кизикским по поводу познаваемости \ непознаваемости Бога через имена, каппадокийцы придерживаются позиции номинализма. Осмысливая отношение «имя – вещь», известное еще с античности, они не соглашаются с Евномием, для которого «имя есть одно и тоже съ (именуемымъ) предметомъ…».229 Это положение Евномия бросало вызов основным христианским постулатам. Так, признав тождество имени и вещи, пришлось бы признать, что имя Бога отражает Его сущность и, следовательно, Бог познаваем. Каппадокийцы не могли допустить такой порчи христианского вероучения и пытаются разоблачить ересь. Василий Великий (329/330 – 378) настаивает на недостижимости Бога: «Нет ни одного имени, которое бы, объяв всю Божию природу, достаточно было вполне Его выразить».230 По мнению Василия Великого, «названия () означают не сущности, а характеризующие () каждого свойства».231
Григорий Нисский подобно стоикам связывает слово не с предметом, а с мыслью. Поэтому в отношении слова он использует термин «примышление». Имена «примысливаются» нами для отражения собственных понятий, но не вещей, именем «выражается мысль ума».232 Имя, таким образом, постулируется как нечто добавочное к мысли (ПРИ-мышление), но не к предмету. Григорий Нисский отрицает божественную природу слова, для него «изобретение речений» результат деятельности человеческого разума.233 Слово используется для обозначения «мыслей ума» (понятий): «…Мы, при помощи некоторыхъ слов и слогов, образовали различение понятий сочетаниями слов как бы начертывая некоторые знаки и приметы на различных движениях мысли, так чтобы при помощи звуков, приспособленных к (известным) понятиям, ясно и раздельно выразить происходящие в душе движения…». 234 Согласно приведенному выше отрывку, слово обслуживает ментальный мир, но не мир вещей (сущностей), оно выражает нашу мысль о предмете, а не предмет. Мир, по сути дела, закрыт для человека, так как он всегда имеет дело не с сущностями, а понятиями о них. Человек замкнут в пределах собственной мысли и только божественное откровение (а не самовольное познание) может открыть доступ к сущностям. Разуму отказано в «сущностном» знании. Поэтому, все наше знание – это незнание. Отсюда недоверие христианских мыслителей к уму, который вместо плода истинного познания дает незрелый плод смутного представления. Поэтому истина в христианстве, дается не через познание вещей, а через веру в Бога, его откровение.
Григорий Нисский, как и Василий Великий, настаивает на вторичности слов в отношении предметов: «…Наименования, означающие происходящее, по происхождению позже самих предметов, и слова суть как бы тени предметов…».235 Здесь вспоминается платоновская пещера: человек продолжает сидеть спиной к свету и играть с бесчисленными тенями. Этот теневой мир (мир человеческого разума) противостоит миру подлинных сущностей.
Выше уже говорилось о близости размышлений Григория Нисского стоикам, которые акцентировали внимание на отношении «слово – понятие», а не «слово – предмет». В отличие от Григория Нисского, в размышлениях Евномия можно обнаружить моменты, сходные с платоновским пониманием слова. Платон искал более устойчивую опору и пытался «связать теорию слов с теорией идей».
Учение Августина об imago и spesies
Субъективация смысла в эпоху Возрождения Эпоха Возрождения ознаменовалась, по словам В. Дильтея, «глубоким преобразованием в отношении человека к жизни». 344 Оттенки этой «жизненной настроенности» привели в XV и XVI вв. к новому типу литературных текстов, в которых «описываются и подвергаются рефлексии внутренняя жизнь человека, характеры, страсти, темпераменты».345 К этому добавляется явление нарастания степени выраженности индивидуальности, причем на индивидуальное восприятие новых народов влияли «их естественный рост, развитие их культуры, прогресс в их социальных отношениях».346 Все это сопровождается кардинальной переориентацией общественного сознания: предпочтение отдается возникшей еще в античности парадигме реальности, которой присущ характер безусловной изменчивости (позиция Гераклита и стоиков), отражающейся в понятии. В отличие, например, от парадигмы Сократа, Платона, Аристотеля и неоплатоников, отправлявшихся от данного в понятиях отношения мышления к сущему, и от идеи константного в содержательном отношении бытия.
В эпоху Возрождения меняется само понимание античности: «оно цельно и связно, но, если можно так выразиться, отвлеченно» в отличие от Средневековья, ибо «средневековое понимание античности было столь конкретным и в то же время столь неполным и искаженным».347Это понимание античности переносится и на понимание действительности, мира и человека. Вообще это был «самодеятельно чувствующий себя человеческий субъект».348 Этот апофеоз субъективности превращает человека в существо, остро чувствующее многогранность и безграничность мира с одной стороны, и одиночество – с другой. Отсюда мироощущение, родственное античным стоикам. Уже средневековая философия (в лице того же Фомы Аквинского) двигалась в направлении наращивания индивидуальных характеристик.
Из сочинений авторов Возрождения заслуживает внимания комментарий к трактату Плотина «О красоте» (I 6) крупного представителя Платоновской академии во Флоренции Марсилио Фичино. Терминология, которую использует Марсилио Фичино, вовсе даже не платоновская, хотя он и апеллирует к «идее». М. Фичино рассуждает о красоте в связи с понятиями тела, телесности и формы употребляет при этом понятие «зародышевого смысла» (лат. seminalemrationem = logosspermaticos). М. Фичино пытается описать восприятие красоты, но по существу говорит о понимании того смысла, который рождается при восприятии прекрасного тела и воспроизводится воспринимающим его человеком: «Но, вынося суждение о красоте, мы считаем наиболее красивым то, что одушевлено и разумно и притом так оформлено, чтобы и духовно удовлетворять формуле красоты, которую мы имеем в уме, и телесно отвечать зародышевому смыслу красоты, которым мы обладаем в природе, то есть во вторичной, более чувственной душе. Форма же в красивом теле подобна своей идее, в таком смысле, в каком планировка (фигура) здания подобна первообразу в уме архитектора». Далее он добавляет, что «форма-то и есть та самая идея, согласно которой оформлен человек».349 Говоря, что форма подобна божественной идее (idea), врожденную формулу (formulam) которой имеет в уме душа, М. Фичино, конечно же, следует за Платоном и неоплатониками, но, упоминая о вторичной душе и зародышевом смысле красоты, он, скорее, рассуждает о смысле как таковом. Поэтому А. Ф. Лосев прав, говоря о том, что у М. Фичино мы видим выход за пределы неоплатонизма, поскольку высшим благом у него оказывается сам ум и идеи, а не запредельное уму благо как у неоплатоников. Вместе с тем выход за пределы здесь касается не разума как такового, а смысла, который согласно М. Фичино имеет не столько врожденное, сколько природное свойство. Кроме того, характерно, что идеи, сохраняя, как и в Средневековье, оттенок трансцендентности, все же больше отнесены к природе, а не присущи личному богу. В самом деле, полагая наличие идеи в самой природе в виде зародышевых форм, смыслов М. Фичино допускает возможность напряжения в человеке духовных сил, рождающих смысл как результат человеческого самосознания. Фрагмент также представляет интерес, поскольку концепт смысла рассматривается в проекции эстетического сознания, что вполне отвечает общему настрою и умственной тональности эпохи.
Другое достижение мысли в XVI-XVII вв., основу которой заложил Ф. Меланхтон, связано с возникновением особого рода рефлексии, связанной с расцветом риторики и формированием герменевтики как науки истолкования текста. Ф. Меланхтон дополнил риторику еще одним видом способности – «arsbenelegendi» (искусством хорошо читать), что вносило элемент понимания. В этой области тоже происходила интенсивная разработка правил и новых понятий, выражающих этот феномен понимания. Й. К. Даннхауэр (1603 – 1666)
в 1654 г., введя термин «герменевтика» выделил ее видовые различия, определяемые типами текстов (сакральная и профанная герменевтика) и сформулировал первые правила этой науки. Смысл нововведений в герменевтику, итог которым в известном смысле подвел Й. М. Хладениус (1710 – 1752), в плане постижения истинного, предметного значения самого текста, разъяснил Х.-Г. Гадамер.350 В том же направлении развивалась и мысль Я. А. Коменского, у которого наметился поворот от риторики к герменевтике и то же требование строгой регламентации правил. Прежде всего, это акцент Коменского на требование полного овладения предметом за счет усвоения понятий, а также выявление такого феномена, как «предмет познания сам по себе», что им обозначалось термином «idea» и понималось как «первообраз предмета» («imagoarchethypi»). У Хладениуса появится понимание предмета как объективной и внетекстовой реальности. Обе указанные тенденции создавали условие или имели прямое отношение к концептуализации смысла, произошедшей позже, в XIX – XX вв.
Интерпретация лектон в постановке Ж. Делеза
Здесь imago оказывается в рамках первобытного ритуала: «Одним из важнейших его (т. е. ритуала) элементов было нарисованное или вылепленное животное, которого символически «убивали» первобытные охотники... Ритуал выполнял много функций и, в том числе, становился ситуацией, в которой создавалась новая, иллюзорная, «вторая» реальность «в виде репродукции того же самого, что она интерпретирует»... Так, в процессе ритуального действия создавался магический образ (рисунок, как материальный предмет), который был копией, «второй реальностью» по отношению к «первой реальности» – живому зверю».425 Это вторая образная реальность является «субъективным пространством представлений», изображением оригинальной реальности или «безобразной первореальности».426 Мир, лежащий за пределами человеческого сознания, постигается через образ. Образ является необходимой фигурой в партии между сознанием и бытием, между субъектом и объектом, присутствие вещи в нашем сознании задается не без его помощи. В античности своеобразную теорию формирования образов предлагали атомисты. Так согласно Эпикуру с поверхности предметов постоянно истекают некие тонкие образы (эйдолы): «Существуют очертания [отпечатки, оттиски] (typoi), подобные по виду [по внешности] плотным [твердым] телам, но по тонкости далеко отстоящие от предметов, доступных чувственному восприятию [далеко оставляющие за собою, превосходящие предметы...]. Ибо нет невозможного, что такие истечения [эманации, отделения] (apostaseis) могут возникать в воздухе, и что могут возникать условия, благоприятные для образования углублений и тонкостей, и что могут возникать истечения, сохраняющие соответствующее положение и порядок (ten hexes thesin cai basin), которые они имели и в плотных [твердых] телах. Эти очертания [отпечатки, оттиски] мы называем «образами» (eidla)» (X 46).427 Похожие рассуждения можно обнаружить у Лукреция, для обозначения этих образов римский поэт использует термины imago и simulacra. Разница между imago и simulacrа не очень ясна, согласно А. Ф. Лосеву imago это «тонкий образ» от тела, а simulacra «тонкие изображения вещей».428Можно предположить, что imago изначально образ (), основанный на существующем (изображение зверя, маска умершего429), он возникает как результат непосредственного контакта человека и вещи и сохраняет рельеф реальности, в то время как simulacra, скорее всего, является образом-призраком и сближается со стоическим («призрак», «сон»).
Можно вычленить два смысловых фрагмента, важных для понимания imago: образ-копия, магия (создание «второй реальности»). Постараемся теперь развернуть интерпретацию imago как образа. Во-первых, это искусственный образ созданный человеком в целях замещения (подмены) оригинала. В этом смысле imago есть копия, причем копия непростая, а мнящая себя оригиналом (так, ритуальное убийство изображения зверя было равноценно его реальному убийству). В imago наблюдается претензия на оригинальность, подлинность, происходит наслаивание магической «второй реальности» на «первую реальность», в результате чего копия фантастическим образом превращается в оригинал: «Магический образ копировал «первую реальность», символизировал ее и воспринимался человеком, как подлинная, «первая реальность».430 На близость imago копии обращает внимание Р. Барт, он полагает, что imago восходит к глаголу imitari подражать.431 Теперь, можно попытаться сконструировать некое определение imago – это копия, которая в своем подражании оригиналу, стремиться к его замещению. Это подражание перетекающее в тождество. Связь между imago и предметом настолько интимна, что они становятся взаимозаменяемы. Можно заметить некую двойственность imago: с одной стороны, первобытное мышление с помощью imago сохраняет оригинальность мира (образ тождественен объекту, копия подчиняется тем же законам, что и оригинал), но с другой, посягает на нее (копия, в результате становится реальностью).
Современное понятие «имидж», несмотря на многовековой разрыв, сохраняет свою связь с imago. В XXI веке имидж остается все тем же магическим словом, только теперь оно функционирует в ритуалах рекламы, торговли, бизнеса, маркетинга, стилистики и моды. И хотя существует множество дефиниций слова «имидж», изначальное значение искусственно создаваемого образа в них достаточно прослеживается: «Сложившийся в массовом сознании эмоционально окрашенный образ кого- или чего-либо»;432 «…Представление (часто целенаправленно создаваемое) о чьем-нибудь внутреннем и внешнем облике, образе (имидж политика, имидж телевизионного ведущего)» и т. д.433 Правда, в отличие от архаичного imago в современном понятии «имидж» интенция на оригинал сильно ослабевает. Это не копирование оригинала, а создание образа превосходящего оригинал. Современный «имидж» не столько копия, сколько творческая интерпретация, он намеренно «создается» для объекта (например, фирмы, человека). Имидж становится чем-то добавочным к объекту, причем «изменяется также и перспектива построения отношения образ – объект»: теперь не образ должен соответствовать объекту, а объект – образу. «Второй реальности» уже нет необходимости копировать «первую реальность» (ее бытие более не зависит от подражания бытию (как в случае с ритуалом)). Функция подражания переходит от «второй реальности» к «первой», которая изо всех сил пытается «дотянуться» до образа. Возможно, эволюция imago предполагает движение от изобразительного образа-слепка, напряженного бытием оригинала, к образу-интерпретации, когда методом создания образа становится не дублирование, а уподобление.