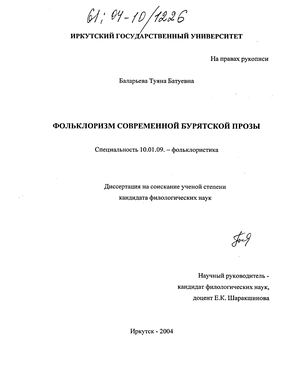Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Проблемы взаимодействия литературы и фольклора 10
1.1. О проблеме фольклоризма в отечественной науке 11
1.2. Проблема «литература и фольклор» в бурятском литературоведении и фольклористике 23
Глава 2. Жанры фольклора в литературной системе 39
2.1. Мифы, легенды и предания в бурятской прозе 41
2.2. Особенности использования пословиц и поговорок в литературных произведениях 54
2.3. Народные песни и их функции 66
2.4. Улигеры в прозаических произведениях 80
2.5. Прославления в повествовательной ткани произведений 86
Глава 3. Фольклор как средство расширения творческого потенциала бурятской прозы 94
3.1. Роль фольклорных образов и мотивов 94
3.2. Мифологические представления и их отражение в бурятской прозе 134
3.3. Фольклорно-этнографический аспект произведений 145
Заключение 167
Список литературы 172
Приложения 189
- О проблеме фольклоризма в отечественной науке
- Проблема «литература и фольклор» в бурятском литературоведении и фольклористике
- Мифы, легенды и предания в бурятской прозе
- Роль фольклорных образов и мотивов
Введение к работе
Попытка осмыслить историческую судьбу народа, ощутить глубинную связь с прошлым вызвала в бурятской литературе заметную активность в освоении фольклора. Наиболее интересным как в плане освоения литературой фольклора, так и в плане исследования литературно-фольклорных взаимодействий являются 70-80-е годы XX века. Этот период характеризуется обращением к фольклору, как средству возможного расширения творческого потенциала литературы, «первоисточнику для нравственно-философских и символических обобщений» (И.Г. Панченко, 1988, с.201).
Изучение «...литературно-фольклорных связей представляет одну из интереснейших задач, как истории литературы, так и фольклористики» (В .Я. Пропп, 1998, с. 164). На современном этапе наметились разные аспекты в исследовании литературно-фольклорных взаимосвязей: фольклоризм литературы (изучение роли фольклора в литературе) и литературность фольклора (определение роли литературы в развитии фольклора). Настоящая работа посвящена исследованию проблемы фольклоризма современной бурятской прозы.
Степень разработанности проблемы. Если первые попытки исследования проблемы взаимосвязи литературы и фольклора сделаны еще в XIX веке (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов и др.), то в XX веке были намечены разные исследовательские направления, которые отразились в многочисленных трудах (Н.П. Андреев, 1936; М.К. Азадовский, 1938; 1958; А.М. Новикова, 1954; 1959; A.M. Астахова, 1956; П.С. Выходцев, 1963; 1979; В.М. Гацак, 1975; 1989; А.А. Горелов,1979; Б.Н. Путилов, 1956; 1979; Л.И. Емельянов, 1966; 1978; В.Е. Гусев, 1963; 1984; Д.Н. Медриш, 1980; 1987; Н.И. Кравцов, 1972; В.Г. Базанов, 1973; 1978; Н.И. Савушкина, 1980; 1991; К.В. Чистов, 1986 и др.). Появляется целый ряд работ обобщающего характера: «Русская литература и фольклор (XI - XVIII вв.), «Русская литература и фольклор. Первая половина XIX века», «Русская литература и фольклор. Вторая половина XIX века». Главной задачей в них «...является выяснение степени и качества взноса народной культуры, рассматриваемой в аспекте «литература и фольклор», «наряду с типовой общностью...» выявляется «личностная автономность» известных писателей «...в сфере конкретных контактов с народной поэзией» (57, 10). Не менее важными в разработке методологии изучения проблемы становятся дискуссии, отразившиеся на страницах газет и журналов («Литературная жизнь», «Вопросы литературы») в 70-80-е годы прошлого столетия.
Определенным этапом стало появление работ, связанных с национальными литературами. Известны труды В. Петрова (1972; 1978; 1982); У. Далгат (1962; 1981); Ш. Джикаева (1972); Ш. Елеукенова (1968); С. Хайбулгаева (1966), А. Вагидова (1972).
Связь между бурятской литературой и фольклором всегда была самой тесной, а более явной и неоспоримой в период становления молодой бурятской литературы, когда фольклорные традиции все еще довлеют над литературой, опора идет не только на темы и сюжеты, но и художественные средства. «Реализм открывал в фольклоре неизведанные творческие возможности, широко использовал их в своем становлении и развитии» (49, 123).
В бурятоведении проблема литературно-фольклорных отношений освещена в трудах В.Ц. Найдакова, А.Б. Соктоева, Ц.-А. Дугар-Нимаева, Н.О. Ша-ракшиновой, А.И. Уланова, Г.О. Туденова, Б.Д. Баяртуева, Е.Е. Балданмаксаро-вой. Работы преследуют цель раскрыть особенности становления и развития бурятской литературы, в частности, прозы (от фольклора к роману), поэзии и основ ее стихосложения, истоков художественной литературы Бурятии дооктябрьского периода, фольклорных истоков литературы в контексте этноса, истоки и проблемы поэтики жанра бурятской поэзии XX века. Исследователями также отмечается роль устно-поэтических традиций, средств и приемов в развитии литературных жанров. Вышеназванные работы, несомненно, внесли большой вклад в исследование проблемы взаимодействия фольклора и литературы, отражая ее сложную междисциплинарную природу. В изучении пробле мы фолыслоризма важным является не только рассмотрение фольклорных истоков литературы, но и «...исследование «последствий» фольклорных проникновений, их дальнейших судеб в литературном контексте» (49, 117). Поэтому актуальным становится комплексное изучение прозаических произведений в аспекте вышеназванной проблемы.
Современная бурятская проза, безусловно, «родившаяся из фольклора» (86, 172) не теряет связей с ним, передавая не только его «художественное совершенство», но и глубокое идейное содержание. Освоение фольклора во всей его многогранности становится симптоматичным для бурятской прозы последних трех десятилетий XX века. Когда возрастает потребность в духовных истоках, и человек приходит к ощущению растущей взаимозависимости и нерасторжимой связи с окружающим миром, к осознанию генетической связи с родом, в целом с народом, лишь народная поэзия с его удивительной способностью насыщать атмосферу общества энергией оказывается способным заполнить ту нишу, которая образовалась в духовной жизни. В такие периоды обращение к фольклору может быть охарактеризовано как «частым и активным». Речь идет не только о прямом фольклорном отражении, но и более осмысленном, а потому глубоком и многоплановом. В трудах С.Ж. Балданова, СИ. Гар-маевой, С.Г. Осоровой, Э.А. Уланова фольклор рассматривается как важнейшее средство развития современной бурятской прозы. При этом, не только прямые, но и более осмысленные формы, а потому глубокие и многоплановые, усваиваются писателями. В этом плане интерес вызывают произведения бурятских прозаиков Ц. Галанова, Д. Эрдынеева, С. Цырендоржиева. Внимание уделялось своеобразию стиля Ц. Галанова, фольклорным деталям (С.Ж. Балданов), фольклорным основам психологического параллелизма у Д. Эрдынеева (С.Г. Осоро-ва), что подтверждает мысль о тесной и неразрывной связи бурятской литературы и фольклора.
Актуальность темы исследования обоснована тем, что фольклоризм бурятской прозы, в частности Ц. Галанова, Д. Эрдынеева, С. Цырендоржиева, как целостная проблема, к сожалению, еще не стал предметом комплексного исследования. Выявление фольклорного материала в его различных формах в произведениях вышеназванных прозаиков определяет как своеобразие фольк-лоризма конкретного автора, так и особенности закономерностей развития фольклорно-литературных отношений. Работа в названном аспекте должна, на наш взгляд, не только способствовать раскрытию идейного замысла произведений, более глубокому их прочтению и осмыслению, но и формированию нового взгляда на них.
Целью данной работы является определение роли фольклора в прозаических произведениях.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
• освещение историографии проблемы взаимодействия фольклора и литературы в отечественном литературоведении и фольклористике.
• выявление фольклорного материала (как в прямой, так и опосредованной форме), вводимого прозаиками в литературный текст;
• определение роли, функциональных особенностей фольклорных единиц;
• выявление стилеобразующего значения фольклора в творчестве прозаиков;
• определение своеобразия творческого освоения конкретным автором фольклорного опыта;
• формирование нового взгляда на произведения бурятских прозаиков
Материалом исследования послужили произведения бурятских писателей: Д. Эрдынеева - «ХУЛЭГ инсагаална» («Аргамак ищет хозяина»), «Ехэ уг» («Большая родословная»), «Уйлын ури» («Судьба»), повести «Энэ наЬан» («В этой жизни») «Хуушан гэрэй газаа» («В тени старого дома»), «Газарай эзэд»
«Хозяева земли»), «Эсэгын дуран» («Отцовская любовь») и др.; Ц. Галанова -«Хун шубуун» («Мать-лебедица»), «Саран-ХУхы» («Северомуйская легенда»), «Тайгын эзэн» («Хозяин тайги»), «МУНХЭ хабар» («Вечная весна») и др., С. Цырендоржиева - «Убгэдтэ - мэндэ» («Поклон старикам»), «Ондоо бодол бай-хагуй» («Устремленность»), «Уурэй солбоной гое гээшэнь» («Где ты, моя утренняя звезда») и др.
Выбор произведений вышеупомянутых авторов мотивирован, прежде всего, стремлением отразить творческие поиски и искания писателей одного поколения и признанием общности их мировоззренческой концепции, а также своеобразием освоения потенциала народной поэзии, концептуальным подходом к осмыслению ее многозначности.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в комплексном описании закономерностей фольклоризма современной бурятской прозы, в осмыслении фольклоризма творчества конкретных авторов. Представленная работа также развивает и дополняет методологические основы проблемы взаимодействия литературы и фольклора.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что его выводы способствуют пониманию природы проблемы «литература и фольклор», уточняют закономерности развития историографии проблемы, помогают осмыслить своеобразие фольклоризма бурятской литературы.
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и результаты исследования могут быть использованы при изучении как истории литературы (творчество Ц. Галанова, Д. Эрдынеева, С. Цырендоржиева), так и ее теории (роль фольклора в литературе), также при составлении учебно-методических пособий по фольклору и литературе для вузов и общеобразовательных школ. Отдельные положения, высказанные в диссертации, могут найти применение при разработке спецкурсов по фольклору, бурятской литературе на гуманитарных факультетах вузов.
Ведущими методами настоящего исследования являются сравнительно - типологический, сопоставительный и герменевтический. Такая методика позволяет наиболее полно отразить взаимосвязь фольклорных и литературных произведений, сходство и различие традиций, а также объективно оценить потенциальные возможности фольклорных элементов, вводимых в литературную систему. При этом выявляется индивидуально-авторская интерпретация фольклорного материала.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на всероссийских студенческих научно-практических конференциях с международным участием «Взаимоотношения общества и природы: история, современность и проблемы безопасности» (Иркутск, 1999, 2003); на международной научно-практической конференции «Россия и Монголия в мпогополярном мире: итоги и перспективы сотрудничества на рубеже тысячелетий» (Иркутск, ИГУ, 2000); на региональной научно-практической конференции «Проблемы современной бурятской литературы» (Улан-Удэ, 2002); на международной научно-практической конференции «Время в социальном, культурном и языковом измерении», посвященной 85-летию ИГУ (Иркутск, 2003). По теме диссертации опубликованы восемь работ, две - в производстве.
По исследуемой автором проблеме читается спецкурс «Литература и фольклор», осуществляется руководство курсовыми и дипломными работами.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.
Структура диссертации обоснована своеобразием фольклорного материала, определяемого с точки зрения семантической наполненности (как прямых, так и опосредованных отражений фольклора). Так, во второй главе фольклор рассмотрен в его жанровом многообразии. Выявление жанров, определение их функциональных особенностей, способов введения и творческой трансформации достаточно продуктивно. Переход от анализа прямых отражений фольклорного материала к опосредованным формам дает возможность творческого подхода к произведениям. Архетипические образы и мотивы, мифологические представления становятся средствами расширения и углубления содержания любого литературного текста.
О проблеме фольклоризма в отечественной науке
Освещение этой проблемы связано с некоторыми затруднениями методологического характера. Речь идет о самом понятии (термине) «фольклоризм». Прежде всего, проблема связана с некоторыми неточностями в их употреблении и противоречиями в определении, ввиду чего достаточно часто возникают трудности. Это признается многими исследователями (Г.Г. Гамзатов, В.Е. Гусев и др.): «ни в фольклористике, ни в литературоведении не существует единого и общепринятого толкования самого понятия «фольклоризм» (49, 114). Как продолжение мысли звучат слова В.Е. Гусева, который, рассматривая фольклоризм как фактор становления национальных культур, отмечает, что данное понятие нуждается в объяснении (63, 127). Во многих работах понятия «фольклоризм» и «фольклорный элемент» не отграничиваются. Все эти факторы и обусловили попытку освещения данного вопроса.
М.К. Азадовский в своем монументальном труде «История русской фольклористики» использует термин «фольклоризм». «Крупной заслугой Аза-довского является то, что он впервые так широко и обоснованно заговорил о фольклористике и фольклоризме в творчестве Радищева и Пушкина, в трудах Белинского, причем термин «фольклоризм», включающий в себя более глубокое понятие, чем обычный интерес писателя к фольклору, введен в науку Аза-довским». Н. Яновский подчеркивает, что «ныне это понятие вкупе с методологией Азадовского при изучении «фольклоризма» позволяет отметить еще одну и весьма существенную грань, как в творчестве отдельного писателя, так и в произведениях всей литературы того или иного периода, того или иного направления» (216, 19). Обращаясь к литературе XVIII века, М.К. Азадовский пишет: «Фольклоризм XVIII века ни в коем случае нельзя считать единым и цельным. Он прошел в своем развитии через ряд этапов и протекал по различным социальным руслам. Литературный фольклоризм является как бы частью общего фольклоризма эпохи (2, 47-48). «Фольклоризм Сумарокова и сумаро ковцев - только литературная форма...» (2, 51). По определению М.К. Азадов-ского, фольклоризм достаточно емкое и широкое понятие, применимое как к творчеству писателя, так и к целой эпохе. Л.И. Емельянов определяет термин «фольклоризм» как «сложнейший и многообразнейший процесс ассимиляции литературой фольклорного эстетического и философского и т.п. опыта» (75, 172). У.Б. Далгат отмечает, что «фольклоризм» - это «сознательное обращение писателей к фольклорной эстетике...» (65, 15). Г.А. Левинтон, говоря о литературном фольклоризме, подчеркивает его ориентацию на «...традицию фолькло-ризма же и фольклористики, а не собственно фольклора». При этом им признается «и другой тип соотношений литературного текста с фольклором, определяемый не сознательным намерением автора, а самим текстом, языком и т.п. (такие определения, как «память жанра», «память языка», «архетип», достаточно ясно показывают, о чем идет речь) (97, 172). В.Е. Гусев также придерживается такого мнения: «не тот фольклоризм, который лежит как бы на поверхности или самоочевиден, не фольклорные стилизации, а фольклоризм, который выражается не только и не столько в тексте, сколько в подтексте, в видении мира, природы, человека» (61, 10). К.В. Чистов выделяет отличительную черту «фольклоризма» - «определенную степень осознанности (эмоциональной, этнической, социальной, эстетической), нарочитости, стилизованности» При этом исследователь замечает, что причиной возникновения фольклоризма служит оценка фольклора (так называемой «архаической бытовой традиции» «...с какой-то хронологической, культурной или социальной дистанции» (200, 53). Итак, «сознательность» обращения к фольклору», к его эстетике, «осознанность» становятся доминантными признаками данного термина. Так, Г.Г. Гамзатов считает, что «индивидуальное творчество - процесс осознанный, так или иначе - целенаправленный, и вряд ли применительно к нему правомерно говорить о неосознанном характере» (49, 115). Признаются и «неосознанные» обращения писателей к глубинным пластам фольклора, его скрытому подтексту («архетипы», «память жанра», «память языка», «мифо-фольклорное сознание»), что обусловлено, как мы считаем, духовным родством писателей с народной поэзией. Н.И. Савушкина считает, что фольклоризм — это «специфическое свойство национальной литературы, значимая идейно-эстетическая категория, без учета которой сложно, а иногда и невозможно оценить во всей полноте замысел конкретного произведения и его реализацию, вклад писателя в литературу и шире - уточнить особенности литературного развития...» (159, 94).
Обобщая определения, данные учеными, можно прийти к выводу, что в среде литературоведов и фольклористов до сих пор не установилось единого мнения. Как заметил В.П. Аникин, «для изучения любого литературного творчества, стоящего в связи с фольклором, важно раздвигать границы, в которых изучают непосредственно заимствования из фольклора». И только тогда появляется «возможность понять природу того, что в науке именуется фольклоризмом» (6, 23).
Проблема «литература и фольклор» в бурятском литературоведении и фольклористике
Проблема взаимодействия бурятской литературы и фольклора, вызывая интерес исследователей, как литературоведов, так и фольклористов, к сожалению, все еще остается открытой, требующей исследований. Не является ли такое категорическое и безапелляционное утверждение беспочвенным, непродуманным шагом в попытке решить вышеназванную проблему? В этом плане правомерной становится постановка вопроса: наблюдается ли какая-либо связь между рассматриваемой литературой и фольклором, если наблюдается, то какая связь, в чем выражается она, какой характер принимает в те или иные литературно-исторические периоды?
Рассмотрение проблемы взаимодействия и взаимовлияния бурятской литературы и фольклора необходимо, на наш взгляд, начать с той точки соприкосновения двух систем, когда только наблюдалась закладка основы литературы. А.Б. Соктоев справедливо отмечает: «одним из каналов, через которые про 24 никали в исторические летописи элементы художественности, были фольклорные произведения, переносившие в них почти полностью свою поэтическую форму» (168, 151). Так, В. Юмсунов («Хориин арбан нэгэн эсэгын уг изагуурай туужа» /История происхождения одиннадцати хоринских родов/), Т. Тобоев («Хориин болон агын буряадуудай урда сагай ТУУХЭ» /Прошлая история хоринских и агинских бурят/) используют различные народные легенды и предания (Легенда о Бальжин-хатан, легенда о происхождении 11 хоринских родов).
Б.Д. Баяртуев рассматривает «исторические и фольклорные предпосылки и эстетико-культурологические закономерности зарождения ранних памятников предыстории художественной литературы бурят-монголов - от фольклорных истоков художественного слова до его развития в период феодальных взаимоотношений» (31, 8). Автор признает актуальность проблемы фольклорного генезиса литературных жанров, и считает, что литературно-фольклорные взаимоотношения и взаимовлияния привлекали и привлекают внимание и фольклористов и литературоведов. По его мнению, «в период зарождения литературы монголов, т.е. в средние века, поэтика литературы зависит от устойчивых канонов фольклора. Отсюда и набор тем, сюжетов, становление и развитие жанров, типов героев, поэтические константы, которые взаимовлияют друг на друга, действует принцип подражания и доминирует эстетика тождества» (31, 3). «Практически все произведения XIII-XVI вв. пронизаны фольклорным сознанием...» (31, 21). В качестве образцов фольклора и литературы автор привлекает как бурятский, так и монгольский материал и эти образцы считает ранними формами художественного слова всех монголов, в том числе и для бурят-монголов. «На первом этапе своего развития общемонгольская литература базируется на фольклоре...» (31, 21). В ходе исследования автор приходит к выводу, что «литература бурят-монголов всегда питалась фольклором, прошла общемонгольский этап развития, сумела сохранить достижения предыдущих веков, стала фундаментом зарождения оригинальной бурят-монгольской литературы, вобравшей в себя плоды и достижения многих поколений народных pan 25 содов и писателей, мировоззрение шаманской и буддийской философии, служителей культуры, искусства разных эпох в пределах большого времени и в разных срезах истории этноса» (31, 35). Как продолжение общемонгольской литературной традиции, считает автор, оригинальная бурят-монгольская литература начинается с письменной обработки фольклорных легенд, в данном случае «Легенды-повести о Бальжан хатун». Речь идет о «древнебурятском» периоде развития литературы, об исторических летописях. Как отмечает А.Б. Соктоев, в летописях «впервые осуществляются некие попытки эстетического отношения к описываемой действительности, т.е. выражено стремление как-то выйти за пределы определенного типа повествования — не художественного еще по самой своей видовой сущности...» (168, 125). Поэтому, именно летописи должны вызывать у исследователей большой интерес. В осмыслении историографии проблемы «литература и фольклор», несомненно, важна работа Д.В. Дашибаловой «Фольклор и литературная традиция в монгольской словесности XIX века», в которой подчеркивается тесная связь фольклора и литературы (68). Таким образом, наличие тесной связи между бурятской литературой и фольклором факт бесспорный. «Большое значение в развитии бурятской литературы имела также традиция освоения и творческой переработки идейно-художественных богатств бурятского фольклора. В течение всего своего существования бурятская литература черпала из устного народного творчества идеи, образы, сюжеты и в переработанном, обогащенном виде возвращала народу» (86, 10). Бурятская литература на начальном этапе своего зарождения и развития опиралась на богатейший опыт, традиции устного народного творчества. Как отмечает С.Ж. Балданов: «Все лучшее, что есть в национальных литературах, создано на художественных традициях устного народного творчества» (21, 93).
В двадцатые - тридцатые годы «дистанция, отделяющая литературу от фольклора, еще очень незначительна. Литература еще во многом пользуется поэтическими средствами фольклора, употребляет те же сравнения, те же по 26 стоянные эпитеты, те же обороты речи - словом, художественные качества ее пока что фольклорны» (84, 23). Об этом говорят те произведения, которые были созданы писателями, стоявшими у истоков зарождения бурятской литературы: X. Намсараев «Исповедь старого гэлэна», «Сагадай Мэргэн», «Дудэй батор», Ц. Дон «Старик Жибженей», Б. Абидуев «Оседлавший тигра», «Козленок Бабана», Солбонэ Туяа «Ангара», Н. Балдано «Энхэ-Булат батор» и другие.
Из их ряда выделяется X. Намсараев, в творчестве которого, как отмечает А.Б. Соктоев, наиболее ярко и полно воплотилась закономерность развития бурятской литературы в целом. «Заслуга его в том, что именно он одним из первых столь успешно осуществил попытку создать на базе фольклора образцы бурятского литературного эпоса. Помимо великолепного знания устного народного творчества бурят, у него было еще одно качество, к сожалению, не учитываемое во всех работах о нем, - прекрасное знание дореволюционной литературы на старомонгольской письменности. Она-то и познакомила его впервые с опытом литературной обработки народных сказок, анекдотов и притчей. Вот почему даже для ранней прозы X. Намсараева характерны достаточно высокая повествовательная культура, неожиданная для начинающего писателя, свободное обращение с народной сказкой и умение возвысить ее до литературного рассказа, искусная и красивая аранжировка, в каждой детали которой сказывается знание навыков литературного изложения, строгий, целенаправленный отбор только тех фольклорных мотивов, которые наилучшим образом соответствуют идейно-художественным целям писателя» (167, 107). Такая характеристика подходит и к военному и послевоенному периоду творчества писателя. Не только прекрасный знаток народной поэзии, ее эстетики, поэтики, но и умелый литератор, смело идущий на сближение фольклорной и литературной традиции, поэтому и создающий запоминающиеся произведения. Рассматривая творчество X. Намсараева, Н.О. Шаракшинова пишет следующее: «Народное поэтическое творчество, отражавшее многовековой опыт трудового народа, для Хоца Намсараева явилось поэтической школой в его литературных начинани 27 ях» (212, 9). Рассказы, написанные писателем в 20-30-е годы, вошедшие в цикл «Тиимэ байгаа» («Так было»), стали свидетельством новаторского использования фольклорных традиций в бурятской прозе, в частности, в жанре рассказа. Это отмечается в трудах А.Б. Соктоева, В.Ц. Найдакова, Н.О. Шаракшиновой. «Реалистически отражая действительность, он использует фольклорный материал критически, в меру, добиваясь органического слияния его с тканью художественного произведения» (212, 28). Если рассказы «Ноеной XY6YYH» («СЫН нойона»), «Эрхэ памган» («Капризная жена»), «Унзад яагаад болохоб» («Как стать унзадом»), «Убгэн банди» («Старик банди») полностью основаны на фольклорном материале, то рассказы «Тахуунай», «Бодинсы убгэн» («Старик Бодинсы»), «Ури нэхэбэри» («Взыскание долга») сочетают фольклорное и литературное (В.Ц. Найдаков).
Мифы, легенды и предания в бурятской прозе
Народная поэзия всегда привлекала внимание писателей как «источник метафорического мышления и образного видения» (12, 218). Современной бурятской литературой осваивается так называемая «легендная поэтика». Особая активность ее литературной жизни наблюдается в литературе 70-80-х годов, когда началось осознание духовного «разлада и распада системы жизни и усиление трагического пафоса в ее восприятии» (51, 52).
Мифы, легенды и предания, органично входя в текст повествования, становятся «формой концентрированного выражения философских и нравственных исканий современной литературы» (214, 101), «создания условных форм...» (50, 5). Фольклорные произведения (мифы, легенды и предания) становятся «единственным способом глубокого философского осмысления современных литературно-фольклорных проблем» (65, 67), Справедливо утверждение СИ. Гармаевой о том, что «особый типологический ряд составляют легенды и мифы об истоках рода человеческого, племенах его, которые по замыслу писателей, должны укрепить народный взгляд на то, кто ты есть во времени и пространстве» (50,6).
В художественной ткани произведений бурятских прозаиков обнаруживаются генеалогические предания о Бальжин-Хатан, мифы и предания о Хори-дое-Мэргэне, легенда о Саран-ХУхы. Обращения к ним особенно характерны для произведений Ц. Галанова и Д. Эрдынеева. Довольно часто используются авторами именно генеалогические мифы и предания о происхождении одиннадцати хоринских родов. Существуют различные варианты мифов и преданий, связанных с именем Хоридоя. Они отражены в научных трудах, записях таких видных исследователей, как A.M. Позднеев, М.Н. Хангалов, Г.И. Румянцев, Н.О. Шаракшинова, А.Б. Соктоев и других.
Обращаясь к генеалогическим мифам, Н.О. Шаракшинова отмечает следующее: «среди бурят до настоящего времени бытуют многочисленные мифы о происхождении бурятских родов и племен, связанные с тотемными животными и птицами» (207, 51). По мифологическим представлениям хоринские буряты произошли от брака Хоридоя Мэргэна с девой-лебедицей, дочерью Хурмасты Тэнгрия. Наряду с мифами существуют предания о происхождении одиннадцати хоринских родов, которые отразились в исторических летописях Т. Тобоева «Хориин болон Агын буряадуудай урда сагай TYYX3» (Прошлая история хоринских и агинских бурят), В. Юмсунова «Хориин урда арбан нэгэн эсэгын уг иза-гуурай туужа» (История происхождения одиннадцати хоринских родов).
Так, Ц. Галанов вводит в роман «Мать-лебедица» (1975) и миф, и предание о Хоридое-Мэргэне. О версии предания, внесенного в роман, А.Б. Соктоев пишет: «уже по тому, как предание начисто отбрасывает версию о Хоридое-охотнике, о его женитьбе на оборотне-прекрасной деве-лебеди и вводит совершенно новые мотивы, превращая Хоридоя в сына монголо-тумэтского правителя Тайчжин-нояна и женив его на трех земных женщинах, чувствуется, что предание основывается не на народных источниках, а на источниках иного социального и культурного происхождения» (168, 38). Это предание в свое время, как отмечает исследователь, было опубликовано A.M. Позднеевым в «Образцах народной литературы монгольских племен».
Роман начинается с описания приезда главного героя Галдана Арсаланова с женой Надей на родину. Родина героя - долина Кижинги со спокойной размеренной жизнью, где сам воздух как будто пропитан гармонией. Родина, известная в фольклоре как «понятие, воспринимаемое не только как географическое, но и пространство, воспринимаемое эмоционально» (174, 30). Итак, родина вызывает большое эмоциональное и психологическое напряжение героя. Родные степи встречают Галдана, как вначале им показалось, миром и покоем. Но вое 43 торженное состояние героев было омрачено гибелью лебедей, красотой полета и танца которых они любовались. Мрачная картина убийства священных птиц уже на первых страницах романа, на наш взгляд, служит предвестником грядущих сложных и тревожных времен. Амбивалентность образов священных птиц несомненна. С одной стороны: лебеди, тотемные птицы хоринских бурят, выступают символом родовой памяти. Ведь «одухотворяя природу, поклоняясь тому или иному зверю или птице, горам, лесам и водной стихии, древний человек считал себя и своих предков кровно связанными с определенным зверем или птицей, от них он вел свое происхождение» (207, 51). Хоринские буряты и в наши дни свято чтут традиции предков, почитая белоснежных лебедей. Встречая весной первую лебединую стаю, обычно брызгают вверх молочную пищу со словами: «Хун шубуун уг гарбалтай, хуЬан модон сэргэтэй»!» /Птица-лебедь, прародительница моя, березовая коновязь моя/ (175, 28). Признаки почитания священной птицы можно обнаружить и в национальной одежде бурят «у бурят, в женской одежде долго сохранялись элементы, символизировавшие птичьи оперения» (175, 28). Таким образом, белоснежные лебеди, появившиеся в романе могли носить символический характер. С другой стороны: убийство тотемных птиц могло возвещать, по замыслу автора, о наступлении совершенно иного времени, об изменении мира. Ведь только «миф с его наивными представлениями о мире как огромной родовой общине связанных между собой кровным родством одушевленных существ подчас с удивительной силой и остротой подчеркивает драматизм...» описываемых событий (213, 87). В данной ситуации наблюдается переход мира из одного состояния в другое: из состояния спокойствия, безмятежности во враждебную реальность.
Надя, героиня романа, впервые попадает в чужой, незнакомый мир в такое сложное, противоречивое время. Здесь она знакомится с мифом о священной птице, с которого и начинается постижение героиней нового мира. Это и ее неверие в миф, в сказку, и странные обычаи и патриархальные законы, совершенно незнакомый быт и отношения между людьми, а также непримиримая борьба нового со старым, смерть ни в чем не повинных людей, произвол, несправедливость, страдания, с которыми так часто сталкивается Надя. Родина ее мужа предстает в двух ипостасях: 1) патриархальный, религиозный, этнографический, фольклорный; 2) политический, хаотичный, жестокий. Все это показывает, что образы лебедей и связанный с ними миф, безусловно, становится основным лейтмотивом произведения. Дальнейшее знакомство с мифом и преданием о происхождении одиннадцати хоринских родов, с их наиболее полными вариантами, происходит благодаря записям учителя Намдака, человека интеллигентного и прогрессивного.
Нет сомнений в том, что миф и предание о Хоридое-мэргэне, тексты которых приводятся в полном объеме, стали определенным показателем состояния общества, разграничителем между двумя полярностями. Писатель умело направляет ход событий, которые вовлекают в свою орбиту героев. Этому способствует фольклорный материал, гармонично сочетающийся с повествова 45 тельной тканью романа. Говоря о мифологической основе связи хоринских бурят с лебедью, автор замечает: «Энэ Хун шубуун тухай туужа хори зоной уг гарбалай бури эртэ урданай Ульгэр домог болоно» /Рассказ про эту лебедицу является древним мифом о происхождении хори-бурят/ («Мать-лебедица», С. 140). Миф о происхождении хоринских бурят от Хоридоя и лебедицы тесно связан с социально-общественной жизнью бурятского народа, с мировоззрением человека, живущего родоплеменными понятиями. Поэтому он стал одной из ведущих сторон повествовательной системы художественного произведения Ц. Галанова, при этом, явно усиливая реалистическую силу его воздействия.
Роль фольклорных образов и мотивов
Обращаясь к проблеме становления и развития национальных литератур Восточной Сибири, С.Ж. Балданов отмечает: «писатели используют не только изобразительно-выразительные средства, образные приемы родного фольклора, но и его сюжеты, мотивы...» (21, 26). Традиционными национально-фольклорными образами признаются конь, юрта, коновязь, степь и другие реалии. Именно они могут определять специфику национального колорита современной бурятской литературы. Говоря о таких реалиях жизни и быта бурят, СИ. Гармаева пишет: «Писатели находят в них возможность через реальное и хорошо знакомое создать образный строй произведения, выразить свое отношение к явлениям жизни. При наделении их условным художественным смыслом они становятся частью поэтики, постепенно утрачивая свое утилитарное назначение» (50, 3).
В произведениях бурятских прозаиков (Д. Эрдынеев, Ц. Галанов, С. Цы-рендоржиев) выделяются образы коня, мудрого старика, мудрой девушки, которые, на наш взгляд, архетипически восходят к фольклору. Мифо-фольклорные образы «не противостоят реалистическому восприятию жизни. Они служат обнаружению в нем извечных общечеловеческих ценностей» (141, 186), становясь тем сосудом, который никогда нельзя ни опустошить, ни наполнить. Он сохраняется в течение тысячелетий, непрестанно требуя все нового истолкования.
Фольклорный образ коня. Культ коня и его идеализация характерен для бурятского народа. В системе иерархии животных конь занимает исключительное место. «Конь занял видное место в духовной культуре кочевников, в народных верованиях и обрядах, в фольклоре (особенно эпосе), в изобразительном искусстве» (147, 164). Без коня немыслимо представить жизнь степняка, его полное слияние с окружающим миром и пространством. Роль лошади у кочевников, - отмечает Л.П. Потапов, - определялась ее огромным хозяйственным значением. Лошадь являлась не только транспортным средством, позволяющим вести кочевой образ жизни, или орудием охоты при облавах на зверей...» (148, 47). Как утверждает Г. Гачев, «конь - космос кочевника, его единство, божест во мироздания» (52, 140).
Почти во всех своих ипостасях литературный образ коня восходит к фольклорному образу. Поэтому, безусловно, речь пойдет о фольклорных традициях в изображении коня. Во многих жанрах устного народного творчества бурятского народа (улигерах, пословицах и поговорках, загадках, песнях, бла-гопожеланиях, прославлениях) встречается образ гордого, благородного коня. Бытует множество пословиц и поговорок, связанных с образом коня, («Мо-ригУй буряад буряад бэшэ» /Бурят без коня - не бурят/, «XYH болохо багаЬаа, хУлэг болохо унаганЬаа» /Человеком становится с ребенка, скакуном - с жеребенка/, «Морин номгон, эзэн ябаган» /Конь смирный, хозяин пеший/, «НУхэрэй Ьайниие ханилан танидаг, мориной Ьайниие аялан мэдэдэг» /Качества друга познаются в дружбе, качества коня - в дороге/, «гіайн морин эсэхэгУй, Ьайн XYH гутахагуй» /Хороший конь не устает, хороший человек не портится/, «Орео морин эжэлээ олохо» /Увертливая лошадь пару находит/ и многие другие), что говорит о большой популярности названного животного в народе.
Образ коня фигурирует и в таком интересном жанре как загадки, которые, как определила Н.О. Шаракшинова, являются выражением «житейской мудрости», «своеобразной философии» (207, НО). Как в Улигерах и соло, объектом особого внимания становятся как сам конь в целом, так и отдельные части тела. «Загадки отмечают все детали предмета, явления, животных, все их видовые и частные признаки. Почти нет ни одной загадки о животных, о природе вообще, всегда речь идет о каком-нибудь конкретном явлении или животном с его отличительными чертами, индивидуальными качествами» (207, 114). Например: «Харгы уруу хара аяга гУйбэ» /По дороге черная чашка побежала/ -мориной туруу (лошадиное копыто); «Минаа минаа миндарга, Минга найман Ьухалга» /Кнут бич из сапфира, сплетен из 1008 волос/ — мориной ЪУУЛ (лошадиный хвост). Также популярны загадки, в которых при помощи метафор и сравнений, связанных с миром лошадей, говорится о различных явлениях и предметах окружающего мира. Так, облако сравнивается с резвящимся конем; колос - с конем величиною с кнут; солнечные лучи - с гривой коня; крыша дома—с большим рыжим конем. Примером могут служить загадки: «Наран морин Ьанхалзаа, найран эзы ялалзаа» /Буланый конь резвится, женщина красавица веселится/ - УУлэн. сапан (облако, снег); «Ташуурай шэнээн мориндо табин ХУН Ьундалдаба» /На коня величиною с кнут верхом сели 50 человек/ - хоолос (колос); «Газарта хУрэмэ дэлпэтэй» /С гривой до самой земли/ - наран ба наранай элшэ (солнце, лучи солнца); «Ехэ зээрдэ морин ерэн дабхар тохомтой» /Рыжий конь стоит под девяносто потниками/ - гэрэй хушалга (крыша дома). Очевидно, что в данных загадках раскрываются особенности восприятия окружающей действительности, в частности, мира лошадей, являвшихся неизменными спутниками кочевого народа. Таким образом, конь, его отдельные части всегда находили отражение в таком жанре бурятской народной поэзии, как загадки.
Объектом особого внимания конь становится в прославлениях (мориной соло), в своеобразном жанре бурятского фольклора. Данный жанр недостаточно изучен, и раньше не выделялся в отдельный жанр. На современном этапе признается выделение прославлений коня в отдельный самостоятельный жанр. «Наиболее характерным примером особого почитания, восхваления коня может служить соло «Слава коню». В нем поется гимн рысаку, рожденному от бурой кобылицы. Конь сравнивается с драгоценным камнем, поющий называет его легендарным богатырским конем» - отмечает Н.О. Шаракшинова (207, 185). Прославления в честь скакунов-победителей требуют особого исполнителя. Поэтому прославления становятся объектом внимания множества людей. Обычно они звучат на Сурхарбане, на конных скачках, различных празднествах. В прославлениях «широко используются художественно-изобразительные средства: эпитеты, сравнения, гиперболы, олицетворения, метонимии и др. Все они служат усилению, подчеркиванию самых ярких, характерных свойств, признаков победителя, самого почтительного, уважительного отношения к ним со стороны, т.е. служат основной художественной задаче содержания магталов и соло -идеализации» (198, 154). «Эпитеты призваны создавать поэтические образы лучших из лучших, поэтому они отличаютя с одной стороны реальностью изображения, а с другой — описательностью». Любой эпитет, используемый в произведении, характеризует какую-то, отдельно взятую, деталь объекта прославления только с положительной стороны и подчеркивает его отличительный признак» (205, 70). Так, эпитеты употребляются при описании масти, внешности коня, отдельных частей тела, качеств. Е.К. Шаракшинова, рассматривая эпитеты в бурятских прославлениях, приводит следующие примеры: отдельные части - «буржагар Ьайхан дэлпэтэй /грива кудрявая, волнистая/, мУнгэн памбай-тай /с серебряной челкой/, хумигар шэхэтэй /с острыми ушами/»; бег коня -«жороо гУйдэлтэй /бег иноходью/, ульгам жороо, Унэгэн жороо /мягкий, плавный/; масть — шара, хара зээрдэ, малаан харагшан» (205, 72). Значительное место занимают сравнения: ареал ан шэнжэтэй сээжэ /грудь как у льва/, загапан шэнжэтэй нюрган /спина как у рыбы/. Таким образом, основным объектом прославлений становится конь-победитель.