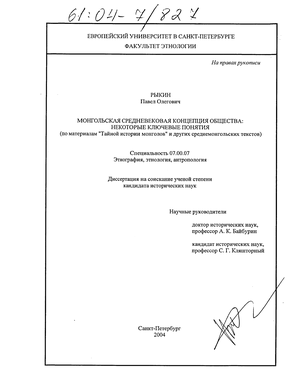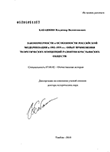Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Понятие ulus: 'люди' или 'государство'? 35
Глава 2. Социальная группа и ее название в среднемонгольском языке: понятия irgen и oboq 56
Глава 3. Понятия uruq и haran: идея происхождения и идея службы как элементы монгольской средневековой концепции общества 85
Заключение 115
Библиография 118
Список сокращений 129
- Понятие ulus: 'люди' или 'государство'?
- Социальная группа и ее название в среднемонгольском языке: понятия irgen и oboq
- Понятия uruq и haran: идея происхождения и идея службы как элементы монгольской средневековой концепции общества
Введение к работе
Постулат субъективной интерпретации восходит к трудам М. Вебера (1864-1920), который видел задачу социальной науки в том, чтобы понять социальное поведение с точки зрение его субъектов, и в этой связи писал: "При толковании поведения необходимо принимать во внимание тот основополагающий факт, что коллективные образования... являют собой определенные представления в умах конкретных людей... о том, что отчасти реально существует, отчасти должно было бы обладать значимостью; на эти представления люди ориентируют свое поведение, эти коллективные образования имеют огромное, подчас решающее значение для поведения людей" (Вебер 1980, с. 109). Ср. хронологически значительно более позднее высказывание социального исследователя феноменологической ориентации П. Уинча: "Социальные отношения на самом деле существуют только в идеях и через идеи, которые актуальны для данного общества" (Уинч 1996, с. 99). Как известно, центральная роль субъективных представлений во всех без исключения направлениях феноменологической (понимающей, интерпретативной) социологии объясняется тем обстоятельством, что данные направления базировались на методологических установках, сформулированных М. Вебером. (Подробный анализ теоретических основ феноменологической социологии, в частности, постулата субъективной интерпретации см.: Williame 1973.)
Интересно отметить, что даже в концепции идейного оппонента Вебера Э. Дюркгейма (1858-1917), принципиально отрицавшего важность субъективного фактора для социальной теории, выдвигалось сходное положение о том, что "социальная жизнь целиком состоит из представлений" (Дюркгейм 1995, с. 7). Разумеется, интерпретация этих представлений у Дюркгейма имела свою специфику - в противоположность Веберу, он приписывал им объективный, надындивидуальный статус, обосновывая необходимость изучать их извне, "как вещи". Мы хотим здесь лишь подчеркнуть, что во взглядах двух великих теоретиков общества, столь часто безапелляционно противопоставлявшихся друг другу, имелась известная общность, связанная как раз с обсуждаемым нами кругом проблем.
Таким образом, нашим объектом исследования служит совокупность представлений средневековых монголов о своем социальном мире; в дальнейшем мы будем называть ее наивной концепцией общества (определение наивная обосновывается нами ниже). Однако здесь перед нами встает одна очевидная трудность. Дело в том, что культурные представления относятся к категории ментальных сущностей, которые не даны нам в непосредственном восприятии; для их реконструкции необходимо прибегать к какой-либо из чувственно воспринимаемых форм, в которых они находят свою объективацию. В нашем случае наиболее доступной для анализа формой объективации этих представлений выступает естественный язык, на котором говорили члены интересующего нас культурного сообщества. Речь идет о сред-немонгольском языке, представленном корпусом хорошо известных монголоведам письменных памятников XIII-XIV вв. Взяв за основу нашего исследования свидетельства языка, мы можем разрешить указанную выше методологическую трудность, получив опосредованный, но от этого не менее ценный доступ к сфере субъективных значений. Обращение к языковым данным тем более оправданно, что роль языка в социальной жизни трудно переоценить. "Общество возможно только благодаря языку, - писал выдающийся французский лингвист Э. Бенвенист, - и только благодаря языку возможен индивид... Нельзя представить себе язык и общество друг без друга" (Бенвенист 2002а, с. 27-28, 31). Полезно вспомнить также знаменитый тезис раннего Л. Витгенштейна: "Границы моего языка означают границы моего мира" (Витгенштейн 1994, 5. 6), из которого следует, что понять значение социального мира для его субъектов невозможно без опоры на факты языка, через который оно показывает себя, говоря словами того же философа. Язык выполняет функцию посредника между человеком и окружающим миром и одновременно хранилища знаний об этом мире, накопленных человеком в ходе познавательной деятельности. Общий объем закодированных в языке человеческих знаний и представлений образует то, что в науке принято обозначать термином языковая картина мира1. Поскольку, как можно видеть, данное понятие является для нашей работы узловым, мы сочли целесообразным подробно остановиться на его важнейших аспектах, раскрытие которых позволит составить мнение о методологических основах исследования.
История изучения языковых картин мира (далее ЯКМ) имеет давнюю и богатую традицию, с которой связаны имена целой плеяды крупнейших теоретиков языкознания. Свое
Ср. трактовку языка как "промежуточного мира" (Zwischenweli) в лингвистических концепциях В. фон Гумбольдта и Л. Вайсгербера.
3 Наряду с этим термином в соответствующей литературе используется ряд других: языковое сознание, языковое мышление, языковая ментальностъ, а также более редкие наивный реализм (Р. Халлиг и В. Вартбург), языковая метафизика (Б. Л. Уорф) и первичный миф (В. Б. Касевич). Все они употребляются разными авторами как полные или частичные синонимы. Впрочем, иногда термину языковое сознание придается суженное смысловое содержание - 'одна из форм общественного сознания, отражающая научные и донаучные знания людей о своем языке' (см., напр.: Белобородое 1987).
начало она берет в трудах немецких философов-романтиков Й. Г. Гаманна (1730-1788) и Й. Г. Гердера (1744-1803), которые первыми всерьез поставили вопрос о влиянии языка на мышление и культуру его носителей, отказавшись от характерной для эпохи Просвещения тенденции рассматривать язык как простой инструмент для выражения мыслей. Язык, считали они, ответствен не только за выражение мыслительных концептов, но и за их формирование в недрах внутреннего психического мира человека (подробнее см.: Christmann 1966; Miller 1968, p. 14-24; Perm 1972, p. 48-53). Высказанные ими идеи получили всестороннее развитие в творчестве блестящего языковеда, философа и культуролога В. фон Гумбольдта (1767-1835) (Гумбольдт 1985; 2001). Продолжая проблематику своих предшественников, Гумбольдт подчеркивал тесную взаимосвязь языка и мышления; часто цитируется его известное высказывание: "Язык есть орган, образующий мысль" (Гумбольдт 2001а, с. 75). Вслед за Гаманном и Гердером он делал акцент на разнообразии человеческих языков, утверждая, что каждый из них воплощает сущность породившего его народного духа и отражает специфические черты национального характера. По Гумбольдту, "своеобразие языка состоит в том, что он, выступая в качестве посредника между человеком и внешними объектами, закрепляет за звуками мир мыслей" (1985в, с. 405). В силу этого в языке происходит "акт превращения мира в мысли" (2001а, с. 67), результаты которого складываются в особое мировидение - присущий каждому конкретному языку способ восприятия и осмысления действительности, оказывающий глубочайшее воздействие на весь духовный склад и умственную деятельность человека. Трактовка Гумбольдтом понятия "языковое мировидение" (sprachliches Weltansichff заложила теоретический фундамент для дальнейших исследований ЯКМ учеными самых различных научных школ и направлений. Коротко говоря, "человек думает, чувствует и живет в языке" (19856, с. 378) - эти слова в концентрированном виде целиком передают суть оригинальной лингвистической философии В. фон Гумбольдта6.
В Европе идеи Гумбольдта всегда привлекали к себе повышенный интерес, который знал лишь периоды большей или меньшей интенсивности. Примечательно, однако, что они
Несмотря на многочисленные высказывания о языке как воплощении и порождении народного духа, Гумбольдт временами прямо отождествлял дух с языком. См., напр.: "Язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно представить себе что-либо более тождественное" (2001а, с. 68).
Общее представление об этой трактовке могут дать следующие цитаты: "Поскольку на язык одного и того же народа воздействует и субъективность одного рода, ясно, что в каждом языке заложено самобытное миросозерцание... Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка" (2001а, с. 80); "Разные языки - это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее... Языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы мышления и восприятия" (1985а, с. 349); "Различные языки по своей сути, по своему влиянию на познание и на чувства являются в действительности различными мировидениями" (19856, с. 370).
6 Детальную характеристику теоретической концепции Гумбольдта см. в работах (Brown 1967; Постовалова 1982).
нашли широкое распространение и на американской почве, причем укоренились там едва ли
9 не столь же прочно, как и у себя на родине. Судя по всему, роль главного связующего звена
здесь сыграл Ф. Боас (1858-1942), основоположник американской этнолингвистики и ученый
* впечатляюще разносторонних интересов7. Представители его школы Э. Сепир (1884-1939) и
Б. Л. Уорф (1897-1941) не без влияния германской традиции разработали собственную научную концепцию, которая получила название гипотезы лингвистической относительности,
или, по именам авторов, гипотезы Сепира-Уорфа . Рассмотрим взгляды каждого из творцов гипотезы по отдельности.
По мнению Э. Сепира, язык задает человеческому сообществу специфический способ организации наличного опыта, концептуальную систему координат, через призму кото-рой оно воспринимает объективную реальность, и даже замещает для говорящих саму реальность: "Вещи, качества и события вообще воспринимаются так, как они называются" (Сепир 20016, с. 227)9. Почти дословно повторяя Гумбольдта, Сепир писал о языке, что он "по своей внутренней природе есть форма мысли" (2001а, с. 41); язык направляет мыслительную деятельность по предопределенным каналам и налагает на нее сформированные им шаблоны .
Прямая преемственность между традицией Гердера-Гумбольдта и теориями американских этнолингвистов че-
*; рез посредство Ф. Боаса к настоящему времени может считаться твердо установленной. Существенное значение
при этом имели немецкие корни и образование Боаса, его обширные связи среди интеллектуальных кругов то
гдашней Германии. Определенные расхождения вызывает лишь вопрос о конкретных обстоятельствах, при ко-
f. торых Боас мог познакомиться с взглядами Гумбольдта. По мнению X. X. Кристенсена, Боас имел возможность
подробно узнать об этих взглядах от психолога В. Вундта (1832-1920), с которым он был лично знаком, а также из трудов американского лингвиста У. Д. Уитни (1827-1894), часто ссылавшегося на Гумбольдта и разделявшего его основные позиции (Christmann 1966, S. 10-12). В противоположность этому, Р. Л. Браун отводил ключевую роль языковеду X. Штейнталю (1823-1899), а в качестве возможного дополнительного источника первичной информации указывал на одну из работ Гумбольдта ("О глаголе в американских языках"), опубликованную по-английски Д. Дж. Бринтоном с кратким обзором основных идей немецкого мыслителя (Brown 1967, р. 14-16). Что касается лингвофилософских трудов Гердера, то имеются бесспорные свидетельства того, что их подробно изучали как сам Боас, так и его ученик Э. Сепир, который между прочим посвятил этим трудам свою магистерскую диссертацию.
» 8 Обсуждение эпистемологического статуса и эвристических потенций гипотезы Сепира-Уорфа породило гро-
мадную литературу. См., напр. (Hoijer 1953; 1954; Greenberg 1954; Fearing 1954; Henle 1958; Блэк 1960; Щедро-вицкий, Розин 1967; Брутян 1968; 1969; Perm 1972; Васильев 1974; Langacker 1976; Haugen 1977; Hill 1988; Schlesinger 1991; Koerner 1992). Данная гипотеза составила тематику специальной конференции (Universalism
о versus Relativism 1976). Основные труды Сепира и Уорфа см. (Sapir 1949; Whorf 1956; Уорф 1960а; 19606;
1960в; Сепир 2001).
9 Заслуживает внимания, что сходные с сепировскими идеи выдвигал столь далекий от школы Боаса ученый,
как Л. В. Щерба: "Действительность воспринимается в разных языках по-разному: отчасти в зависимости от ре
ального использования этой действительности в каждом данном обществе, отчасти в зависимости от традици
онных форм выражения каждого данного языка, в рамках которых эта действительность воспринимается"
(Щерба 19746, с. 41, примеч. 2).
10 Аналогичного мнения придерживался уже упоминавшийся нами Э. Бенвенист: "Мысль не просто отражает
мир, она категоризует действительность и в этой организующей функции она столь тесно соединяется с язы-
$ ком, что хочется даже отождествить мышление и язык с этой точки зрения" (Бенвенист 2002а, с. 30). В другой
своей работе он еше больше сближался с Сепиром и, как будет показано ниже, с Уорфом: "Наконец... начали
осознавать, что "категории мышления" и "законы мышления" в значительной степени лишь отражение органн
ії = зации и дистрибуции категорий языка. Мы мыслим мир таким, каким нам оформил его сначала наш язык. Раз
личия в философии и духовной жизни стоят в неосознаваемой зависимости от классификации, которую осуще
ствляет язык в силу одного того, что он язык и что он знаковое явление" (Бенвенист 20026, с. 36). Почти абсо-
По этой причине, утверждал Сепир, "разделяемое многими мнение, будто они могут думать и даже рассуждать без языка, является всего лишь иллюзией" (2001а, с. 37). Отсюда закономерно вытекало признание им относительности форм мышления, соответствующих каждая отдельно взятому языку (Сепир 2001 в, с. 258). Люди находятся всецело во власти того языка, на котором они говорят; вырваться из-под власти языковых привычек им чрезвычайно сложно, если не невозможно, поскольку лингвистические формы "предопределяют для нас определенные способы наблюдения и истолкования действительности" (20016, с. 227). В свете сказанного вполне объясним следующий радикальный вывод Сепира: "Миры, в которых живут различные общества, - это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками" (2001 г, с. 261). Вместе с тем, с его точки зрения, форма языка и тип культуры не стоят друг с другом во взаимнооднозначном соответствии (оговоримся, что Сепир сводил культуру исключительно к материальной сфере, понимая ее как "отобранный инвентарь опыта": 2001а, с. 193). Границы культурных зон и языковых областей, как правило, не совпадают: один и тот же язык может обслуживать несколько разных по типу культур, а одна культура использовать в качестве средств выражения несколько различных языков (2001а, с. 189-190,193-194; 20016, с. 242-243).
Отправляясь от высказанных Сепиром теоретических соображений, его ученик Б. Л. Уорф развивал положение о том, что языковая система формирует способы мышления и определяет направление и результаты познавательной деятельности говорящих11. Как и Сепир,
лютное тождество этих формулировок с основными тезисами Сепира и Уорфа доказывает актуальность выводов, к которым Бенвенист, с одной стороны, и американские лингвисты - с другой пришли разными путями и на разном материале.
" Как известно, по вопросу о соотношении языка и мышления гипотеза Сепира-Уорфа разделяется на две версии: сильную, согласно которой язык предшествует и определяет формы мышления и познания, и слабую, согласно которой язык оказывает лишь определенное, хотя и довольно значительное влияние на мыслительную деятельность человека, протекающую в общем и целом без участия языка. Важно отметить, что сами авторы гипотезы колебались между обеими версиями, высказываясь в поддержку то одной из них, то другой. Мы продемонстрируем это на некоторых примерах.
Э. Сепир: 1) "Язык и шаблоны нашей мысли неразрывно между собою переплетены; они в некотором смысле составляют одно и то же... Мышление есть не что иное, как язык, свободный от своего внешнего покрова" (2001а, с. 193, 197) (сильная версия); 2) "Границы языка и мышления в строгом смысле не совпадают. В лучшем случае язык можно считать лишь внешней гранью мышления на наивысшем, наиболее обобщенном уровне символического выражения" (2001а, с. 36) (слабая версия). Б. Л. Уорф: 1) "Грамматика сама формирует мысль, является программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза" (Уорф 19606, с. 174) (сильная версия); 2) "Язык, несмотря на его огромную роль, напоминает в некотором смысле внешнее украшение более глубоких процессов нашего сознания, которые уже наличествуют, прежде чем возможно любое общение" (Уорф 1960в, с. 190-191) (слабая версия). В большинстве работ о гипотезе Сепира-Уорфа - нелишне напомнить, написанных в эпоху, когда фокус исследований сместился от анализа лингвоспецифичных черт к поиску языковых универсалий - сильная версия гипотезы ставится под сомнение, в то время как слабая, с известными оговорками (касающимися по преимуществу степени влияния языка на культуру и мышление), признается соответствующей фактам. Однако, на наш взгляд, дело обстоит не так просто. В психолингвистике экспериментально доказано положение о том, что "мышление невозможно без опоры на некоторую символическую систему: она является необходимым кар-
он доказывал, что каждому языку соответствует своя форма мышления и свой способ категоризации действительности, несопоставимый с теми, которые представлены в других язы-ках . В отличие от своего учителя он, однако, акцентировал внимание на том, что язык довольно точно отражает специфику культуры (Уорф толковал это понятие существенно шире, чем Сепир), поскольку лингвистические модели составляют важнейшую часть того "мыслительного мира", или "микрокосма", с помощью которого культурные субъекты познают и оценивают внешний мир, "макрокосм". Исходя из такого понимания отношений между культурой и языком, Уорф горячо отстаивал тезис о "лингвистической обусловленности культуры" (Уорф 1960а, с. 159). Этот тезис заключается в том, что даже философия и наука, как часть культуры, подвержены лингвистической детерминации, не говоря уже о мышлении и поведении рядовых носителей языка, которые обычно "ведут себя соответственно тому, как они об этом говорят" (1960а, с. 154). Вообще Уорф был склонен утверждать, что здравый смысл и "естественная логика" имеют языковую основу, находясь под определяющим влиянием принятых в данной культуре лингвистических норм, "манер речи". Он особо подчерки-
касом мышления. Эта символическая система не обязательно совпадает с естественным языком" (Фрумкина 1981, с. 229). В настоящее время мышление обычно рассматривается как сложная многоуровневая система, которая функционирует в двух базовых режимах: дискурсивном и недискурсивном. Дискурсивное мышление оперирует дискретными концептуальными единицами (понятиями), а деятельность недискурсивного организуется фреймами, схемами, сценариями и прочими видами аналоговых символических структур (о них см.: Фил-лмор 1983а; 1988). Как дискурсивные, так и недискурсивные ментальные модели используются при обработке информации; как те, так и другие являются символическими образованиями, но принципы структурной организации, равно как и роль языка, в обоих случаях существенно различаются. Язык обслуживает деятельность мышления главным образом дискурсивного типа, о чем согласно говорят самые разные авторы: "Уже сам по себе язык... способствует дискретизации, дискурс ив изации наших знаний о мире, обществе и о себе" (Касевич 1996, с. 204); "Можно сказать, что лексические и синтаксические ресурсы языка налагают дискретное, а не аналоговое кодирование опыта" (Taylor 1995, р. 75). Но отсюда ясно, что применительно к дискурсивному типу вполне правомерно говорить о том, что язык детерминирует мышление, поскольку в данном случае деятельность этого последнего всецело опирается на языковые средства. Следовательно, сильная версия гипотезы Се-пира-Уорфа по крайней мере отчасти оказывается верна.
Небольшое историографическое дополнение. Мысль о языке как инструменте дискретизации мышления задолго до работ по психолингвистике и когнитивной лингвистике высказывалась основателем структурализма Ф. де Соссюром (1857-1913): "В психологическом отношении наше мышление, если отвлечься от его выражения словами, представляет собою бесформенную и аморфную массу... Взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто не разграничено. Нет предустановленных идей, и нет никаких различений до появления языка" (Соссюр 1998, с. 109). Подобные утверждения составили бы честь Гумбольдту, Сепиру и Уор-фу, которым Соссюра нередко противопоставляют (см., напр.: Хомский 1972, с. 31). В творчестве Соссюра имеется и ряд других типично гумбольдтианских мотивов (см.: Miller 1968, р. 38-42).
12 Довольно часто в качестве иллюстрации приводится следующий пассаж из одной работы Уорфа: "Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном - языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе, в основном потому, что мы - участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного языкового коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка. Это соглашение, разумеется, никак и никем не сформулировано и лишь подразумевается, и тем не менее мы - участники этого соглашения; мы вообще не сможем говорить, если только не подпишемся под систематизацией и классификацией материала, обусловленной указанным соглашением" (Уорф 19606, с. 174-175). Впрочем, нужно иметь в виду, что Уорф был не вполне последовательным релятивистом: он объединял основные языки западной цивилизации в категорию "среднеев^ ропейского стандарта" (SAE), для которой, по его мнению, имела место общность форм мышления и культуры.
вал ключевую функцию, которую при этом выполняет грамматика: ""Формирование мыслей - это не независимый процесс, строго рациональный в старом смысле этого слова, но часть грамматики того или иного языка и различается у различных народов в одних случаях незначительно, в других - весьма существенно, так же как грамматический строй соответствующих языков" (19606, с. 174). Закономерным итогом творчества Уорфа явилась формулировка им т. н. принципа лингвистической относительности, который гласит, что "сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем" (19606, с. 175).
Следует оговориться, что ни Гумбольдт, ни Сепир и Уорф не употребляли термина "языковая картина мира", либо вообще никак специально не обозначая результатов лингвистического познания мира, либо прибегая к другим, сходным по смыслу номинациям ("языковое мировидение" у Гумбольдта, "языковая метафизика" у Уорфа). Интересующий нас термин впервые появляется в трудах немецкого лингвиста Л. Вайсгербера (1899-1985), представителя неогумбольдтианского направления, которое углубляло и развивало идеи В. фон Гумбольдта. По-видимому, словосочетание "языковая картина мира" (sprachliches Weltbild) было образовано им по модели широко известных с начала XX в. терминологических выражений, таких как "физическая картина мира" и "научная картина мира" (Постовалова 1988, с. 12-13). Лингвистическая концепция Вайсгербера вполне самобытна и своеобразна, хотя, безусловно, она имеет ряд общих моментов с теоретическими взглядами как Сепира-Уорфа, так и (особенно) Гумбольдта и его германских продолжателей (см.: Гухман 1961; Кузнецова 1963, с. 28-38; Miller 1968; Даугатс 1977; Радченко 1990; Баранов, Добровольский 1990). Подробное рассмотрение этой концепции не входит в наши намерения, тем более что ее фундаментальные посылки немногим отличаются от тех, на которых строили свои теории все вышеназванные авторы. Мы ограничимся здесь перечислением базовых характеристик понятия ЯКМ в интерпретации Вайсгербера, обратившись с этой целью к работе Л. А. Шариковой, в которой они удачно сведены воедино:
"1) "картина мира" какого-либо языка и есть та "преобразующая сила языка", которая формирует представление об окружающем мире через язык как "промежуточный мир" у носителей этого языка;
"языковая картина мира" создает однородность языковой общности, тем самым способствуя закреплению ее языкового, а значит и культурного своеобразия в видении мира и его обозначении средствами языка;
"языковая картина мира" изменчива во времени и, как любой "живой организм", подвержена развитию, то есть в вертикальном (диахронном) смысле она в каждый последующий этап развития (sic. - П. Р.) отчасти нетождественна сама себе;
поэтому "языковая картина мира", с одной стороны, есть следствие исторического развития этноса и языка, а, с другой, является причиной своеобразного пути их дальнейшего развития;
"языковая картина мира" - это система всех возможных содержаний, духовных, определяющих своеобразие культуры и менталитета данной языковой общности, и языковых, обусловливающих существование и функционирование самого языка;
"языковая картина мира" как единый живой организм четко структурирована, в языковом выражении многоуровнева; она определяет особый набор звуков и звуковых сочетаний, особенности строения артикуляционного аппарата носителей языка, просодические характеристики речи, словарный состав, словообразовательные возможности языка и синтаксис словосочетаний и предложений, а также свой паремиологический багаж. Иначе говоря, "языковая картина мира" обусловливает суммарное коммуникативное поведение, понимание внешнего мира природы и внутреннего мира человека и языковую систему;
"языковая картина мира" конкретной языковой общности и есть ее общекультурное достояние" (Шарикова 2002, с. 45-46).
После кратковременного периода спада (60-70е гг. XX в.), вызванного господством генеративистской парадигмы с ее акцентом на языковых универсалиях, исследования по ЯКМ на современном этапе переживают новый мощный всплеск интереса. Взаимоотношения языка с мышлением и культурой оказались в центре проблематики целой лингвистической субдисциплины - когнитивной лингвистики, бурное развитие которой далеко не достигло своего высшего предела. В нашей стране объем соответствующей литературы неуклонно возрастает из года в год. Ведутся теоретические разработки как общих вопросов ЯКМ, так и частных ее аспектов (Роль человеческого фактора 1988; Касевич 1989; 1990; 1996; По-чепцов 1990; Борщев 1996; Даниленко 1997; Корнилов 1999). Подвергаются исследованию ЯКМ конкретных языков: русского (Яковлева 1994; Урысон 1994; Булыгина, Шмелев 1997; Шмелев 2002), балканских (Цивьян 1990), догонского (Плунгян 1991). Осуществляется сравнительный анализ отдельных фрагментов нескольких ЯКМ: русской и английской (Пиме-нова 1999), русской и испанской, русской и китайской (Корнилов 1999). Недавно состоялась крупная научная конференция, на которой обсуждался широкий диапазон тем, организованных вокруг понятия ЯКМ (Проблемы концептуализации действительности 2002). В целом можно без преувеличения сказать, что традиция изучения ЯКМ и смежных вопросов открывает многообещающие эвристические перспективы; к этой традиции причисляет себя и автор.
В завершение нашего историографического обзора уместно дать обобщающее определение ЯКМ, в котором это понятие употребляется в современных научных исследованиях.
К настоящему моменту имеется целый ряд альтернативных дефиниций, раскрывающих его содержание с большей или меньшей полнотой. Из них мы отобрали одну, как нам показалось, достаточно иллюстративную и подходящую для наших целей. Итак, согласно этому определению, ЯКМ - это "исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации действительности" (Захарова 2002, с. 124).
Теперь имеет смысл сказать несколько слов по поводу структурного устройства ЯКМ. В аспекте своей внутренней структуры она членится на известное количество фрагментов, каждый из которых заключает в себе определенное подмножество наивных языковых представлений, объединенных по предметно-тематическому принципу. К примеру, в рамках ЯКМ того или иного языка можно выделять наивную антропологию — языковые представления о человеке, наивную психологию — языковые представления о его психоэмоциональном и ментальном мире, наивную астрономию - языковые представления о небесных телах, и т. п. (см.: Апресян 1995а, с. 57-60). Соответственно для идентификации интересующего нас фрагмента среднемонгольской ЯКМ мы могли бы предложить термин "наивная социология", или "наивная концепция общества", который обозначал бы языковые представления об обществе, свойственные говорящим на данном языке (в нашем случае — носителям среднемонгольского языка).
В предшествующем изложении обращает на себя внимание характеристика "наивные", которая применяется к языковым представлениям, составляющим содержание ЯКМ. Эта характеристика передает одну важную особенность описываемого нами явления. Дело в том, что закодированные в языке представления о мире - это представления донаучные, присущие рядовому неискушенному носителю языка, не обремененному багажом научных знаний, которые образуют научную картину мира (НКМ). В данной связи языковую картину мира иногда еще называют наивной и рассматривают в противопоставлении к научной (см., напр.: Апресян 1995а, с. 56-60; 1997; Яковлева 1994, с. 9-Ю; Корнилов 1999, гл. I)13. Слово "наивный" используются здесь, разумеется, в терминологическом, а не в оценочном смысле, так как "наивная модель мира отнюдь не примитивна. Во многих деталях она не уступает по сложности научной картине мира, а иногда и превосходит ее" (Апресян 1997, с. 273). Наивные картины мира, воплощенные в различных языках, могут отличаться как друг от друга, так и от научной картины мира, которая, вообще говоря, не зависит от языка своего описания
В зарубежной когнитивной лингвистике это противопоставление известно под видом дихотомии folk categories/expert categories (Taylor 1995, p. 72-74).
(см.: Апресян 1995а, с. 57-59)|4. Основываясь на результатах сравнительного анализа ЯКМ и НКМ, В. П. Даниленко в качестве существенных признаков первой называл субъективность, идиоэтничность и плюралистичность (множественность), тогда как вторая, по его мнению, характеризуется объективностью, универсальностью и монистичностью (Даниленко 1997). К таким же выводам приходят, по существу, все исследователи ЯКМ. Различение ЯКМ и НКМ обладает большой методологической полезностью, поскольку позволяет при анализе языковых выражений ограничиться уровнем запечатленного в них обыденного субъективного знания, оставляя в стороне научные представления о соответствующем фрагменте мира .
Если противопоставление ЯКМ и НКМ кажется нам вполне обоснованным, то совершенно иного мнения мы придерживаемся относительно различия между концептуальной моделью мира (КММ) и языковой моделью мира (ЯММ), введенного Г. А. Брутяном (Брутян 1973; 1976) и воспринятого некоторыми другими учеными (см., напр.: Караулов 1976, с. 267, 271-274; Нильсен 2002). Согласно точке зрения Г. А. Брутяна, КММ охватывает знания, полученные в ходе чувственно-логического познания мира и закрепленные в понятиях, а ЯММ - знания, отражающие результаты исключительно языкового познания и зафиксированные в словах и прочих типах языковых выражений. Обе модели находятся друг с другом в отношении включения: ЯММ в главной своей части совпадает с КММ, но помимо этого содержит в себе периферийную, сугубо лингвистическую информацию, отсутствующую в последней. Эта информация варьирует от языка к языку и дополняет научные представления о мире, которые составляют основу КММ и являются инвариантными, независимыми от языка. Здесь у нас вызывают возражения несколько моментов. Во-первых, трудно признать правомерным отождествление КММ с корпусом научных знаний: если бы все наивные носители языка мыслили сообразно формальным научным канонам, они не были бы наивными и ничем не отличались бы от самих исследователей; ошибочность такого взгляда доказывается многочисленными психолингвистическими экспериментами (см., напр.: Семантика и категоризация 1991). Во-вторых, сомнение возникает в связи с существованием "беспонятийных слов", не имеющих никаких концептуальных коррелятов: еще В. фон Гумбольдт по этому поводу писал, что "понятие точно так же не может быть отделено от слова, как человек от черт сво-
14 Разграничение между наивным и научным мировоззрением проводил еще Уорф (Whorf 1956а, р. 221-222), но
он постулировал лингвистическую обусловленность для обеих разновидностей КМ, в то время как по совре
менным воззрениям это верно только в отношении первой из них.
15 Как справедливо отмечает О. А. Корнилов, "языковое сознание может приписывать слову элементы значения,
не соответствующие научному знанию о называемом объекте" (Корнилов 1999, с. 37). В виде иллюстрации
можно привести хрестоматийный пример Л. В. Щербы со словом прямая: как геометрический термин оно озна
чает 'кратчайшее расстояние между двумя точками', а как единица обыденного языка - 'линия, которая не ук
лоняется ни вправо, ни влево (а также ни вверх, ни вниз)' (Щерба 19746, с. 280).
его лица" (Гумбольдт 2001а, с. 110-1 И)16. В-третьих, едва ли состоятелен тезис о единой и универсальной понятийной основе мышления, инвариантной относительно языка: так, в когнитивной лингвистике резко критикуется идентичное положение о том, что "в процессе мышления все люди используют одну и ту же концептуальную систему" (Лакофф 1995, с. 148)17. Обобщая сказанное, мы находим недостаточно убедительной идею о двух взаимно несовпадающих картинах мира - языковой и концептуальной. По крайней мере, в формулировке Г. А. Брутяна данная идея не получает эмпирического подтверждения и нуждается в коренной переработке.
Выше мы неоднократно упоминали о воплощении человеческих знаний в языке, не давая никаких конкретных указаний, где именно в языковой системе хранятся эти знания. Теперь настало время внести надлежащие уточнения. Наивные языковые знания и образованная их совокупностью ЯКМ отлагаются в плане содержания языка, в семантике его лексических и грамматических средств. "Есть все основания утверждать, - пишет В. Б. Касевич, - что... семантическая система и есть форма существования картины мира" (Касевич 1996, с. 210)'. Как признает большинство исследователей, наивная картина мира "не только отражается в значениях слов, но и управляет их употреблением" (Апресян 1969, с. 15). Следовательно, для того чтобы получить представление о том, как языковые субъекты воспринимают тот или иной фрагмент окружающей действительности, необходимо истолковать значения лексических единиц, с помощью которых данный фрагмент репрезентируется в языке, на основе анализа их употреблений. Поскольку объектом настоящего исследования является "наивная социология" средневековых монголов, наша задача должна состоять в семантическом толковании всей среднемонгольскои социальной лексики, в значениях которой она получила свое отражение. Конечным итогом такого толкования и будет полная реконструкция монгольской наивной концепции общества XIII-XIV вв. как составной части ЯКМ сред-немонгольского языка.
Это возражение действительно и для авторов коллективной монографии "Роль человеческого фактора в языке", которые вслед за Г. А. Брутяном брали за основу оппозицию КММ и ЯММ, но меняли соотношение между ее членами на противоположное (в соответствии с их трактовкой, КММ содержательно богаче и сложнее ЯММ), тем самым допуская существование невербализованных понятий (Серебреников 1988а, с. 6; 19886, с. 107; Уфимцева 1988, с. 138-139; Кубрякова 1988, с. 141-145, 169-171). В данной связи уместно также процитировать замечание Э. Бенвениста: "В сознании нет пустых форм, как нет и не получивших названия понятий" (Бенвенист 2002г, с. 92).
17 Значительно раньше в таком же ключе высказывался Л. В. Щерба: "Сравнивая детально разные языки, мы
разрушаем ту иллюзию, к которой нас приводит знание лишь одного языка, - иллюзию, будто существуют не
зыблемые понятия, которые одинаковы для всех времен и для всех народов" (Щерба 1974в, с. 316).
18 Положение о тесной взаимосвязи языковых значений и знаний о мире доказывают и представители когни
тивной лингвистики: "Значения - это когнитивные структуры, встроенные в модели знаний и убеждений"
(Taylor 1995, р. 83).
Однако для целей нашего исследования поставленная задача представляется слишком масштабной. Толкование лексических значений - исключительно сложный и трудоемкий процесс, требующий значительных затрат времени и интеллектуальной энергии. Непременным условием исчерпывающего семантического описания группы среднемонгольских социальных терминов является тщательный анализ употреблений каждого из них во всех письменных памятниках на среднемонгольском языке, содержащих эти употребления. Такого рода анализ, конечно, невозможно осуществить в рамках настоящей диссертации. По указанной причине мы решили ограничиться несколькими наиболее часто встречающимися в среднемонгольских текстах лексическими единицами с "социальной" семантикой: ulus, irgen, uruq и haran, присовокупив к ним анализ слова oboq, которое хотя и имеет сравнительно невысокую частотность употребления, но чрезвычайно интересно в силу некоторых присущих ему семантических особенностей (статус гиперонима для целого класса групповых названий) и вследствие своего центрального положения в современных дискуссиях по вопросу о социальном устройстве средневековых монголов. Если принять во внимание сделанную оговорку, обсуждаемые нами социальные термины могут быть отнесены к числу ключевых слов средневековой монгольской культуры. Поясняя введенное ей понятие ключевых слов культуры, А. Вежбицкая указывает на два важнейших критерия, в соответствии с которыми то или иное слово есть основания расценивать как ключевое: частотность и отнесенность к какой-либо одной семантической сфере (Вежбицкая 2001, с. 36). Среднемонгольские слова, к рассмотрению которых мы обратимся в настоящей работе, удовлетворяют обоим критериям. Однако это не главное. Главный критерий, по словам А. Вежбицкой, заключается в том, чтобы в результате исследования предполагаемых ключевых слов "быть в состоянии сказать о данной культуре что-то существенное и нетривиальное" (Там же, с. 37). Смею надеяться, что нам это - хотя бы отчасти - удалось.
Таким образом, в качестве непосредственного предмета исследования мы взяли наивные культурные представления, заключенные в значениях пяти социальных терминов среднемонгольского языка - ulus, irgen, oboq, uruq и haran. Эти представления относятся к определенному выше объекту нашего исследования — монгольской средневековой концепции общества — как часть к целому. Хронологические рамки исследования заданы датировкой дошедших до нас текстов на среднемонгольском языке (начало ХШ-конец XIV вв.). Цель исследования состоит в том, чтобы выявить культурные представления средневековых монголов о социальном мире, отраженные в семантике указанных лексических единиц. Исходя из сформулированной цели, основными задачами исследования являются:
эксплицировать значение данных социальных терминов и представить его в терминах семантического метаязыка;
определить характер смысловых взаимосвязей выражаемых ими понятий, установить место последних в рамках среднемонгольской ЯКМ;
опираясь на результаты проведенного анализа, выявить характерные черты монгольской наивной концепции общества XIII-XIV вв.;
рассмотреть эвристическую ценность полученных результатов для создания целостной картины средневекового монгольского общества, наметить пути дальнейшей разработки избранной проблематики и ее теоретического осмысления.
Теоретическая значимость исследования видится нам в том, что оно способно лечь в основу нового, феноменологического подхода к изучению средневекового монгольского общества, ориентированного на описание социокультурной системы с позиции ее субъектов, носителей наивных языковых представлений. Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы при составлении научных монографий и статей, посвященных тем или иным аспектам истории и культуры средневековых монголов. Выполненные нами семантические толкования среднемонгольских социальных терминов могут найти место в лингвистических описаниях и словарях среднемонгольского языка.
Как вытекает из сказанного, исследование носит комплексный характер; его проблематика находится на пересечении двух научных дисциплин: этнологии и лингвистики.
Завершить данный структурный раздел диссертации мы хотели бы кратким разъяснением того, что мы понимаем под термином "лексическое значение". Предоставить такое разъяснение важно, прежде всего, потому, что в семантических исследованиях слову "значение" придается самое разное значение (см., напр.: Ogden, Richards 1945, ch. 9; Фриз 1962, с. 106-108); это обстоятельство порой существенно затрудняет взаимопонимание между представителями различных направлений семантики19. Условимся, что в дальнейшем мы будем разделять общее понятие "лексическое значение" на две составляющие: экстенсионал (множество называемых словом объектов действительности) и интенсионал (выражаемые словом свойства всех элементов данного множества). Оба термина заимствованы в лингвистику из логики и пользуются широким употреблением среди специалистов по семантике. Восходят они к работам немецкого логика Г. Фреге (1848-1925), который первым предложил различать "значение" (Bedeutung) - соотносимый с именем чувственный объект и "смысл" (Sinn) - способ его представления в языке (Фреге 1997). Сами термины "экстенсионал" и интенсионал" принадлежат австро-американскому философу неопозитивистской ориентации Р. Карнапу (1891-1970), положившему их в основу теоретического аппарата формальной семантики
(Карнап 2000). Для обозначения отдельного элемента экстенсионала, т. е. конкретного объекта, к которому отсылает слово в тексте, мы будем использовать термин "референт". Охарактеризовав терминологическую базу исследования, мы рассчитываем избежать возможных концептуальных недоразумений.
Методы исследования. Для достижения поставленной в диссертации цели был использован ряд широко известных методов структурной семантики. В наибольшей степени мы опирались на дистрибутивный метод анализа, который базируется на принципе обусловленности значения слова его употреблениями в письменных и / или устных текстах. Узловое для этого метода понятие дистрибуции определяется как "совокупность окружений, в которых данная единица встречается в речи, или совокупность "совместных встречаемостей" данной единицы с одноименными единицами" (Степанов 1975, с. 203). Таким образом, семантическое исследование в рамках дистрибутивного метода необходимо предполагает тщательное изучение по возможности всех языковых контекстов, в которых зафиксирована анализируемая лексическая единица, а подобное изучение "в свою очередь требует освободиться от ложных "очевидных истин", от ссылок на "универсальные" семантические категории, от смешения данных, подлежащих исследованию, с данными языка исследователя" (Бенве-нист 2002е, с. 349). По существу, речь идет о своего рода "презумпции незнания", от которой в своей работе должен отправляться исследователь семантики и которая дает ему возможность получить максимально надежные и достоверные результаты (об этой презумпции см.: Корнилов 1999, с. 79). Указанные методологические положения были разработаны американскими дескриптивными лингвистами в 1930-40-х гг. первоначально в области фонологии и морфологии, а позднее были перенесены на семантику; они "возникли из того продиктованного изучением индейских языков убеждения, что лингвист подобен дешифровщику или естествоиспытателю, не имеющему никакой заранее заданной информации об объекте, который он собирается изучать. Единственной реальностью, с которой лингвист имеет дело, является текст, подлежащий "дешифровке". Все сведения о "коде" (языке), лежащем в основе этого текста, должны быть выведены исключительно из анализа последнего" (Апресян 1966, с. 44-45).
Применительно к лексическим значениям дистрибутивный метод неоднократно демонстрировал свою эффективность, и в настоящее время он считается одним из важнейших инструментов семантического анализа. Среди лингвистов пользуется значительным распространением идея о том, что "все основные элементы значения, включая его стилистическую и эмоциональную характеристику, находят достаточное отражение в его дистрибуции" (Ап-
19 Согласно обоснованному замечанию Дж. Лайонза, "терминология семантики богата и прямо-таки сбивает с толку, так как употребление терминов у разных авторов отличается отсутствием какой-либо последовательно-
ресян 1962, с. 57). В частности, разные значения полисемичного слова поддаются выделению согласно дистрибутивному критерию, т. е. исходя из различий в контекстных условиях их реализации. Именно в соответствии с данным критерием нами были выявлены несколько значений у слов oboq (гл. 2), игщ и harem (гл. 3). При этом мы руководствовались тем допущением, что "в принципе может быть установлено одно-однозначное соответствие между некоторым значением и некоторой дистрибуцией" (Апресян 1962, с. 60).
Теоретический фундамент дистрибутивного метода образует гипотеза о синтагматической (контекстной, позиционной) обусловленности значений, суть которой заключается в том, что лексическим единицам присущи определенные ограничения на сочетаемость, диагностирующие их семантические свойства и позволяющие предсказывать их появление в тех или иных контекстах (подробнее см.: Апресян 19956). Проиллюстрировать эту гипотезу можно на примерах из одной известной работы по семантике: "Так, глаголы, подобные talk 'говорить', think 'думать', dream 'мечтать', связаны только с субъектами, имеющими <се-мантический> признак 'ЧЕЛОВЕК', drink 'пить' требует объект с признаком 'ЖИДКОСТЬ', прилагательное blond 'белокурый' требует субъекта, значение которого включает такой признак, как волосы" (Бирвиш 1981, с. 183). Большую роль здесь играет понятие лексических солидарностей, под которыми имеются в виду отношения односторонней импликации между лексическими значениями отдельных языковых единиц или классов единиц (Косериу 1969). Обращаясь к приведенным примерам, легко увидеть, что семантика ментальных предикатов и глаголов речевой деятельности включает в себя обязательную отсылку к смыслу 'человек', обратное же неверно: семантика слова человек не определяется через значения вышеназванных глаголов, так как его референт способен выполнять чрезвычайно широкий диапазон действий, который не исчерпывается речевыми и ментальными актами. Отсюда следует, что человек для глаголов типа говорить, думать, мечтать является детерминирующей лексемой, а сами эти глаголы по отношению к ней - детерминированными лексемами (Там же, с. 99). Непосредственный интерес для нас представляет то обстоятельство, что, зная семантику детерминированной лексемы, можно с большей или меньшей точностью определить семантические характеристики соответствующей ей детерминирующей лексемы. К примеру, если в контексте лексемы ulus употребляются слова sandur= 'паниковать', jobalang 'страдание', ami 'жизнь', kol 'нога', qar 'рука', закономерно напрашивается вывод, что мы имеем дело с каким-то обозначением для людей (см. гл. 1); такой же вывод относительно irgen вытекает помимо прочего из того, что данное слово замещает позицию субъекта при глаголах ке'е= 'говорить', durat= 'вспоминать', ауи= 'бояться', kilingla= 'сердиться' и т. п. (см. гл. 2).
сти и единообразия" (Лайонз 1978, с. 427).
Конечно, подобного рода выводов недостаточно для создания полного семантического "портрета" лексической единицы, тем более что значения слов имеют разную степень синтагматической обусловленности (Медникова 1974, с. 136-138). Поэтому анализ присущей слову сочетаемости, как правило, должен дополняться изучением парадигматических связей, в которые оно вступает с другими членами языковой системы, составляющими с ней одну лексико-семантическую группу (семантическое поле). Согласно Э. Бенвенисту, значение лексемы следует определять "посредством двух отношений: отношения к другим элементам, одновременно представленным в том же отрезке высказывания (синтагматическое отношение), и отношения элемента к другим, взаимоподставимым элементам (парадигматическое отношение)" (Бенвенист 2002д, с. 130). Вычленив с помощью дистрибутивного метода группу лексических единиц, взаимоподставимых в одних и тех же контекстах, надлежит подвергнуть их значения сравнительному анализу с целью обнаружения в составе последних как общей, так и несовпадающих частей. В данном случае трудно обойтись без привлечения сопоставительного метода, который используется при изучении семантически близких единиц языка (см.: Кронгауз 2001, с. 99-101). Мы неоднократно прибегали к этому методу в ходе описания лексико-семантической группы названий для людей {ulus, irgen, haran), анализ которой образует основу диссертации. Благодаря применению сопоставительного метода нам удалось выявить различающиеся компоненты значений слов ulus и irgen (гл. 2), irgen и haran (гл. 3), установить область пересечения экстенсионалов слов ulus и irgen (гл. 1 и 2), ulus и haran (гл. 3), irgen и haran (гл. 3).
Представление семантических данных, полученных в результате использования дистрибутивного и сопоставительного методов, осуществлялось нами с опорой на метод компонентного анализа, предполагающий разложение значения слова на более простые состав-ляющие (семантические компоненты) . Компонентный анализ плана содержания язьпсовых единиц возник по аналогии с принципами описания их плана выражения, принятыми в фонологии (Звегинцев 1981, с. 9). Подобно тому как фонема представляется в виде пучка дифференциальных (смыслоразличительных) признаков, лексическое значение в рамках компонентного анализа описывается как определенный набор семантических компонентов, либо просто сополагаемых друг с другом в произвольном порядке, либо комбинируемых в выражения естественного языка. Мы выбрали второй из этих вариантов; поэтому, например, зафиксировав наличие у слова haran семантических компонентов 'люди', 'быть лично несвободным' и 'служить кому-либо', мы не стали ограничиваться их простым сочинением, а объ-
Кроме термина "семантические компоненты", в литературе существует целый ряд альтернативных наименований этих составляющих: "дифференциальные элементы", "фигуры содержания", "семантические множители", "семантические маркеры", "ноэмы", "семы" и др. (см: Гулыга, Шендельс 1976, с. 294).
единили их в синтаксически связанное толкование 'лично несвободные люди, служащие X-у', где X являет собой переменную, заполняемую по контексту (см. гл. 3).
Компонентный анализ принадлежит к наиболее известным и признанным методам структурной семантики. По справедливому мнению М. А. Кронгауза, "фактически любой семантический анализ подразумевает в той или иной степени разложение значений на более простые компоненты" (Кронгауз 2001, с. 102). Начало разработки теоретических основ данного метода было положено в 50-х гг. XX в. исследованиями американских этнолингвистов (Lounsbury 1956; Goodenough 1956). Сначала он был успешно опробован на материале терминов родства различных (в основном, америндских) языков, а впоследствии сфера его приложения расширилась настолько, что стала включать в себя лексические и грамматические значения практически любых семантических классов . Закономерным следствием быстрого роста популярности названного метода явилось то, что вплоть до настоящего времени "ни одна адекватная теория смысла не может обойтись без процедур, обеспечивающих в той или иной степени компонентный анализ значений" (Апресян 1963, с. 113). В этом плане не составила исключения и предлагаемая работа.
Впрочем, в ряде лингвистических исследований эвристическая ценность компонентного анализа подвергается определенному сомнению. Здесь нужно упомянуть, в первую очередь, когнитивную лингвистику, где весьма распространена точка зрения о том, что наивный носитель языка, "по-видимому, оперирует со смыслами, не разлагая их на элементарные единицы, или, иными словами, не описывает смысловые единицы через простые признаки" (Семантика и категоризация 1991, с. 129; ср. также: Залевская 1998, с. 39-40). Утверждается, что говорящий воспринимает значения большинства слов как целостные смысловые образования — фреймы, гештальты, прототипы и т. п., не вьщеляя в них каких бы то ни было элементарных признаков, необходимых и достаточных для идентификации обозначаемого словом круга объектов. Признавая известную психолингвистическую обоснованность такого рода утверждений, мы, тем не менее, склонны полагать, что затронутая в них проблема не поддается столь однозначному и прямолинейному решению. Выше уже говорилось о различении двух базовых типов мьппления - дискурсивного и недискурсивного, из которых первый опирается на дискретные, а второй - на аналоговые ментальные модели. Отсюда естественным образом следует, что в функции дискурсивного мышления как раз и входит "признаковая" категоризация объектов, в то время как "целостная" обработка информации отвечает недискурсивному типу. Тем самым и "признаковый" и "целостный" подходы к семантике, судя по всему, отражают некоторые существенные черты наивного языкового
21 Об истории применения метода компонентного анализа в языкознании см. (Основы компонентного анализа 1969, гл. 1; Кузнецов 1980).
сознания, в равной мере присущие его носителям, но методологический статус и границы применимости каждого из данных подходов еще предстоит выяснить; пока на этот счет имеются лишь самые предварительные гипотезы (см., напр.: Семантика и категоризация 1991, с. 130-143)22.
Вспомогательную значимость для наших целей имели статистические методы, которые позволяют установить количественные закономерности на множестве каких-либо языковых фактов (подробнее см.: Фрумкина 1964). Мы воспользовались главным образом понятием частотности, или частоты встречаемости, лексических единиц, давшим возможность количественно оценить как соотношение этих единиц друг с другом, так и соотношение значений у каждой из них по степени употребительности, различия в которой свидетельствуют об их (лексем и значений) неравноценной важности для говорящих (см. в особенности анализ слова oboq в гл. 2). Нужно учесть, что наиболее частотные значения, как правило, носят самый общий и нейтральный характер, а наименее частотные одновременно являются и наиболее специализированными (семантически, стилистически и эмоционально) (см.: Апресян 1962, с. 57-58). Существует также семантический закон Е. Куриловича, согласно которому "чем уже сфера употребления, тем богаче содержание (смысл) понятия; чем шире употребление, тем беднее содержание понятия" (Курилович 2000, с. 11). Указанные корреляции между частотностью слов и характером их значений помогли нам сделать выводы о некоторых семантических свойствах обсуждаемой в диссертации лексики.
В связи со сказанным может сложиться впечатление, будто рассмотренные нами методы при надлежащем использовании способны привести к абсолютно точным, достоверным и объективным результатам. Мы считаем своим долгом предостеречь читателя от этой иллюзии. Укажем четыре основных причины, почему такие результаты никогда не могут быть достигнуты. Во-первых, нельзя игнорировать т. н. "принцип неединственности семантических описаний", который гласит, что имеется теоретически неограниченное число возможностей альтернативного описания одних и тех же семантических явлений исходя из разных познавательных установок (см.: Апресян 1995а, с. 64-65; Кронгауз 2001, с. 137). Во-вторых, любой семантический анализ испытывает значительное влияние "субъективного фактора" —
Отметим, что даже вне всякого отношения к когнитивным стратегиям говорящих компонентный анализ обладает безусловной операциональной полезностью в качестве удобного метаязыка для представления отдельных групп лексических значений (ср.: Burling 1964). Мы находим правомерным согласиться с Ч. Филлмором в том, что "семантическая теория должна отказаться от предположения о возможности описания всех слов языка в одних и тех же терминах... Для описания некоторых слов информация о бинарных оппозициях естественна и необходима, тогда как для других полей она не нужна. Вероятно, существуют поля, для которых имеет смысл искать наиболее элементарные семантические компоненты, а для других полей это не имеет смысла" (Филлмор 19836, с. 50). "Признаковый" подход, которому соответствует метод компонентного анализа, оказался для нас наиболее подходящим инструментом семантического описания, но мы не исключаем того, что значение других (или даже тех же самых) лексических единиц можно достаточно эффективно описывать и иными способами, в том числе и с применением "целостного" подхода.
лингвистической интуиции исследователя и заранее сложившихся у него идей, которыми он неизбежно руководствуется в ходе интерпретации языковых данных (Медникова 1974, с. 104; Фрумкина 1979, с. 159-160). В-третьих, наблюдается отсутствие четкой грани между собственно семантической (языковые знания) и энциклопедической (экстралингвистические знания) информацией, которая выражается словом (см., напр.: Филлмор 1983а, с. 117-118; Виноград 1983, с. 136; Павилёнис 1983, с. 46-47, 197-198; Чулкина 1985, с. 37; Taylor 1995, р. 81-83). В-четвертых, необходимо принимать во внимание специфичную для мертвых языков (к коим относится среднемонгольский) ограниченность наличного языкового материала, на основании которого исследователь строит свои заключения. Как писал Л. В. Щерба, "для одних значений его более чем достаточно, для других его мало, и каждый случай употребления данного слова может оказаться в той или другой степени ценным для разных выводов" (Щерба 19746, с. 286). Однако поскольку все перечисленные методологические трудности выступают неотъемлемой характеристикой семантического анализа, они не должны смущать исследователя семантики и могут просто оставляться им за скобками (что обычно и делает-
ся) . В конце концов, известная доля неопределенности присутствует во всех объяснительных схемах социальных наук, отчего они не считаются заведомо бесполезными. Существенно лишь, чтобы подобные схемы удовлетворяли условию соответствия фактическим данным; нам представляется, что в настоящем исследовании это условие было соблюдено.
Источники исследования. Источниковую базу диссертации образуют дошедшие до нас письменные памятники XIII-XIV вв. на среднемонгольском языке, содержащие употребления социальных терминов, семантика которых находится в фокусе наших интересов. Под среднемонгольским в работе понимается тот период развития монгольского языка, который непосредственно следует за древним (или общемонгольским) периодом и охватывает XIII-XVI вв.24 Языку этого периода были свойственны следующие отличительные особенности:
Ср. следующее высказывание одного современного автора: "Невозможность идеально полной семантизации слова следует принимать как данность, которая не зависит от конкретных способов семантизации" (Корнилов 1999, с. 300).
24 Вопрос о периодизации истории развития монгольского языка и, в частности, о границах среднемонгольского периода не имеет общепринятого решения (см.: Орловская 1986). Самая известная периодизация принадлежит Б. Я. Владимирцову, который различал три хронологических периода: древний (от неизвестного времени до начала XIV в.), средний (от начала XIV в. до второй половины XVI в.) и новый (от конца XVI в. до XX в.) (Вла-димирцов 1989, с. 19-25, 33). Согласно этой периодизации, эпоха, которой датируются используемые нами источники, совпадает с концом древнего и началом среднего периода. Несколько иного мнения придерживался Н. Н. Поппе: он полностью включал данную эпоху в рамки среднемонгольского периода, продолжавшегося, с его точки зрения, от начала XIII до конца XVI в. (Рорре 1955, р. 15-16; 1974, 3). Промежуточную позицию занимал А. Лувсандэндэв, подразделявший средний период (начало ХШ-середина XVII в.) на два этапа, границей между которыми он считал начало XIV в. (Лувсандэндэв 1972). Близкие к этому взгляды мы находим у Л. Ли-гети, в работах которого среднемонгольский период распадается на две фазы: первую (XIII-XIV вв.) и вторую (XV-начало XVII в.) (Ligeti 1971, р. 5). Наиболее фактологически обоснованной нам представляется периодизация Н. Н. Поппе, так как только она согласуется с тем обстоятельством, что письменные памятники XIII-XIV
наличие анлаутного глухого спиранта /h/ < общемонг. */р/ или */f/;
исчезновение интервокальных согласных */у/ и */g/, еще не приведшее к образованию долгих гласных;
отсутствие т. н. "перелома" /і/ и лабиализации анлаутного /е/, характерных для современного периода;
употребление шипящих аффрикат І&У и /t$/ вместо свистящих /dy и /ts/ во всех
позициях (см.: Санжеев 1953, с. 22-26; Рорре 1955, р. 15-16; 1974, 1-4).
Среднемонгольский язык распадался на ряд диалектов, различия между которыми были не очень значительными. Е. А. Кузьменков пишет о трех группах диалектов: восточной, западной и южной. К первой он относит язык "Тайной истории монголов" (см. ниже) и памятников квадратного письма, ко второй - языковой материал, переданный среднеазиатскими источниками XIII-XIV вв., тогда как южные диалекты (сяньбийско-киданьскую ветвь) он считает основой, на которой сложился старописьменный монгольский язык (Кузьменков 1993, с. 324-325). Данная классификация с лингвистической точки зрения выглядит достаточно удачной, поэтому мы приняли решение взять ее за отправную точку и распределить по ее рубрикам используемые в работе источники. Однако прежде необходимо сделать одну важную оговорку. Большинство описываемых ниже письменных памятников составляют тексты на старописьменном монгольском языке, который, как отмечал Е. А. Кузьменков, имел своим прототипом южные диалекты среднемонгольского языка. Тем не менее следует иметь в виду, что старописьменный язык с его письменностью на базе уйгурского алфавита на протяжении среднего периода использовался носителями всех монгольских диалектов в функции общемонгольского литературного языка, носившего наддиалектный характер (Санжеев 1953, с. 18). В силу этого тексты на старописьменном монгольском языке (точнее, на среднемонгольском языке в уйгуро-монгольской графике) занимают довольно специфическое положение в рамках классификации, основанной на диалектных признаках. Их включение в эту классификацию допустимо лишь с известной натяжкой, принимая во внимание скорее диахронический аспект, нежели синхроническое состояние старописьменного языка в среднемонгольский период.
А) Тексты на восточносреднемонгольских диалектах
вв. не обнаруживают между собой сколько-нибудь существенных лингвистических отличий, которые позволили бы без затруднений разнести их по двум отдельным этапам или фазам развития монгольского языка. На наш взгляд, все эти памятники отображают в сущности одну и ту же языковую систему, за которой имеет смысл сохранить традиционный термин "среднемонгольский язык".
В дополнение к сказанному нужно отметить, что поскольку монголоязычные источники XV-XVI вв. насчитывают единицы и к тому же являются весьма слабо изученными, мы посчитали возможным исключить их из рассмотрения и ограничиться основным корпусом текстов на среднемонгольском языке, который восходит именно к эпохе XIII-XIV вв.
1) "Тайная история монголов" (ТИМ) . Самый известный и один из самых древних письменных памятников на среднемонгольском языке. Открытая европейской наукой в середине XIX в., ТИМ к настоящему времени превратилась в объект целой научной субдисцип-
« 26
лины внутри монголоведения, которая ставит своей задачей ее всестороннее исследование . Л. В. Кларк справедливо указывал на "центральное место, которое данный памятник занимает в изучении монгольской истории, литературы, языка и общества" (Clark 1978, р. 35). Поскольку исключительная важность ТИМ для исследований по среднемонгольскому языку считается общепризнанным фактом, в настоящей диссертации ее анализу уделяется наиболее значительное внимание.
Оригинал сочинения, написанный предположительно уйгуро-монгольским пись-мом , является утраченным. До нас текст ТИМ дошел в китайской слоговой транскрипции, выполненной в конце XIV в. (ок. 1382 г.) учеными китайской академии Ханьлинь Хо Юань-цзе и Машаихэй, которым принадлежит также составление китайско-монгольского словаря "Хуаи июй" (см. ниже) . Транскрибированный китайскими иероглифами монгольский текст делится на главы (цзюани)29 и параграфы, которые, очевидно, отсутствовали в оригинале и были введены авторами транскрипции (Hung 1951, р. 483; Rachewiltz 1965, р. 204; Мункуев 1979, с. 16-17). Транскрипция снабжена подстрочным переводом каждого монгольского слова на китайский язык, а также связным, но сокращенным китайским переводом (он приводится в конце каждого параграфа). Соответственно одной из самых сложных проблем для исследователей ТИМ выступает реконструкция монгольского текста памятника на основе его китайской транскрипции с учетом всех имеющихся данных по фонетике среднемонголь-ского и среднекитайского языков. Несмотря на то, что на сегодняшний день существует не-
В скобках указывается сокращение, которое используется при ссылках на соответствующий источник.
26 История научного изучения ТИМ подробно изложена в работах (Aalto 1951; Мункуев 1979; Хомонов 1989;
Булаг 1993; Таубе 1993; Цендина 1993; Яхонтова 1993; Улымжиев 1995).
27 Гипотеза о том, что в оригинале ТИМ была записана уйгуро-монгольским алфавитом, кажется нам самой ар
гументированной. Особенно серьезные доводы в ее пользу привел Л. Лигети, согласно которому ряд ошибок в
китайской транскрипции монгольских имен и терминов невозможно объяснить иначе, как неверным прочтени
ем знаков уйгуро-монгольской письменности (Ligeti 1966; 1971, р. 11-12). Другие гипотезы (о том, что памят
ник с самого начала существовал в записи т. н. "китайско-монгольским письмом"; о том, что он был написан
или переписан на квадратной письменности) имеют под собой менее убедительную основу.
28 О принципах китайской транскрипции монгольского текста ТИМ см., напр. (Lewicki 1949, р. 16-88; Ligeti
1971, р. 12-20; Кузьменков 1993).
Известные науке списки ТИМ содержат одинаковый текст, но имеют разное деление на главы. Большинство списков включает в себя 12 глав (10 основных и 2 дополнительных), между тем как в некоторых текст подразделяется на 15 глав. Списки с делением на 12 цзюаней, по-видимому, восходят к минскому печатному изданию конца XIV в., а списки, разбитые на 15 цзюаней, - к тексту, вошедшему в энциклопедию "Юнлэ дадянь" (свод литературных произведений по всем отраслям знания, составленный в 1403-1408 гг.) (см.: Hung 1951, р. 433-465). Как утверждал Б. И. Панкратов, разное количество глав в существующих списках ТИМ "является результатом чисто механического деления одного и того же текста, произведенного по непонятным соображениям" (Панкратов 1962, с. 7).
сколько вариантов такой реконструкции (наиболее известны издания Э. Хениша, С. А. Козина, П. Пелльо, Л. Лигети, И. де Рахевильца), полное и окончательное решение указанной проблемы так и не достигнуто.
Название "Тайная история монголов" (mongqol-un ni'uca tofbjca'an), под которым памятник получил свою известность30, едва ли присутствовало в оригинале. Исследователи неоднократно обращали внимание на то, что слова cinggis-qahan-nu huja 'иг 'происхождение
(букв, 'корни') Чингисхана', которые теперь образуют первую строку сочинения, грамматически независимы от последующего текста и могут с большой вероятностью рассматриваться как первоначальное заглавие всего памятника или его части (см.: Hung 1951, р. 466-467, 484; Панкратов 1962, с. 9-11; Мункуев 1979, с. 8-Ю; Vietze 1995). По обоснованному предположению Б. И. Панкратова, ныне принятое название возникло после падения монгольской династии Юань (1271-1368), когда китайские ученые, занятые разбором дворцовых архивов, обнаружили сочинение в закрытом для постороннего доступа отделении архива и поэтому назвали его "Юань биши" ("Тайная история Юаней"). Через 10-15 лет памятник решили использовать в качестве учебного пособия для подготовки переводчиков монгольского языка; с этой целью монгольский текст затранскрибировали китайскими иероглифами и сопроводили двумя (подстрочным и связным) переводами на китайский язык. Тогда же недавно присвоенное китайское регистрационное название было передано по-монгольски как mongqol-un ni'uca tofbjca'an 'Тайная история монголов'. (Данный перевод сделан мелкими иероглифами под китайским заглавием.) (Панкратов 1962, с. 9-11) .
Серьезные дискуссии вызывают вопросы авторства ТИМ и времени ее составления. В тексте сочинения автор не указан, а все попытки определить его личность исходя из косвенных свидетельств не приводят к надежным результатам (см.: Базарова Г. Э. 1977; Мункуев 1979, с. 10-15). Если обратиться к датировке памятника, то, судя по колофону, ТИМ была написана во время курилтая (съезда монгольской знати) на о. Кбдэ'э-арал на р. Кэлурэн в 7-м месяце года мыши (по т. н. животному циклу). В переводе на европейское летосчисление год мыши может соответствовать 1228, 1240, 1252, 1264 гг. и т. д. Поскольку в сочинении вкратце описываются события правления ка'ана Огбдэя (1229-1241), но не сообщается о его смерти, первые исследователи ТИМ высказывали предположение о том, что датой ее на-
30 В отечественной литературе сочинение зачастую фигурирует под ошибочным названием "Сокровенное ска
зание", которое обязано своим появлением первым переводам ТИМ на русский язык. О причинах и истории
распространения этого названия см. (Базарова Б. 3. 1995).
31 Другая точка зрения была выдвинута И. де Рахевильцем, который связывал происхождение современных ки
тайского и монгольского названий сочинения с тем, что оно якобы входило в состав т. н. tobiiyan — историче
ских компиляций о правлении монгольских ка'анов начиная с Чингисхана, составленных при Юанях и носив
ших крайне засекреченный характер (Rachewiltz 1965, р. 202). Однако в опровержение этой точки зрения можно
сослаться на У. Хуна, отмечавшего, что ТИМ сама по себе не содержит никакой секретной информации, кото
рую следовало бы оберегать от разглашения (Hung 1951, р. 485).
писания нужно считать 1240 г. Последующие ученые, основываясь на текстологическом анализе отдельных мест памятника, склонялись к другим из перечисленных выше вариантов датировки (см.: Hung 1951; Doerfer 1963; Rachewiltz 1965; Мункуев 1979, с. 15-26; Yu Da-djun 1987). Наибольшей убедительностью, по нашему мнению, обладает версия о том, что единство сочинения в его нынешнем виде представляет собой продукт позднейшей редакторской обработки, осуществленной китайскими учеными в конце XIV в. Вслед за Г. Дёрфером и И. де Рахевильцем мы склонны допускать существование нескольких редакций ТИМ (Doerfer 1963; Rachewiltz 1965). Первая из них, как раз и имевшая название cinggis-qahan-nu huja'ur,
была составлена в 1228 г. во время курилтая, на котором провозгласили ка'аном сына Чингисхана Огбдэя. Эта редакция (она охватывала главным образом жизнеописание Чингисхана) в существующих списках сочинения совпадает с 1-268; именно к ней первоначально относился и колофон ( 282). Позднее (в 40-60-е гг. XIII в.) первая редакция была дополнена описанием событий периода правления Огбдэя ( 269-281) и некоторыми вставками идеологического характера, а окончательную форму памятник приобрел, видимо, только в ходе работы над китайской транскрипцией и переводом, когда в самый конец был перенесен со своего прежнего места колофон .
В настоящей работе использовано издание восстановленного монгольского текста ТИМ, подготовленное И. де Рахевильцем (Rachewiltz 1972). Оно включает в себя реконструкцию текста в латинской транскрипции, а также упорядоченный по алфавиту индекс всех встречающихся в тексте словоформ. Этот индекс позволил нам выделить все контексты употребления анализируемых лексических единиц и тем самым получить первичный материал для их семантического описания.
2) Памятники квадратной письменности (А 1, Ph I-XII, SrnPh). Квадратная письменность (названа так потому, что ее знаки имели квадратные очертания) была введена в 1269 г. указом ка'ана Кубилая в качестве официальной письменности Монгольской империи. Она была разработана тибетским ученым Пагба-ламой (1235 или 1239-1280) на базе тибетского алфавита, дополненного несколькими знаками для передачи монгольских фонем, отсутствовавших в тибетском языке. Квадратная письменность отличалась чрезвычайной точностью в отображении среднемонгольской фонетики по сравнению с уйгуро-монгольским алфавитом, который был плохо приспособлен для передачи фонетических особенностей среднемонгольского языка. Язык памятников квадратного письма обнаруживает существен-
Помимо определенного числа позднейших интерполяций в тексте ТИМ содержится ряд очевидных лакун и
s искажений. Некоторые из них, как показал П. Пелльо, объясняются ошибками китайских транскрипторов, в то
время как остальные, по всей вероятности, имелись уже в монгольской рукописи сочинения, которой пользовались эти транскрипторы (Pelliot 1930; 1941).
ные схождения с языком ТИМ; по-видимому, их общей основой послужил один из восточно-среднемонгольских диалектов XIII в. (Поппе 1941, с. 17; Рорре 1944, S. 114).
Новая письменность предназначалась для обслуживания не только монгольского языка, но и языков других народов Монгольской империи: китайского, тибетского, уйгурского и санскрита. Она должна была выполнять функции единого общегосударственного алфавита на всей территории империи. Однако несмотря на свой официальный характер, квадратная письменность не смогла отменить прежние системы письма, в частности, уйгуро-мон-гольский алфавит; ее применение ограничивалось почти исключительно сферой официального делопроизводства, тогда как литературные сочинения продолжали составляться преимущественно на уйгуро-монгольском письме. Основную массу памятников квадратной письменности образуют указы монгольских императоров династии Юань, десять из которых использованы в диссертации (Ph I, II, IV-X, XII). Надписи квадратным шрифтом делались также на пайцзах (знаках власти), печатях, монетах, ассигнациях, сосудах, зданиях и т. п. (см., напр.: А 1). Из литературных произведений на квадратном письме можно назвать лишь монгольский перевод "Субхашитаратнанидхи" (SraPh), выполненный где-то на рубеже XIII-XIV в., хотя есть сведения о том, что на этом письме существовали и некоторые другие сочинения юаньской эпохи.
После изгнания монголов из Китая (1368 г.) квадратная письменность.очень быстро вышла из употребления. Впоследствии она изредка использовалась в надписях на печатях, в заглавиях книг и пр.
В настоящей работе тексты на квадратном письме цитируются в латинской транскрипции по изданию Л. Лигети (Ligeti 1972b, p. 20-123).
3) "Хуаи июй" (НУ). В 1382 г. минский император поручил чиновникам академии Ханьлинь - "толкователю текстов" Хо Юаньцзе (монголу по происхождению) и "редактору" Машаихэй (< араб. Masa їй) составить китайско-инородческий словарь (кит. Хуаи июй) для
обучения переводчиков монгольского языка. Работе определенно придавалось большое значение, о чем может свидетельствовать тот факт, что предисловие к труду написал известный ученый Лю Саньу, который в то время занимал пост директора академии Ханьлинь. После завершения работы над словарем в 1389 г. был выпущен указ о его издании; в начале XV в. вместе с ТИМ он был включен в состав энциклопедии "Юнлэ дадянь" (см.: Lewicki 1949, р. 8-9; Haenisch 1952, S. 6-8).
HY состоит из двух частей. Первую часть образует китайско-монгольский словарь из 844 слов, который разбит на 17 тематических рубрик, посвященных астрономии, географии, временам года, цветам и деревьям, животным и птицам, жилищу, орудиям и утвари, одежде, пище, украшениям и драгоценностям, людям, действиям людей, цветообозначениям, именам
числительным, частям тела, названиям стран света и географических направлений, бытовым словам. Вторая часть представляет собой собрание образцов монголо-китайской дипломатической переписки 80-х гг. XIV в., которые служили начинающим переводчикам в качестве текстов для чтения. Документы из этого собрания делятся на две группы: первая включает в себя 5 императорских указов, адресованных различным монгольским владетелям, а вторую составляют 7 писем и обращений представителей монгольской знати к императорскому двору и нижестоящим властным инстанциям. Дата написания документов не указана, однако по описываемым в них историческим фактам их можно датировать 1384-1389 гг. (см.: Serruys 1954). Весь монгольский языковой материал в HY передан с помощью китайской транскрипции, принципы которой использовались также при транскрибировании монгольского текста ТИМ (подробнее см.: Lewicki 1949, р. 16-88; Haenisch 1952, S. 31-33; 1957, S. 6-7). Монгольские слова, встречающиеся в текстах документов, снабжены подстрочным переводом на китайский язык; кроме того, в первом разделе хрестоматии приводится связный поаб-
зацный китайский перевод (возможно, даже оригинал ) всех образующих его документов.
В лингвистическом отношении язык монгольских текстов из HY очень близок к тому среднемонгольскому диалекту, на котором были написаны как ТИМ, так и памятники квадратного письма (см.: Lewicki 1949, р. 89-132; Haenisch 1952, S. 35-37).
В настоящей работе используются только документы из второй части HY в латинской трпнскрипции Л. Лигети (Ligeti 1972b, p. 135-163).
В) Тексты на западносреднемонгольских диалектах
Западносреднемонгольскими принято называть диалекты, получившие отражение в трудах среднеазиатских и арабских филологов XIII-XIV вв. (Лейденский аноним, Ибн Му-ханна, "Мукаддимат ал-Адаб"), а также в сочинениях некоторых армянских и грузинских авторов (Киракос Гандзакеци, анонимный грузинский историк и пр.) (см.: Санжеев 1953, с. 25). В отличие от языка ТИМ, HY и памятников квадратного письма западным диалектам сред-немонгольского были присущи такие характерные черты, как начало образования долгих гласных на месте общемонгольских интервокальных комплексов Vy/gV, отдельные случаи "перелома" /і/ и лабиализации анлаутного /е/, наличие согласного /d/ < общемонг. І&У в начале и середине ряда слов. Большинство этих явлений окончательно оформилось на следующей стадии развития монгольского языка. Письменные памятники на западносреднемонгольских диалектах в массе своей состоят из довольно ограниченных по объему двуязычных словников, малопригодных для целей структурно-семантического анализа лексики. Исключением среди них является "Мукаддимат ал-Адаб", который содержит значительное количе-
Предположение о том, что монгольский текст первых пяти документов второй части словаря является переводом с китайского, было высказано Э. Хэнишем (Haenisch 1952, S. 6).
ство примеров на лексическую и синтаксическую сочетаемость отмеченных в нем монгольских слов. Это обстоятельство и послужило причиной того, что данный памятник - единственный из всех западносреднемонгольских текстов - был использован в нашей диссертации.
4) "Мукаддимат ал-Адаб" (МА). Четырехязычный (арабско-персидско-тюркско-мон-
гольский) словарь "Мукаддимат ал-Адаб" сохранился в поздней рукописи, датированной
1492 г. (хранится в Бухаре). Рукопись представляет собой копию арабско-персидского сло
варя аз-Замахшари (1075-1144), который в неизвестное время (предположительно в XIV в.)
был дополнен тюркским и монгольским языковым материалом, переданным в арабской гра
фике. Расширенный вариант словаря аз-Замахшари включает в себя несколько тысяч мон
гольских слов, как правило, не изолированных, а объединенных в целые фразы. Лексика сло
варя распределена по нескольким группам в соответствии с тематическим принципом. За
фиксированный в МА среднемонгольский диалект, по-видимому, относится к началу-сере
дине XIV в.
В настоящей работе МА цитируется по изданию (Поппе 1938). С) Тексты на старописьменном монгольском языке
5) "Чингисов камень" (Gen). Гранитная стела длиной 1, 992 м, шириной 64, 9 см и
толщиной 22 см с выбитой на ней надписью ( 5 строк уйгуро-монгольским алфавитом) счи-
тается древнейшим из известных науке памятников уйгуро-монгольскои письменности . Стела получила свое название оттого, что первую строку надписи образует имя Чингисхана; на самом деле надпись посвящена успехам в стрельбе из лука племянника Чингисхана Йи-сунгэ (ок. 1190-ок. 1270). Чтение надписи вследствие ее плохой сохранности представляет известные сложности и с момента обнаружения памятника в начале XIX в. вызывало разногласия среди исследователей (см.: Hambis 1960, р. 142-145). Наиболее удовлетворительное чтение и перевод предложены И. де Рахевильцем (Rachewiltz 1976, р. 487-488).
В настоящей работе ссылки на текст памятника даются по изданию Л. Лигети (Ligeti 1972а, р. 17-18).
6) Надпись на печати Гуйук-хана (Guy). Большая (14, 5 X 14,5 см) квадратная печать
с монгольской надписью (6 строк уйгуро-монгольским алфавитом) приложена к письму
Гуйук-хана папе Иннокентию IV. Само письмо, датируемое ноябрем 1246 г., составлено на
персидском языке. Оно было найдено в Ватиканском архиве в 1920 г. польским ученым К.
Кралевским . Печать оттиснута красными чернилами дважды: на месте склейки двух листов
34 Общепринятая датировка Gen (ок. 1225 г.) была убедительно подвергнута сомнению И. де Рахевильцем, ко
торый датировал текст надписи серединой 50-х гг. XIII в. (Rachewiltz 1976, р. 491-495). В таком случае Gen
должен уступить хронологический приоритет надписи с указом императрицы Тбрэгэнэ (1240 г.).
35 Перевод и исследование этого ценного документа монгольской канцелярии осуществил П. Пелльо (Pelliot
1923).
бумаги с текстом письма и в конце документа. Подробный анализ надписи с обширным комментарием см. (Mostaert, Cleaves 1952, p. 485-495).
В настоящей работе Guy используется в латинской транскрипции по изданию Л. Ли-гети (Ligeti 1972а, р. 20).
7) "Чаган тэукэ" ("Белая история") (СТ). Единственный монгольский источник,
специально посвященный описанию принципов взаимоотношений буддийской религии и го
сударства. Составлен между 1271 и 1280 гг. по приказу ка'ана Кубилая; должен был высту
пать своего рода кодексом поведения монгольских правителей по отношению к буддийской
церкви. Сочинение существует в 7 поздних рукописях, древнейшая из которых датируется 1 -
й половиной XIX в. Рукописи основаны на двух редакциях: первая (по-видимому, более
древняя) содержит также тексты, связанные с культом Чингисхана, а вторая (восходит к кон
цу XVI в.) не имеет такого дополнения. В рукописях имеются многочисленные ошибки и ис
кажения, очевидно, вызванные неоднократным переписыванием и стилистической обработ
кой текста (см.: Sagaster 1976, S. 53-65).
В настоящей работе сочинение цитируется в латинской транскрипции по изданию К. Загастера (Sagaster 1976).
8) Письмо илъхана Аргуна папе Николаю IV (Docll 3). Один из нескольких докумен
тов дипломатической переписки монгольских ильханов Ирана с римскими папами, храня
щихся в Ватиканском архиве. Письмо написано уйгуро-монгольским шрифтом на листе
льняной бумаги длиной 110, 3 см и шириной 26, 4 см. Оно датируется 14 мая 1290 г. (год ти
гра по животному циклу). Документ дошел до нас в фрагментарном виде: отсутствует не
сколько начальных строк. На нем поставлен оттиск квадратной печати с легендой на китай
ском языке (см.: Mostaert, Cleaves 1952, p. 423-424,445-467).
В настоящей работе ссылки на Docll 3 приводятся по изданию Л. Лигети (Ligeti 1972а, р. 248-249).
9) Письмо илъхана Олджэйту королю Филиппу Красивому (Docll 5). Относится к
числу самых известных памятников монгольского языка среднего периода. Документ, обна
руженный в начале XIX в. в Национальном архиве Франции, датируется 1305 г. (год змеи по
животному циклу). В нем ильхан Олджэйту объявляет о своем желании установить дружест
венные отношения с Францией и другими европейскими державами с целью заключения
союза для совместных действий против мусульманских государств на Ближнем Востоке.
Текст письма состоит из 42 строк уйгуро-монгольским алфавитом, написанных на листе ко
рейской бумаги длиной 3 м и шириной 48 см. На оборотной стороне имеется вольный пере
вод документа на итальянский язык. К письму приложено пять оттисков большой квадрат
ной печати с надписью на китайском языке (Mostaert, Cleaves 1962, p. 55-85).
В настоящей работе использована латинская транскрипция монгольского текста письма по изданию Л. Лигети (Ligeti 1972а, р. 252-255).
10) Монгольский перевод "Сяо цзин" (Hk). Практически полная (отсутствуют лишь
титульный лист, введение и колофон) копия двуязычного китайско-монгольского печатного
издания классического конфуцианского сочинения "Сяо цзин" ("Канон сыновней почтитель
ности") была найдена в 1940-х гг. в собрании редких книг Дворцового музея в Пекине. На
ходка является единственной известной на сегодняшний день печатной книгой XIII-XIV вв.
на уйгуро-монгольском письме. Ксилограф состоит из 38 листов двуязычного текста (по 7
строк на каждой странице) с китайской пагинацией. Китайский оригинал в нем разбит на
предложения, за каждым из которых следует вольный литературный перевод на монгольский
язык. Если соединить вместе отдельные монгольские предложения, мы получим самый
длинный уйгуро-монгольский текст среднего периода объемом свыше 2 тыс. слов. Точная
дата составления монгольского перевода и его автор неизвестны, однако в источниках есть
сведения о том, что 16 сентября 1307 г. был представлен императору и вскоре напечатан пе
ревод памятника, выполненный квадратным письмом (до наших дней не сохранился). По-ви
димому, в это же время или даже раньше появилось и издание на уйгуро-монгольском алфа
вите. Сам перевод был сделан предположительно в период правления ка'ана Кубилая (1260-
1294) (Xiaojmg 1978, S. 159-160; Rachewiltz 1982, p. 14-19).
В настоящей работе Hk цитируется в латинской транскрипции по изданию Л. Лигети (Ligeti 1972а, р. 76-104).
11) Монгольский перевод "Субхашитаратнанидхи" Сакья Пандиты (Srn). Сборник
457 стихотворных дидактических афоризмов религиозного и морального содержания на ти
бетском и монгольском языках под названием "Субхашитаратнанидхи" существует в двух
поздних списках: рукописи А (кон. XVI-нач. XVII в., хранится в библиотеке восточного фа
культета СПбГУ), с которой сделан ряд более поздних копий, и рукописи В (кон. XVI в.,
хранится в собрании восточных рукописей Венгерской Академии наук), независимой от пре
дыдущей. Обе рукописи содержат тибетский текст и его перевод на монгольский язык, кото
рые делятся на 9 глав. Авторство тибетского текста приписывается Сакья Пандите (1182-
1251), выдающемуся буддийскому религиозному деятелю средневековья; возможно, впро
чем, что на самом деле он лишь выполнял роль компилятора, собрав воедино различные ди
дактические афоризмы, распространенные в его время. Что касается монгольского перевода
уйгуро-монгольским алфавитом, он был выполнен где-то на рубеже XIII-XIV вв. неким Со-
ном гарой, данные о личности которого в источниках отсутствуют. Кроме уйгуро-монголь-
ской версии имеются также три разрозненных фрагмента печатного издания памятника на
квадратном письме (SrnPh). Как доказал Л. Лигети, уйгуро-монгольская версия является бо-
лее древней; именно с нее была сделана транскрипция квадратным письмом, которая легла в основу ксилографического издания (Ligeti 1964, р. 271-280; 1973, р. 13).
В настоящей работе монгольский перевод сочинения используется в латинской транскрипции, опубликованной Л. Лигети (Ligeti 1973).
Монгольские глоссы в "Сборнике летописей" Рашид ад-Дина (GlHp 2). "Сборник летописей" ("Джами 'ат-таварих"), составленный в начале XIV в. везиром и официальным историографом при дворе монгольских ильханов Рашид ад-Дином Фазлуллахом Хамадани (1247-1318), представляет собой уникальный по своей грандиозности исторический свод на персидском языке, охватывающий историю всех известных в эпоху средневековья народов мира. На полях одной из рукописей этого сочинения сохранились монгольские глоссы на уй-гуро-монгольском алфавите (главным образом имена различных представителей династии Чингисидов с небольшими пояснениями). Фотокопии глосс в 1930-е гг. поступили в распоряжение венгерского ученого Л. Лигети, однако были утрачены во время Второй мировой войны. Позднее Л. Лигети частично восстановил и издал текст глосс на основании своих заметок (Ligeti 1972а, р. 266-267). Данное издание и было использовано в настоящей работе.
Комментарий к монгольскому переводу "Бодхичаръяватары" Чойджи Одсэра (ВсаТ). Фрагмент (12 последних листов) печатного комментария к монгольскому переводу буддийского религиозного сочинения "Бодхичарьяватара" находится в составе т. н. Турфан-ской коллекции в Берлине. Как сам перевод, так и комментарий к нему принадлежат знаменитому ученому юаньской эпохи Чойджи Одсэру, уйгуру по происхождению. Перевод с тибетского был сделан им в 1305 г., а комментарий закончен 17 июля 1311 г. и напечатан годом позже. Сохранившаяся часть комментария охватывает 30 стихов 10 главы сочинения. На каждой странице ксилографа располагается 14 (в двух случаях 10) строк текста уйгуро-монгольским шрифтом, причем сначала приводятся два-три стиха монгольского перевода, а затем следует собственно комментарий к ним (см.: Cleaves 1954, р. 5-31).
В настоящей работе ссылки на памятник даются по изданию Л. Лигети (Ligeti 1972а, р. 115-134).
14) Монгольская версия "Романа об Александре" (Alx). Дошедший до нас фрагмент
монгольской версии эпопеи об Александре Македонском также относится к Турфанской
коллекции. Он состоит из 7 листов с 12-13 строками текста уйгуро-монгольским письмом на
каждой стороне. В тексте описывается 4 эпизода приключений Александра Македонского,
одержимого стремлением обрести бессмертие: 1) восхождение на гору Сумур; 2) спуск на
дно моря; 3) путешествие в Страну Мрака; 4) возвращение в город Мисир. Сочинение имеет
параллели с другими версиями "Романа об Александре", широко распространенными в Ев
ропе, Северной Африке и на Ближнем Востоке (см.: Рорре 1957, S. 106-110; Cleaves 1959, р.
9-26). По мнению Ф. В. Кливза, А1х могла быть переводом тюркской версии эпопеи, которая, в свою очередь, имела своим источником ближневосточную традицию (Cleaves 1959, р. 26-27). Языковые особенности памятника позволяют датировать его 1-й половиной XIV в. (Рорре 1957, S. 105-106). Тексту сочинения был нанесен значительный ущерб, в результате чего некоторые строки полностью или частично не поддаются прочтению.
В настоящей работе А1х цитируется в латинской транскрипции по изданию Л. Ли-гети (Ligeti 1972а, р. 197-207).
15) Монгольский перевод "Двенадцати деяний Будды" Чойджи Одсэра (Виг). Пере
вод на монгольский язык тибетского жизнеописания Будды, автором которого являлся Чой
джи Одсэр, был осуществлен Шенрабом Сенге, видным переводчиком религиозной литера
туры на службе у юаньского императора Йисун Тэмура (1324-1328). Сочинение существует в
единственной богато иллюстрированной рукописи XVII в. (хранится в библиотеке восточ
ного факультета СПбГУ), которая содержит только второй том перевода с описанием 6-9
деяний Будды. Первый и третий тома считаются утраченными (см.: Ligeti 1967; 1974, р. 9-
30).
В настоящей работе памятник используется в латинской транскрипции по изданию Л. Лигети (Ligeti 1974).
16) Китайско-монгольская билингва в честь Чжан Инжуя (Teh). Один из несколь
ких сохранившихся двуязычных памятников второй трети XIV в., установленных в честь
видных сановников династии Юань. Стела с надписью на китайском и монгольском языках,
прославляющая деяния чиновника китайского происхождения Чжан Инжуя, была найдена в
1935 г. японской миссией Ханеда в Восточной Маньчжурии. На одной стороне стелы выбит
китайский текст (39 строк), на другой — вольный монгольский перевод уйгуро-монгольским
алфавитом (57 строк). Надпись датируется началом 1335 г. Китайский текст составлен Шан
Шицзянем (годы жизни неизв.) и Чжан Циянем (1285-1335), имя переводчика на монголь
ский язык из-за порчи текста расшифровать невозможно. Китайская часть билингвы нахо
дится в превосходном состоянии, тогда как монгольский перевод с течением времени места
ми совершенно стерся (см.: Cleaves 1950, р. 4-12)..
В настоящей работе монгольский текст билингвы используется по изданию Л. Лигети (Ligeti 1972а, р. 36-50).
/ 7) Китайско-монгольская билингва в честь Джигунтэя (Jig). Стела с надписью на китайском и монгольском языках, установленная на могиле монгольского чиновника Джигунтэя, также была обнаружена в 1935 г. миссией Ханеда в Восточной Маньчжурии. На одной стороне стелы выбит китайский текст (26 строк), на другой - достаточно точный монгольский перевод уйгуро-монгольским письмом (37 строк). Надпись датируется 9 июня 1338 г.
(год тигра по животному циклу). Китайский текст составлен Цзе Сисы (1274-1344), переводчик на монгольский язык неизвестен (см.: Cleaves 1951, р. 4-14).
В настоящей работе ссылки на Jig даются по изданию Л. Лигети (Ligeti 1972а, р. 51-58).
18) Китайско-монгольская билингва Аруг-вана (Аг). Стела с надписью на китайском
и монгольском языках была обнаружена в начале XX в. миссией генерала д'Оллона в китай
ской провинции Юньнань. Надпись датируется 22 февраля 1340 г. (год дракона по живот
ному циклу). Она представляет собой текст дарственной, которую монгольский князь (ван)
Аруг дал находящейся в Юньнани буддийской обители Цюнчжусы. О китайской части би
лингвы нет практически никаких сведений; монгольский текст состоит из 20 строк уйгуро-
монгольским шрифтом (Kara 1964, р. 145-147; Cleaves 1965, р. 31-42).
В настоящей работе монгольская часть надписи использована в латинской транскрипции по изданию Л. Лигети (Ligeti 1972а, р. 59-61).
19) Китайско-монгольская билингва из Каракорума (Qqm). 4 фрагмента стелы с над
писью на китайском и монгольском языках были в разное время найдены В. В. Радловым
(1837-1918), В. Л. Котвичем (1878-1944) и Н. Н. Поппе (1897-1991) на месте бывшей столицы
Монгольской империи Каракорума. Надпись датируется самым концом 1346 г. (год собаки
по животному циклу). Она посвящена перестройке буддийской пагоды Синьюаньгэ в Кара
коруме. Китайский текст составлен Сюй Южэнем (1287-1364), переводчик на монгольский
язык неизвестен. Существующие фрагменты охватывают примерно 2/3 монгольского пере
вода надписи и содержат 36 строк уйгуро-монгольским алфавитом (см.: Cleaves 1952, р. 4-
24).
В настоящей работе монгольский текст билингвы используется в латинской транскрипции, опубликованной Л. Лигети (Ligeti 1972а, р. 77-82).
20) Указ ильхана Туглуг-Тэмура уйгурскому ыдукуту Чинг-Тэмуру (DocT 7). Мон
гольский документ из Турфанской коллекции (в настоящее время хранится в Майнце), напи
санный скорописью на листе бумаги 27, 5 X 25 см, представляет собой указ ильхана Туглуг-
Тэмура уйгурскому правителю (ыдукуту) Чинг-Тэмуру и другим уйгурским чиновникам от
носительно гарантий безопасности беглым жителям трех селений, вернувшимся в свои дома.
Указ датируется 1352 г. (год дракона по животному циклу). Текст документа образуют 19
строк уйгуро-монгольским алфавитом. К указу приложены 8 оттисков квадратной и 4 от
тиска круглой печати (2 на лицевой стороне и 10 на оборотной стороне листа) (Ligeti 1972а,
р. 220).
В настоящей работе ссылки на DocT 7 приводятся по изданию Л. Лигети (Ligeti 1972а, р. 220-221).
22) Китайско-монгольская билингва в честь вана Хинду (Шп). Стела с надписью на китайском и монгольском языках, установленная на могиле вана Хинду из уйгурской правящей семьи, была обнаружена в 1908 г. экспедицией П. Пелльо в китайской провинции Гань-су. На одной стороне стелы выбит китайский текст (32 строки по 62 иероглифа в каждой), на другой - вольный монгольский перевод уйгуро-монгольским письмом (54 строки). Надпись датируется 29 октября 1362 г. (год тигра по животному циклу). Китайский текст составлен Вэй Су (1303-1372), перевод на монгольский язык выполнен неким Эсэн-Букой (см.: Cleaves 1949, р. 16-27).
В настоящей работе монгольская часть Hin используется в латинской транскрипции по изданию Л. Лигети (Ligeti 1972а, р. 63-75).
Научная новизна исследования. Предлагаемое исследование является первым опытом применения методов структурной семантики к анализу среднемонгольских социальных терминов. Историография интересующего нас вопроса представлена большей частью трудами по социальной организации средневековых монголов. Значение социальных терминов в них рассматривается преимущественно в связи с социологической, а не с этнолингвистической проблематикой; тем более речь не идет о том, чтобы подвергнуть его структурно-семантическому описанию. Данное обстоятельство избавляет нас от необходимости выделять историографию в особый структурный раздел диссертации. Относящиеся к теме работы точки зрения исследователей, которые мы приводим для сравнения с результатами проведенного анализа, сжато излагаются в начале каждой главы.
В настоящей работе также впервые поставлена задача изучения социальной лексики среднемонгольского языка под углом зрения воплощенной в нем ЯКМ. Предшествующие ученые, как правило, исходили из той посылки, что значение социальных терминов непосредственно отражает формы социальных отношений и институтов, существовавших в монгольском обществе того или иного хронологического периода. Мы же считаем, что семантика данных терминов отражает не саму социальную структуру общества, а представления о ней носителей языка. Экспликация наивных языковых представлений, выраженных в плане содержания социальной лексики, входит в компетенцию этнолингвистики и не требует обращения к каким-либо социологическим теориям. Осуществить такую экспликацию на материале пяти среднемонгольских социальных терминов мы и ставим своей целью в рамках диссертации. Заранее оговоримся, что наши выводы не претендуют на окончательность и носят во многом предварительный характер. Мы полностью отдаем себе отчет в сложности исследуемой проблематики, поэтому наше изложение открыто для любых дополнений и конструктивной критики.
Понятие ulus: 'люди' или 'государство'?
Обозначенная в заглавии тема неоднократно затрагивалась в монголоведении, будучи тесно связанной с таким дискуссионным вопросом, как характер социального устройства средневековых монголов накануне и после возвышения Чингисхана. Недавно было высказано справедливое мнение, согласно которому "приверженность исследователя той или иной точке зрения на монгольскую государственность определялась чаще всего тем, как он интерпретирует термин улус" (Скрынникова 1997, с. 28). Однако мы полагаем, что очередное обращение к данной теме вполне оправданно, поскольку существующие в науке способы трактовки понятия ulus не опираются на тщательный лингвистический анализ его семантического содержания. Попытка такого анализа будет представлена в нижеследующем изложении; но прежде имеет смысл сделать обзор важнейших точек зрения на смысловое содержание этого понятия, которые в разное время высказывались монголоведами.
Начнем со взглядов Б. Я. Владимирцова, который положил начало теоретическому осмыслению проблем монгольской социальной организации. В своей знаменитой монографии "Общественный строй монголов" (Владимирцов 1934) он давал весьма неоднозначную трактовку интересующему нас понятию: «Действительно, в XII в., а, вероятно, то же самое наблюдалось и раньше, монгольские роды живут отдельно, обособленно только в очень редких случаях; обычно же они образуют различные группы, которые монголы называли irgen и которые можно передать словами "племя" и "подплемя", и ulus, переводимое, как "государство, удел"» (с. 59). Тем самым понятие ulus в освещении Б. Я. Владимирцова совмещало в себе характеристики, соответствовавшие сразу двум стадиям социальной эволюции: родоп-леменному строю ("различные группы родов") и феодализму ("государство, удел").
В другом месте книги Б. Я. Владимирцов обсуждал понятие ulus более подробно: «У древних монголов всякое объединение родов, поколений, племен, рассматриваемое с точки зрения зависимости от вождя, хаана, нояна, тайши, баатура и т. д., называлось ulus, т. е. "народ-владение", "народ-удел". Напр., Тайчиуты, рассматриваемые, как ряд кровно родственных кланов-родов, представляют собою irgen, т. е. "поколение" или "племя". Но те же Тайчиуты, даже часть их, объединенная под предводительством, напр., Таргутай-Кирилтуха, являются уже ulus, т. е. "народом-уделом", "улусом" названного предводителя. В виду этого, слово ulus может быть переводимо, с известными оговорками, как "удел, владение"; только монголов, как истых кочевников, в понятии этом больше интересуют люди, а не територия: действительно, первоначальное значение слова ulus и есть именно "люди". Поэтому слово ulus может быть передано и как "народ", т. е. "народ-удел", "народ, объединенный в таком-то уделе, или образующий удел-владение". Впоследствии ulus означает уже "народ государство", "народ, образующий государство-владение", "государство"» (с. 97). Эта обширная цитата подтверждает вывод о том, что Б. Я. Владимирцов представлял себе ulus одновременно и как "объединение родов, поколений, племен" (институт родоплеменной организации), и как "удел-владение" (феодальный институт). Кроме того, в ней прослеживается не вполне отчетливо сформулированная идея о семантической эволюции слова ulus. Предполагаемое направление эволюции обозначалось Б. Я. Владимирцовым довольно схематически: "люди" "народ-удел" "народ-государство", "государство". Хронологических рамок для данных ступеней эволюции не указывалось.
Под ulus Б. Я. Владимирцов понимал именно население "удела", а не его территорию: "Удел состоял из ulus "людей, народа", т. е. определенного количества монголов-кочевников, и nutug (yurt), т. е. территории, на которой эти "люди" могли кочевать" (с. 101). Продолжая свою мысль, ученый писал: "Внимание кочевника, конечно, сосредоточено на людях, потому что nutug мог быть найден и другой; в виду этого, словом ulus и стали обозначать самый удел, выделенный тому или иному лицу" (с. 111). Отсюда видно, что Б. Я. Владимирцов придерживался мнения о своего рода расширении сферы действия слова ulus: от первоначального обозначения населения удела оно якобы распространилось на "самый удел".
Следующим по времени, кто обсуждал понятие ulus, был О. Прицак (Pritsak 1952). Он заимствовал у Б. Я. Владимирцова идею о связи ulus с племенной организацией и рассматривал его как "федерацию племен или племенных союзов" (S. 50). Согласно О. Прицаку, это слово соответствовало тюрк. il al ala; оба термина обозначали "только людей и скот", тогда как "для территории имелся особый термин - тюрк, yurt, монг. nutuq" (S. 50). Такая трактовка лежала в русле традиции, заложенной Б. Я. Владимирцовым, однако отличалась большей последовательностью: О. Прицак не соотносил ulus с "государством" или "уделом". В то же время он вслед за Б. Я. Владимирцовым помещал ulus на вершину иерархии единиц социально-политической организации монголов (S. 60).
Влиянию концепции Б. Я. Владимирцова многим обязана и точка зрения Г. Дёрфера. В первом томе своего исследования "Тюркские и монгольские элементы в новоперсидском языке" (TMEN I) он определял значение слова ulus как совокупность подданных одного правителя . Далее он давал более развернутое определение, перекликающееся с тем, которое приведено у Б. Я. Владимирцова: коалиция различных племенных групп, рассматриваемая не с точки зрения своих членов... а с точки зрения личности правителя (№ 54, S. 175). Компонент коалиция различных племенных групп находит очевидные параллели в формулировке "объединение родов, поколений, племен", принадлежавшей автору "Общественного строя".
Большей оригинальностью отличался тезис Г. Дёрфера о том, что слова ulus и irgen могли относиться к одной и той же социальной общности, выделяя разные ее аспекты: "ulus = подданные одного правителя , irgen = люди которые объединились в союз по интересам (и избрали общего правителя) . Эти термины различаются не собственным и предметным значением (оба они могут обозначать одну и ту же группу людей), а разными перспективами" (№ 16, S. 126). Как мы увидим ниже, данный тезис имеет под собой весьма убедительные основания.
Социальная группа и ее название в среднемонгольском языке: понятия irgen и oboq
Как и рассмотренная в первой главе лексема ulus, слова oboq и irgen находятся в центре современных научных дебатов об устройстве средневекового монгольского общества. Имеется ряд специально посвященных им статей, а одно из них даже дало название целой книге. Несмотря на это, — а возможно, именно благодаря этому - в монголоведении не утвердилось какой-либо общепризнанной трактовки выражавшихся данными словами понятий. Хотя все исследователи сходятся в том, что они соответствуют определенным сегментам монгольской социальной организации, значительные разногласия вызывает вопрос об определении и характеристике этих сегментов. Основные варианты интерпретации обеих лексических единиц вкратце приводятся ниже.
Раздел "Родовой строй древнего монгольского общества" первой главы книги Б. Я. Владимирцова "Общественный строй монголов" (Владимирцов 1934) открывается фразой: "Основным элементом древнего монгольского общества (XI-XIII вв.) был род (obog obox), т. е. «своеобразный союз кровных родственников»" (с. 46). Весь указанный раздел (с. 46-59) посвящен выделению отличительных признаков рода — oboq; для краткости мы перечислим их списком в том порядке, в каком они там обсуждаются: - агнатность (с "некоторыми пережитками когнатных отношений"); - экзогамия; - привилегии и культовая роль старшего в роде; - родовой культ; - забота о "чистоте кровных уз"; - институт родовой мести; - общность пастбищных территорий. В следующем разделе той же главы отмечается еще один признак: - родовая взаимопомощь.
Итоговая дефиниция монгольского oboq формулируется в следующем виде: "Монгольский род-obox являлся довольно типичным союзом кровных родственников, основанным на агнатном принципе и экзогамии, союзом патриархальным, с некоторыми только чертами переживания былых когнатных отношений, с индивидуальным ведением хозяйства, но с общностью пастбищных территорий, с предоставлением некоторых особых прав младшему сыну при соблюдении известных прав в отношении к старшему, союзом, связанным институтом мести и особым культом" (с. 58). И далее: "Во всех этих чертах нет ничего особенного и оригинального, что бы выделяло древних монголов из ряда других народов, живущих или живших родовым строем" (с. 58).
Что касается слова irgen, Б. Я. Владимирцов считал его названием объединения родов: «Действительно, в XII в., а, вероятно, то же самое наблюдалось и раньше, монгольские роды... образуют различные группы, которые монголы называли irgen и которые можно передать словами "племя" и "подплемя", и ulus, переводимое как "государство, удел"» (с. 59). Однако автор признавал: "Конечно, в некоторых случаях трудно провести строгое различие между родом-obox, который сам являлся величиной сложной, при том часто из разнокровных элементов... и племенем-irgen" (с. 79). Ведущей характеристикой племени, в противоположность роду, называлось то, что оно "было величиной непостоянной и чрезвычайно слабо организованной и сплоченной" (с. 79). Социальное образование, обозначавшееся термином irgen, имело "племенной совет - xuriltai или xurultai" (с. 79), на котором в случае необходимости избирался временный предводитель — хаан.
Таковы, в общих чертах, взгляды Б. Я. Владимирцова на содержание и соотношение понятий oboq и irgen в монгольском обществе до возвышения Чингисхана. В статье (Pritsak 1952), продолжавшей проблематику монографии Б. Я. Владимирцова, предлагалась несколько отличная интерпретация интересующих нас понятий: "«Наименьшая политическая единица»... племя (монг. obox omuq) едва ли отличалась от федера ции (il ulus) или союза племен (budun irgen)... Obox включал в себя: 1. небольшую правящую семью: игах; ее имя и ее тотем относились также ко всему племени, - члены которого состояли между собой в кровнородственных отношениях, и 2. широкое объединение: jad, куда входили вассалы разного ранга (nokod дружина ), вассальные племена (unayan boyal крепостные ) и рабы (boyal)... Хотя jad имели племенным названием имя своей правящей семьи, они не были связаны с этой семьей кровным родством" (S. 58). О. Прицак выстраивал следующую иерархию обозначений уровней социальной организации у древних тюрков и монголов (S. 60): 1. др. тюрк, il = др. монг. ulus федерация племен ; 2. др. тюрк, budun = др. монг. irgen племенной союз, народ ; 3. др. тюрк, oq oqu = др. монг. oboq племя .
В первом томе своего капитального труда "Тюркские и монгольские элементы в новоперсидском языке" (TMENI) Г. Дёрфер выступил с критикой точки зрения О. Прицака. Он выдвинул свою интерпретацию понятия oboq, более близкую к трактовке Б. Я. Владимирцова: "Obog - это совокупность тех, кто происходит от общего мифического предка {ebiige) и кто связан кровными узами, хотя и более предполагаемыми, нежели реальными" (S. 125). В другом месте приводится слегка иначе сформулированная характеристика содержания данного понятия: "Obaq - это потомки мифического родоначальника, между которыми - несмотря на зачастую более воображаемые, чем реальные кровнородственные связи - сущест вуют брачные запреты" (S. 183). Отличие oboq от irgen ученый полагал в том, что "в irgen не содержится никакого указания на кровное родство" (S. 126). Вслед за Б. Я. Владимирцовым, Г. Дёрфер трактовал irgen как объединение нескольких кланов (S. 125), однако давал этому слову гораздо более детальное определение: "Если объединить все различные смысловые оттенки слова irgen, в качестве его основного значения мы получим: группа людей, не связанных кровными узами (пусть даже мифическими), члены которой объединились в союз по интересам, либо чтобы подчиниться общему хану... либо чтобы быть приданными в качестве свиты, к примеру, какой-нибудь принцессе, либо чтобы как-то еще объединиться в экономическую общность; или группа людей, которая выражает свое существование в форме совместной экономической жизни " (S. 126).
Ко времени написания второго тома исследования (TMEN II) Г. Дёрфер немного изменил свое понимание того, что скрывалось за словом oboq: "Omog (obog) обозначало потомков мифического родоначальника и прародителя племени, равно как принадлежащих к ним в хозяйственном отношении и иначе связанных с данным племенем вассальных племен, для которых, как и для "состоящих в родстве" с прародителем, действовала экзогамия внутри obog" (S. 49). Отмечалось, что obog состоял из yasun, т. е. линии потомков мифического прародителя, и boyol - вассально зависимых от них племен (S. 50). Включение в состав oboq "вассальных племен" и составляло особенность новой версии его трактовки. Определение irgen получило сжатую формулировку: "Этим термином обозначаются члены федерации как принадлежащие к одной и той же общности (также в отношениях друг с другом)" (S. 51). Существенной оригинальностью отличалось мнение Г. Дёрфера, согласно которому понятия ulus и irgen "оба могут охватывать одну и ту же группу людей, но в понятии ulus — как подданных по отношению к правителю, а в понятии irgen — как членов одного объединения" (S. 49).
Понятия uruq и haran: идея происхождения и идея службы как элементы монгольской средневековой концепции общества
Предмет данной главы составляет значение двух лексических единиц среднемон-гольского языка, входящих в категорию социальной лексики. Эти слова и выражаемые ими понятия получили в монголоведении неодинаковое освещение. Слово haran до настоящего времени оставалось практически без внимания исследователей; его значение в диссертации подробно анализируется впервые. Слово uruq, напротив, неоднократно привлекалось к рассмотрению в работах, посвященных монгольской средневековой социальной организации. Существующие точки зрения на семантику этого социального термина в общих чертах охарактеризованы ниже.
По мнению Б. Я. Владимирцова, у средневековых монголов слово uruq обозначало отдельного представителя "рода" (oboq): "Для каждого члена древнего монгольского рода сородич был urux urug "потомок, отпрыск данного рода", следовательно, "родственник, родной, сородич"; между тем, как всякое чужеродное лицо было jad "чужой, иностранец"; все, значит, делились на ишх ов и jad oe" (Владимирцов 1934, с. 59). Таким образом, Б. Я. Владимирцов выдвигал два основных положения: во-первых, о соотнесенности слова uruq исключительно с индивидуализированным объектом ("потомок", "родственник" и т. п.), во-вторых, о его противопоставленности по смыслу слову jad. Как будет показано ниже, оба этих положения разделялись далеко не всеми позднейшими исследователями.
В другом месте монографии Б. Я. Владимирцова слову uruq придается более широкое содержание: "Не нужно забывать при этом, что игах ами считались не только члены данного рода, но и всех родов, кровно связанных между собою происхождением от одного общего предка (ebtige), родов одной кости (yasun) (с. 60). Данная трактовка вытекала из важного тезиса Б. Я. Владимирцова, по которому у средневековых монголов "ряд родов (obox) вел свое происхождение от одного и того же ebuge — предка", вследствие чего все члены этих родов "считались кровными, агнатными, - сказали бы мы, - родственниками, принадлежащими к одной кости (yasun)" (с. 46).
Следуя Б. Я. Владимирцову, О. Прицак ставил во взаимосвязь понятия oboq и uruq, но подразумевал под первым "племя", а под вторым - возглавлявшую его "небольшую правящую семью": "Obox состоял: 1. из небольшой правящей семьи: urux; ее имя и ее тотем относились также ко всему племени, - члены которого состояли между собой в кровнородственных отношениях, и 2. из обширного объединения: jad, куда входили вассалы разного ранга (nokod дружина ), вассальные племена (unayan boyal крепостные ) и рабы (boyal)" (Pritsak 1952, S. 58). Заимствовав у Б. Я. Владимирцова идею о необходимости обсуждать слова oboq, uruq и jad в одном контексте, О. Прицак осуществил переход от интерпретации uruq в качестве названия для отдельного лица к его интерпретации как имени некоторой группы или совокупности лиц ("семья"). Дальнейшие дискуссии вокруг слова uruq строились на основе либо одной из этих интерпретаций, либо их сочетания в той или иной форме.
На страницах своей монографии "Тюркские и монгольские элементы в новоперсидском языке" Г. Дёрфер высказал целый ряд критических замечаний в адрес концепции О. Прицака. В частности, они коснулись трактовки О. Прицаком слова uruq, которую Г. Дёрфер считал несостоятельной. Свои возражения ученый сформулировал в виде нескольких тезисов, из которых для нас непосредственный интерес представляют следующие: - "Urug - это название не для семьи , а для рода , потомства , имевшее, таким образом, более широкое значение" (TMENII № 468, S. 49); - Данное слово "обозначает не только правящий род внутри племени (obog)", но и потомков любого, в том числе незнатного лица (S. 49); - "Название какого-либо urug а. никоим образом не распространялось на все племя, но самое большее на yasun (согласно Г. Дёрферу, общность тех, кто происходит от одного мифического предка.- П. Р.) и даже на нее не всегда" (S. 50); - Слово jad представляет собой "название для всякого, кто не является кровным родственником, а не только для вассальных племен внутри племени" (S. 50).
Собственные взгляды по вопросу о значении слова uruq Г. Дёрфер изложил еще раньше, в первом томе исследования, где он писал, что "urug - это потомство определенного, хорошо известного родоначальника"; по его мнению, это слово "часто принимало специфическое значение потомство Чингис-хана " (TMEN I № 16, S. 125). Ученый тоже находил оправданным рассматривать понятия oboq и uruq в одном ряду, но различия между ними ему представлялись иначе, чем Б. Я. Владимирцову и О. Прицаку: если uruq - "это потомки известного и конкретного главы семьи (в особом случае часто Чингис-хана)", то oboq — "это потомки мифического родоначальника, между которыми... существуют брачные запреты" (TMEN I № 61, S. 183). Сходным образом определяется значение слова uruq в схеме соотношения монгольских терминов социальной организации, которая содержится во втором томе: "Монг. urug = потомство некоего строго определенного лица ; это генетическое (точнее: реально-генетическое) понятие. Приблизительный перевод: "род" (= тюрк, игиу)" (TMEN II № 468, S. 50).
Т. Д. Скрынникова предложила несколько вариантов интерпретации интересующего нас слова. Во-первых, по ее мнению, "основным признаком родового членства была в монгольской традиции кровнородственная связь, которая выражалась термином "уруг"... Совершенно ясно, что "уруг" маркирует патрилинейное кровное родство, непризнание кого-либо уругом ведет к образованию нового рода "обог", и в данном конкретном тексте (ТИМ. —
П. Р.) эти термины выступают как синонимы" (Скрынникова 1992, с. 61-62). Во-вторых, "уруг - это потомок по отцу, входящий в генеалогическую таблицу" (с. 62). В-третьих, "уруг - это только потомки... следовательно, можно предположить, что он (данный термин. — П. Р.) маркировал определенный социум, обозначаемый в науке как "линидж", т. е. при патри-линейном счете родства это группа кровных родственников, имеющих конкретного предка, в отличие от мифического предка рода" (с. 62-63). Тождественную интерпретацию слово uruq получает в недавней монографии Т. Д. Скрынниковой (Скрынникова 1997, с. 20). Таким образом, исследовательница признает за словом uruq одновременное выражение нескольких различных идей: "патрилинейное кровное родство", "потомок", "потомки", "род" в целом (синоним слова oboq) и "линидж" как часть последнего.
В работе Э. Э. Бэкон слово uruq отнесено к категории "терминология родства" (Bacon 1958, р. 61). Как писала Э. Э. Бэкон, "у средневековых монголов было три общих термина для патрилинейных родственников: oboh, uruh и yasun ("кость"). Все три употреблялись как взаимозаменимые, хотя oboh в Тайной истории, по-видимому, чаще использовался по отношению к племенной генеалогической родственной группе, тогда как uruh был общим термином для родственников (kin)" (р. 116). Следовательно, несмотря на радикальную смену теоретических акцентов, Э. Э. Бэкон сохранила одну из опорных идей Б. Я. Владимирцова о смысловой взаимосвязи слов oboq и uruq; внесенные ей изменения касались только характера этой взаимосвязи. Oboq в ее трактовке рассматривался не как "род", а как особая форма социальной организации - племенная генеалогическая, и соответственно менялась интерпретация понятия uruq.
Впрочем, в таблице "Термины родства средневековых монголов" Э. Э. Бэкон дает другую версию смыслового соотношения между словами uruq, oboq и yasun. Они характеризуются уже не как взаимозаменимые и, в сущности, синонимичные лексические единицы, а как имена разных подкатегорий внутри обобщающей категории под названием "родня" (kin): uruh - родственник (relative) и потомок , oboh - семья , yasun - кость (р. 63, tabl. 8). Основания для смены одного варианта трактовки другим и мотивация содержательных различий между ними автором не приводятся.