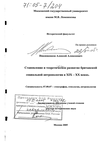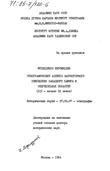Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Сюжет об исправлении книг и способы различения книг «истинных» и «ложных» 48
Компиляция Василия Беляева 49
Дьявольский младенец 51
Арсений Грек и никоновские «справы» 59
Книги «истинные» и «ложные» в Древней Руси 62
Дальнейшие изменения сюжета об исправлении книг 68
Спрятанные книги 70
Глава 2. Отчитывание бесноватых: практики и дискурсы 74
Институциональные нормы 75
Византийский вариант 76
Древнерусский вариант 80
Кормчие 83
Жития и иконография 85
Требники 91
Политика в отношении ритуала «изгнания бесов» 94
Позиция священника vs. позиция прихожан 97
Диалог священника и прихожан 101
Ритуал экзорцизма в среде прихожан 107
Глава 3. Книги в деревне рубежа XIX-XX веков: эсхатологический кризис или научный прогресс в действии 118
Глава 4. Библия в сельской России: практики чтения и способы воображения 134
Заключение 171
Приложение 1: Брошюры «о конце мира» 173
Приложение 2: Выписки из дел Тенишевского Архива (АРЭМ, ф.7 оп. 1) 175
Литература 189
Список сокращений 219
Принципы публикации архивных материалов 221
- Компиляция Василия Беляева
- Дьявольский младенец
- Институциональные нормы
- Книги в деревне рубежа XIX-XX веков: эсхатологический кризис или научный прогресс в действии
Введение к работе
Актуальность темы исследования 3
Источники 9
Проблемы изучения роли «письменного» в обществе: история вопроса 11
Методы исследования 33
Структура работы 46
Компиляция Василия Беляева
Противопоставление книг «истинных» и «ложных» - один из наиболее ранних и практически универсальных, известных во всем мире способов описания книг. В русском фольклоре эта идем нашла наиболее полное выражение в сюжете об исправлении книг, известном в старообрядческой традиции. Речь идет о приписывании книгам определенных свойств, признаваемых одной группой людей и не признаваемых другой. Сама необходимость такого различения была непосредственно связана с особенностями процесса формирования идентичности старообрядческих общин конца XVII-начала XVIII века, использовавших различные инструменты для демонстрации своих отличий внутри российского православного мира. Изменение условий существования общин приводило к трансформации главных мотивировок, хотя идея противопоставления книг сохранила свою актуальность для старообрядцев вплоть до сегодняшнего дня.
Сюжет об исправлении священных книг представлен в материалах XIX-XX веков43 в нескольких вариантах. В одну группу можно объединить повествования, рассказывающие об исправлениях, сделанных по «научению» дьявола или самим дьяволом (нечистой силой). Вторую группу сюжетов составляют предания, где «демонизм» правщика не эксплицируется и основная коллизия заключается в подмене книг и попытке выдать их за «истинные».
Оба типа сюжетов известны как в старообрядческом, так и не старообрядческом исполнении. Я имею в виду не столько собственно конфессиональную принадлежность рассказчика - многие источники попросту не сообщают о ней, -сколько особенности понимания рассказчиком топики текста. Данный сюжет может быть реализован и как дидактический текст, предостерегающий монахов от бесовских искушений, и как предание, конструирующее центральное событие старообрядческой истории. Изменение топики повествования непосредственно связано с тем, какие функции текст выполняет в данной традиции. Судить о них позволяет и набор используемых в каждом конкретном случае мотивов. Хотя круг возможных в этой позиции мотивов ограничен, именно их комбинация позволяет дать характеристику локальной специфике бытования сюжета.
Компиляция Василия Беляева Начать наше расследование стоит с одного пространного описания, присланного в 1870 году в Духовную Консисторию. В своем отчете нижегородский миссионер Василий Беляев приводит среди прочего легенду об исправлении книг44. В его сообщении представлена, пожалуй, самая развернутая версия данного сюжета, где оказались собраны практически все мотивы, обычно встречающиеся в разных текстах. Я воспользуюсь его свидетельством для того, чтобы в дальнейшем проследить историю каждого мотива в отдельности.
Бысть женский монастырь, сиречь келий, где живут старицы да юницы. И пошла едина старица за водой на кладязь, и когда почерпнула, пошла домой; в воротах и встрети её мати игуменья и вопроси: «Старица, матушка, или по воду сходи?» - «Да, мати, игумения!» - «А у кого благославения испроси?» - «Прости, мати, Христа ради!» - «Бог ти прости; поди вылей сию воду и почерпни другую». Вылила старица воду у загороди келий, почерпнула благословленной воды и иде вспять и услыша крик младенца, яко бы на том месте, где выли воду, и доложи матери-игуменьи: «Мати-игуменья! Там к нам како-то чрево донесли». - «Нечиста сила наважди ту за неблагословенье матернє», - сказала мати-игуменья и посла узнати: мужеска пола аль жен-ска? И узнала, яко мужеска, и возвестила. Мати-игуменья повеле взяти это чрево воспитати. И расте мледенец, и быша ему яко лет 9, и нача он блазни-ти юных девиц. Узна о сём мать-игуменья и состави совет превечный... и отдали его в монастырь мужской. И нача он ходити на молитву, яко бы выучи его кто, ту читати и писать. И увиди один старец, яко бы он за литургией во время пения «Иже херувимы» и иных псалмов выходит вон из церкви, и доложи о сём батюшку-игумению. И приказа его батюшка-игумений в это время задержати. Но не стерпе того дьявольская сила, окно во храме том разби, и вереи железныя сломи, и его оттуда испусти... Батюшка-игумений и все старцы совет превечный составиша, яко бы изгнати его вон... и приказа его заклать в столп каменный. Когда его закладывали, иде ту человек и умилися сердцем... и зловерный тот раб сказа человеку сему: «Человече, будешь на знати, меня помяни»... И прилучися треба в царе, яко бы не име-ти тогда царя. И возвестиша царем того человека, кой шел мимо его. И вспомни царь слова его, и приказа столп тот раскидати, и старца, в него закланного, привести. И вопроси его царь: «Кое дело привычен ты делати?» И отвеча той: «Умею читати и писати, и харатейныя бумаги разбирати, и ины языки понимати». И постави его царь над церковию властвовати. И вздума оный зловредец написати ины законы и уставы самыми древними писмена-ми, и написа, и закопа их под паперт. И разгласи ту, что он якобы Божеством сонное видение виде, что православные не так молятся Богу, что у них законы неверные и уставы неправильные и что истинные якобы сокрыты близ церкви. И повеле царь ископати и взрыти около той церкви, и нашли под папертью книги, в коих написаны были иные уставы церковные, якобы молитися щепотью, крестити и венчати противу солнца... и повеле царь сие исполняти (Савельева, Новикова 2001: 123).
Несмотря на то, что в передаче миссионера этот текст выглядит как единое повествование, возможность его бытования в такой форме представляется весьма сомнительной. Сам священник характеризует рассказ как «образчик подобных легенд», что свидетельствует о знакомстве корреспондента, как минимум, с некоторым числом таких текстов. В своем пересказе, он, по всей видимости, старался объединить все известные ему варианты легенды, чтобы передать ее как можно полнее. В. Беляев сетует на то, что «при передаче, а при изложении на бумаге еще более» легенда теряет свой «первобытный характер, при котором каждое слово, каждый звук глубоко западает в сердце легковерного народа, доселе еще не умеющего высвободиться из-под гнёта нечистых сил - без чертогона..., без заговоров и проч.» (Савельева, Новикова 2001: 122). С точки зрения священника, эту утрату, видимо, должен был восполнить несколько «состаренный» книжный стиль, каким он передает рассказ Духовному начальству. Кроме того, нужно учитывать, что, по словам священника, легенда эта была передана ему со слов «одного раскольника», и, скорее всего, человеком, который сам «раскольником» не был. Различия между старообрядческими вариантами и теми, которые бытуют в среде живущих по соседству «православных», могут иметь существенные отличия, что также не могло не отразиться на полноте представленного текста.
Изложенный нижегородским миссионером текст можно разделить на несколько частей. Многоточия, поставленные миссионером45, довольно точно указывают на их границы. Каждая из этих частей известна в других записях как сюжет самостоятельного рассказа. Все они могли быть объединены самим Беляевым, но относительно заключительной части это можно сказать с большей уверенностью.
Дьявольский младенец
Начальную часть повествования составляют три мотива: обретение младенца на том месте, где была вылита вода, взятая без благословения; блуд в монастыре; и обнаружение того, что младенец был послан нечистой силой. Для этого сюжета характерно указание на нарушение монастырских правил, допущенное монахиней («Нечиста сила наважди ту за неблагословенье матернє»), что придает тексту очевидную поучительную направленность. В конце XIX века подобный текст был записан Д.Н. Ушаковым в Рязанской губ.:
Рассказывается, что инок одного монастыря однажды без молитвы зачерпнул из колодца ведро воды; по дороге от колодца монах споткнулся и разлил всю воду. Вернувшись обратно, он почерпнул в другой раз и опять без молитвы; возвращаясь, он заметил на том месте, где было разлито первое ведро, плачущего ребенка. Из жалости он взял его в монастырь, где мальчик был воспитан и впоследствии стал большим грамотеем и начетчиком. Занимаясь, между прочим, переплетом книг, он, переплетая монастырское евангелие, вписал в него слова: «разрешается законный брак владыке», т.е. архиерею. Евангелие попало к одному архиерею, который, прочитав вписанные слова и приняв их за истину, собрался жениться. На свадьбу стала собираться вся епархия. В числе других и один дьячок отправился ко владыке на свадьбу. По дороге он остановился ночевать; в самую полночь, как только пропели петухи, полетели в избу нечистые, и старший, командующий всеми, стал отбирать от них отчет, кто и что успел сделать... Один из нечистых стал хвалиться, что живет при архиерее и того соблазнил его, что тот женится; дело в ходу, - только нельзя нечистому быть при нем в херувимскую песнь: ему делается тошно и он выходит тогда из церкви. Дьячок, послушав это, решил спасти от дьявольских козней архиерея. Пришедши в город и с большим трудом добившись аудиенции у владыки, он рассказал ему о своем видении. Архиерей приказал запереть двери храма во время херувимской и никого не впускать и не выпускать. Как только на клиросе запели «иже херувимы», вдруг монах-переплетчик, бывший подле архиерея, как вихрь, с криком взвился под купол, прошиб свод и вылетел вон. Тут архиерей вполне убедился в том, что это был за монах, раздумал жениться и самую книгу, введшую его в заблуждение, велел сжечь (Пронский у.) (Ушаков 1896: 186).
Этот текст, со всей очевидностью, не несет «старообрядческих» коннотаций, связанных с обоснованием правильности веры, и, по всей видимости, был записан в нестарообрядческой среде. Общий для рассказов Беляева и Ушакова мотив обнаружения младенца восходит, видимо, к повести об Андрее Критском: «И выде ис того монастыря черница воды почерпнути и узре отрача лежаща на дщице мужеск пол, едва дышуще, мало гласа ево слышать...» (Повесть об Андрее Критском 1991: 150) В пересказе Беляева присутствует и мотив блуда в монастыре, также восходящий к апокрифическому житию Андрея Критского: «Отрок же бысть 15 лет, и вложи на ум ево ветхи зломысленный ненавистник рода християнскова диявол мысль злую. И нача отрок той єдину по единой девице и старице оскверняти блудом»46 (Там же). В тексте, записанном Ушаковым, этого мотива нет, но, с другой стороны, появляется мотив искушения священника замужеством («Занимаясь, ме- жду прочим, переплетом книг, он, переплетая монастырское евангелие, вписал в него слова: «разрешается законный брак владыке», т.е. архиерею»).
Нужно сказать, что тема блуда священника занимает существенное место в старообрядческих преданиях о происхождении раскола. Она реализуется в утверждениях о стремлении Никона сделать всех попов «женатыми» (Белоусов 1977: 7), в рассказах о происхождении брадобрития и собственно в преданиях о том, как Никон пытался жениться, нарушив «старый» закон. Я приведу один из вариантов, записанных у нижегородских старообрядцев:
Раньше-то по всей Руси одна вера была, истинная, православная. И молились все одинаково, и обряд был один. А тут появился новый первосвященник, да греховодником оказался. Полюбил, значит, он монашенку, а по тогдашним законам священникам-то жениться нельзя. Ему монашенка-то и говорит, где, мол, такое слово Божие есть, чтобы нам с тобой жить можно было? Девушка-то умная была. Осердился греховодник, да делать нечего -ушел, а мысли-то греховные не забыл. И решил он старые книги все испортить, которые по истинной вере написаны, и чтобы ему новые написали, неправильные. И случились тут люди, которые про всё то узнали. Стали они против него говорить, что, мол, неправильно он делает, и сколько он народу побил! А своего таки добился: все старые книги перепортил и истинную веру неправильной объявил. И много тут пошло всяких гонений на тех, кто по старой вере жил, а он многих обманул и в новую веру крестил. А он, когда в книгах-то всё по-своему написал, пошел к той монашенке и не сказал ей, что новые-то законы сам написал, а сказал, что, мол, и раньше так было, а потом забыли, а он-де истинную веру вернул и по той вере священнику жениться можно47 (Савельева, Новикова 2001: 105, № 13).
В записях Ушакова и Беляева перед нами, по всей видимости, два примера воплощения темы «блуда священника». В отличие от варианта Беляева и старообрядческих преданий о Никоне, в рассказе, записанном Ушаковым, священник -скорее пассивный персонаж, попавшийся на удочку «нечистого» из-за того, что слишком доверял словам, написанным в Евангелии. Можно предположить, что мотив «блуда священника» был понят «информантом» Ушакова в связи с сюжетом о пустыннике, решившем проверить истинность евангельских слов: «просите и дастся вам» (СУС 841 I). Например, в легенде из сборника Афанасьева (вариант С сказки "Пустынник и Дьявол") рассказывается о том, что «жил-был святой пустынник, и вычитал он в писании: всё, чего ни пожелаешь, и всё, чего ни попросишь у Бога с верою, - то Господь тебе и дарует. Захотелось ему испытать: правда ли это» (Афанасьев 1990: 125). Эта ассоциация тем более кажется не случайной, что большинство вариантов этой сказки начинаются с рассказа о пустыннике, который, ссылаясь на библейские слова, пытается жениться на царской дочери (Афанасьев 1990: 125)49.
Другой мотив, общий для записей Ушакова и Беляева - избегание мнимым монахом «Херувимской песни». Наиболее ранняя из известных мне версий этого сюжета находится в сборнике «чудесных историй» (mirabilia), записанных в начале XIII века Гервасием Тильберийским и опубликованных Ж. Ле Гоффом (Ле Гофф 2001: 75-78):
... Стоял некогда в королевстве Арльском, в епископстве Валанском замок под названием Эспервель. Хозяйка этого замка имела привычку покидать церковь во время мессы, сразу после того как прочтут Евангелие, будто бы тяжело ей было выносить освящение тела Господня. Через несколько лет муж ее, владелец замка, заметил это, однако, несмотря на дотошные расспросы, так и не сумел отыскать причины такого поспешного бегства из церкви во время мессы. Однажды, во время праздничной службы, когда дама, по обыкновению, собралась уходить после чтения Евангелия, муж и преданные ему люди силой удержали ее, несмотря на все ее протесты. Едва священник произнес слова, что произносят при освящении, дама, влекомая дьявольской силой, поднялась вверх и вылетела вон, унося с собой часть разрушенной ею часовни... (Ле Гофф: 77).
Институциональные нормы
Один из наиболее загадочных и вместе с тем самый «фольклорный» среди сюжетов, связанных в крестьянской традиции с письменным текстом - это сюжет о начитывании чертей по черной книге (СУС: 1199С ). Он попадает в число классических фольклорных образцов, поддающихся классификации, но не поддающихся антропологическому анализу. Иными словами, его бытование мы, как кажется, не можем объяснить исходя из социального контекста. Этот сюжет существует в крестьянском фольклоре как застывший рудимент какого-то старого поверья, давно потерявший, если вообще когда бы то ни было имевший связь с той социальной реальностью, в которой существуют крестьяне. Наряду с тысячами других сюжетов, старательно собиравшихся фольклористами на протяжении почти двух веков, он оставляется в стороне в исследованиях по прагматике фольклора и истории народной культуры по той простой причине, что ничего не объясняет ни в поведении, ни даже в мировоззрении людей, и сам едва ли может служить свидетельством чего-либо кроме «темноты» и «невежества» «русского народа».
В этой главе я постараюсь показать, что сюжет о начитывании чертей, так же как целый ряд других не менее экзотических рассказов о книге непосредственно связан с ритуалами исцеления бесноватых, широко практиковавшимися священниками, и с распространенными способами описания этих обрядов. Поскольку эта связь во многом определяется историей ритуала «отчитывания» и отношением к нему официальной Церкви, приходских священников и самих прихожан, мне придется начать исследование с этих вопросов.
Специальных работ, посвященных практикам отчитывания бесноватых, насколько мне известно, не существует. При этом сам феномен «одержимости» уже неоднократно привлекал к себе внимание историков, антропологов, медиков. Его локальные варианты - в русскоязычной литературе, пожалуй, самыми известными являются «кликушество» и «икота» - рассматриваются как формы адаптации народной культурой «измененных состояний сознания» (ИСС), значение и выражение которых обусловлены локальным социально-культурным контекстом73. Среди социальных детерминант, определяющих функционирование этих явлений, назывались народные представления о «порче», социальное положение женщины и другие. Очевидно, что существенное влияние на способы адаптации ИСС играла и Церковь. В большинстве регионов, где встречаются те или иные формы ИСС, религиозная институция - неважно, представляющая иудаизм, католицизм, или православие - пытается установить контроль над их проявлениями и монополию на их интерпретацию.
Позиция Православной Церкви в отношении «одержимости» характеризуется в исследовательской литературе вполне однозначно. К. Воробец включает в монографию, посвященную феномену «одержимости» в России, главу под названием «Победа православия над Дьяволом» (Worobec 2001). По мнению А. А. Панченко, представителями официальной Церкви 1860-х годов «кликушество» оценивалось как возможность утверждения и подтверждения собственного статуса и роли в обществе (Панченко 2002: 326). К такому же выводу приходит и А. С. Лавров, рассматривая материалы первой половины XVIII века (Лавров 2000: 392). В данном случае исследователи апеллируют к т. наз. институциональным нормам Православной Церкви74. Действительно, библейская традиция прославляет способность изгонять бесов как чудесный дар, а, следовательно, Церковь должна была бы оценивать исцеления одержимых, совершаемые ее представителями как «торжество православия» (Там же). Однако такой общий взгляд на проблему оставляет за скобками ряд существенных вопросов. Во-первых, при всей возможности подобной точки зрения как в XVIII, так и в XIX веках, остается неясным, кто был ее выразителем; на каком уровне церковной идеологии, или какой-либо другой данный взгляд находил воплощение. Во-вторых, каким образом эта позиция была связана с практиками «рядового» священника.
В своей работе Кристина Воробец рассматривает в качестве институционального контекста представлений об «одержимости» весь комплекс текстов, иконографических сюжетов и ритуалов, где находит выражение идея борьбы Святой Церкви с дьяволом (Worobec 2001: 41). Автор включает в обзор и предпасхальные службы, где празднуется победа Христа над дьяволом и обряд крещения, во время которого человек отрекается от дьявола, и иконографию Страшного Суда (Там же: 42). Спорить с тем, что в рамках христианской теологии понятие «дьявола» играет существенную роль, действительно сложно. Но если мы пытаемся объяснить поведение конкретных священников и их паствы, то апелляции ко всепронизывающей церковную книжность идее дьявола оказывается недостаточно. Далеко не все тексты, ритуалы и образы, касающиеся «козней дьявола» имеют отношение к явлению «бесоодержимости», и большинство из них не содержит никакой информации о том, как выглядит «бесноватый» и как с ним должен поступать священник.
Книги в деревне рубежа XIX-XX веков: эсхатологический кризис или научный прогресс в действии
Выше я рассматривала такие способы воображения книг, которые не зависят от содержания письменных текстов. Различение книг «истинных» и «ложных» имеет исключительно конвенциональный характер и возможно без чтения самих писаний. Контексты обращения к книгам, рассмотренные во второй главе, вообще не предполагают чтения в обычном смысле этого слова. Однако интерпретация письменных текстов также зависит от существующих в обществе моделей.
Сама эта тема очень обширна, с начала 1990-х вышел целый ряд публикаций, посвященных социальным и коммуникативным аспектам чтения (см.: Boyarin 1993). По объективным причинам в центре внимания исследователей обычно оказывались современные практики чтения. В этой главе я попытаюсь проанализировать процесс интерпретации письменного текста крестьянами рубежа XIX-XX веков. Особенность этого периода заключается в том, что именно это время связано со значительным изменением уровня грамотности в деревне, с одной стороны, и широким распространением средств массовой информации, с другой. В этот период крестьяне столкнулись с новыми для них источниками информации, способы толкования которых в тот момент просто не существовали. Печатная продукция, попадая в деревню, подврегалась различным интерпретациям, включаясь в уже известные крестьянам модели.
При всей редкости материалов о контексте обсуждения книг, рубеж XIX-XX веков изобилует такими примерами. Подобное внимание со стороны публицистов того времени обусловлено не столько их антропологическим интересом к сфере чтения в сельской России, сколько популярностью в обществе тех тем, в связи с которыми в большинстве случаев крестьяне обсуждали книги. Речь идет о практически повсеместных в России слухах о приближающемся конце света, позднее получивших название «эсхатологических ожиданий».
Термин «эсхатология» был заимствован в словарь гуманитарных дисциплин из области догматического богословия, где означал «учение о последних вещах, о конечной судьбе мира и человека» (Трубецкой 1995: 268). В контексте исторических исследований понятия «эсхатология» или «эсхатологические представления» оказались актуальными, прежде всего, для интерпретации резких социальных изменений, происходивших в обществе в периоды широкого распространения литературы апокалиптического содержания. Скудость источников относительно настроений «молчаливого большинства» вынуждала исследователей пользоваться для их анализа литературными образцами самих апокалиптических сочинений, в результате чего количественное измерение подобных текстов приобретало значение качественной характеристики исторической эпохи или социальной группы. Эсхатологическая окраска традиционно приписывается концу XV и второй половине XVII веков. В рамках этой научной парадигмы оказались синонимичными такие понятия как «эсхатологический кризис», «всплеск эсхатологических ожиданий», «пик апокалиптических настроений», или собственно «эсхатологические ожидания». История эсхатологических ожиданий в России в этом контексте видится как история собственно эсхатологических кризисов.
Несколько иначе феномен эсхатологических ожиданий трактуется в работах, посвященных традициям не письменной, народной эсхатологии (Viola 1990, Белоусов 1991, Власова 1998, Тарабукина 1998, Левкиевская 1999, Священное Писание 1999, Маслинский 2000, Panchenko 2001, Ахметова 2003). Обращаясь к опубликованным и архивным материалам конца XIX-XX веков, большинство авторов рассматривают слухи и толки о конце света не как свидетельства очередного эсхатологического кризиса, а как примеры определенного типа фольклорных текстов, воспроизводимых на протяжении нескольких поколений. Возможность использования понятия «эсхатологический кризис» в этом контексте весьма сомнительна: если мы предполагаем, что эсхатологические нарративы функционируют в сообществе непрерывно, то остается не ясным, какими должны быть критерии выделения периодов эсхатологических кризисов. По этой причине, думается, в большинстве фольклористических работ, интерпретирующих крестьянские пророчества о последних временах, понятие «эсхатологический кризис» не используется.
Исключение составляет статья Л. Вайолы, посвященная «эсхатологии» русских крестьян 1920-1930-х годов. Исследовательница характеризует этот период как «апокалиптический всплеск», вызванный «драматическими социальными изменениями» и наблюдавшийся «в тех группах, которых эти изменения коснулись в наибольшей степени» (Viola 1990: 749). Подобный подход, как представляется, во многом обусловлен результатами исследований т. наз. кризисных культов (La Barre 1971, Lanternari 1974) аборигенов Америки, Азии и Африки, вариантами которых считаются карго-культы Меланезийских аборигенов, Ghost dance американских индейцев, таи таи африканских племен и др. Среди многочисленных моделей, предложенных для объяснения возникновения подобных религиозных движений135, существенное место занимает т. наз. аккультурационная, впервые высказанная в 1943 г. Р. Линтоном. Впоследствии именно эта версия получила наиболее широкое распространение, и стала, как пишет Ла Барр, «своего рода "антропологическим объяснением" причинности [явления - Е. М.]. С этой точки зрения, главным фактором, определяющим возникновение кризисного культа, является тот или иной "культурный конфликт"» (La Barre 1971: 20).
Тот факт, что кризисные культы в различных областях ойкумены нередко сопровождались мессианскими и апокалиптическими пророчествами, естественно заставляет обратиться к ним в поисках параллелей к эсхатологии русских крестьян. И, если в работе Л. Вайолы подобное сопоставление только подразумевается, то в исследовании А. А. Панченко оно выражено вполне эксплицитно. Согласно его выводам, «эсхатологические ожидания русского крестьянства, функционировавшие в течение XX в. в форме нарративов о «последних временах», в существенной степени связаны с процессами аккультурации, воздействия более развитой в техническом отношении культуры на культуру более слабую. Такие процессы, сопровождающиеся изменением социальной структуры и перестройкой аксиологических систем, неизбежно вызывают определенное социальное напряжение. Нередко оно выражается в форме различных мессианских движений. Классический пример движений этого рода - меланезийские «карго-культы», получившие широкое распространение в первой половине нашего столетия» (Панченко 2002: 364).
Результаты, к которым приходят Л. Вайола и А. А. Панченко, отталкиваясь, очевидно, от одного и того же подхода, различны. Л. Вайола рассматривает эсхатологические ожидания 1920-30-х годов по сути дела как кризисный культ, или «nativistic movement» в терминологии Линтона. Социальные изменения, связанные с пост-революционными событиями, описываются в ее работе как непосредственные причины апокалиптического всплеска в русской деревне. А. А. Панченко же делает вывод о том, что аккультурация - главная и универсальная, во всяком случае, для периода конца XIX-XX веков, функция эсхатологических нарративов.
Хотя и в том, и в другом случае речь идет об адаптации социальных изменений, концепция Л. Вайола предполагает существование «особо значимых», «исключительных» социальных изменений - именно тех, которые способны вызвать эсхатологический кризис. С точки зрения А. А. Панченко, эсхатологический нарратив способствует процессам аккультурации вообще, т. е. адаптации любых воздействий одной культуры на другую. Если попытаться развить эту мысль, то можно прийти к следующему выводу: именно эсхатологический нарратив и позволяет выяснить, что именно в той или иной группе воспринимается как новшество, требующее адаптации. Использование понятия «апокалиптический всплеск» или «эсхатологический кризис» с этих позиций также возможно. Но главный вопрос, который возникает в этом случае - что именно адаптируется эсхатологическим нар-ративом в периоды особенной популярности слухов о конце света.
С необходимостью ответить на этот вопрос, или хотя бы попытаться это сделать я столкнулась, обнаружив материалы об ожиданиях конца света на рубеже XIX-XX веков. Этот период никогда не рассматривался как время эсхатологического кризиса. А. А. Панченко включает свидетельства этого времени в общий ряд с текстами, записанными в конце XX века. М. Н. Власова, опубликовавшая одно из дел Тенишевского архива 1899 года, видит в крестьянских толках о комете, активно обсуждавшейся в то время, реализацию универсальных представлений о комете как предвестнице войн и несчастий. «Восприятие комет, - как отмечает автор, -остается на протяжении столетий в общих чертах неизменным» (Власова 1998: 386). Однако собранные к настоящему моменту материалы позволяют утверждать, что эсхатологические слухи рубежа XIX-XX веков имеют существенные отличия как от более ранних, так и от более поздних текстов аналогичного характера.