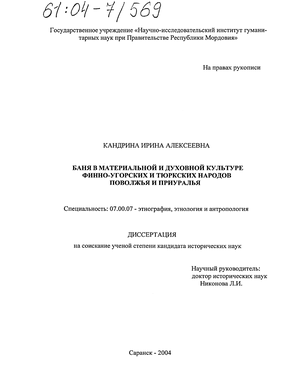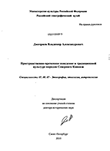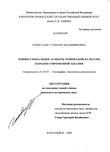Содержание к диссертации
Введение
1. Баня в материальной культуре народов
1.1. Эволюция бани 20
1.2. Выбор места постройки бани и ее архитектура 26
1.3. Функции бани в системе жизнеобеспечения народов 48
2. Гигиенические и лечебные функции бани
2.2. Баня в традиционной гигиенической культуре 54
2.3. Веники, пар, напитки - как физиотерапевтические средства 59
2.3. Народные методы и средства лечения в бане 71
3. Баня в обрядах жизненного цикла
3.1. Баня в обрядовых ритуалах 102
3.2. Функция бани в праздничных действиях 118
3.3. Магия и заговоры, связанные с баней 128
Заключение 147
Список использованных источников и литературы 158
Приложение 1. Внешний вид и внутреннее устройство бани 181
Приложение 2. Расположение бани на местности 189
Приложение 3. Народные средства лечения в бане 195
- Эволюция бани
- Выбор места постройки бани и ее архитектура
- Баня в традиционной гигиенической культуре
- Баня в обрядовых ритуалах
Введение к работе
Актуальность темы. Баня финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья, так же как и у большинства других народов, как историко-этнографический объект, является непременным атрибутом крестьянского быта. Выполняет разнообразные функции в системе их жизнеобеспечения: гигиеническую, очищающую кожу тела, снимающую усталость после физического труда, используется в обрядовых ритуалах, праздничных действиях; значительная роль ей отводится в профилактике здоровья и лечении болезней. Конкретное проявление ее жизнеобеспечивающих функций складывалось на протяжении столетий и составляло ту часть материальной и духовной культуры, которая направлена на поддержание жизни и деятельности этносов. Это отражено в социально-экономических, ритуально-культовых и других исследованиях этнической культуры, выделивших разные ее аспекты. Имеющаяся популярная литература, в основном носит рекомендательный характер по конструкции современных деревенских бань и способов их гигиенического использования, но почти совсем не исследует функции бани в крестьянском быту. В научных же печатных источниках она рассматривается отрывочно — в комплексе материальной и духовной культуры. Считаем необходимым восполнить этот пробел в предлагаемой работе и по возможности раскрыть значение бани у финно-угорских (коми, марийцы, мордва, удмурты) и тюркских (башкиры, татары, чуваши) народов Поволжья и Приуралья, поскольку она имеет огромное значение в сохранении здоровья этносов в целом. А накопленный ими опыт может быть востребован в современных условиях, когда люди стремятся к здоровому образу жизни, а народная и научная медицина находят пути к взаимодействию и взаимообогащению.
Объект исследования: баня в материальной и духовной культуре у финно-угорских (коми, марийцы, мордва, удмурты) и тюркских (башкиры, татары, чуваши) народов Поволжья и Приуралья.
Предмет исследования: жизнеобеспечивающие функции бани у финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья.
Степень изученности проблемы. Относящаяся к теме исследования литература весьма обширна, но неоднородна, как в сущностном, так и в хронологическом отношении, что заставляет нас рассмотреть ее по отдельным этносам, начав с коми. X. Мозель работе «Материалы для географии и статистики России, собранной офицерами генерального штаба» (СПб, 1864: 664) раскрывает значение бани для коми-пермяков: «...в болезнях простудных главное лечение составляет баня, жарко истопленная, после которой, конечно, легкая простуда проходит без следа. Бани употребляются также против кори и оспы». Много места коми-зырянским баням уделяется в живописном альбоме «Народы России» (СПб., 1880: 158). Подробное описание традиционной коми-пермяцкой бани дано Н.А. Роговым (Материалы для описания быта коми-пермяков. СПб., 1858: 113). В историко-этнографическом очерке И.Н. Смирнова «Пермяки» (Казань, 1891) приводится параллель между печью в доме и баней (С. 197). А.С. Сидоров рассказывает о лечении в бане в работе «Знахарство и порча у народа коми» (Л., 1928: 63,104, 108).
В.Н. Белицер в монографии «Очерки по этнографии народа коми (XIX-нач. XX вв.) пишет о том, что почти каждая крестьянская семья имела собственную баню, о выборе мест, где ее ставили, приводит примеры свадебного обряда в бане (М., 1958: 197). Ф.В. Плесовский в исследовании «Свадьба народа коми» проанализировал свадебные обряды и причитания: особое внимание он уделяет обряду невесты в бане (Сыктывкар, 1968: 52—55, 128).
О восприятии внутреннего мира бани коми-пермяков («дух бани», другие мифологические персонажи) пишет О.А. Черепанова («Мифологическая лексика Русского Севера». Л., 1983).
Современный исследователь народной медицины коми - этнограф И.В. Ильина в своих публикациях рассматривает некоторые функции бани (Сыктывкар, 1989: 111). В статье И.В. Ильиной, Ю.П. Шабаева «Баня в традиционном быту коми» (Сыктывкар, 1985: 112) приводятся народные поговорки о значении бани среди населения: «Баня все правит», «Баня для больного все равно, что бальзам»; говорится о выборе мест для бани: «...прежде бани предпочитали ставить у реки, ручья в одиночку или большими группами за пределами двора». Это было связано с большой пожароопасностью черных бань и необходимостью иметь поблизости водный источник.
Шарапов В.Э. в статье «Ель, сосна и береза в традиционном мировоззрении коми» отмечает лечебные свойства березовых веников, особенности их хранения, а также ритуальные обряды, связанные с баней (Сыктывкар, 1993: 133-134). Ю.П. Шабаев и Л.С. Никитина в статье «Традиционная коми-пермяцкая баня» (Сыктывкар, 1993: 58) рассматривают конструкцию бани, ее утварь, функции (санитарно-гигиеническая, ритуальная, рекреационная и как мастерская). Интересны сведения и о магической роли бани. Д.П. Никольский отмечал, что одной из важных построек задней части усадьбы у марийцев была баня («монча»). «У марийцев были обычные для народов лесной полосы парные бани с печкой-каменкой в ближнем от входа углу, с топкой по-черному. В основном, это были срубные постройки с предбанником и двускатной крышей из коры или соломы, реже из досок» (Этно-графическо-антропологический очерк восточных черемис. Чебоксары, 1897: 14-78). В.И. Филоненко видел у марийцев примитивные бани «шалаши из хвороста с земляной крышей» (Отчет о командировке в Бирский уезд. Уфа, 1914: 6). Другие, более ранние исследователи, отмечали, что марийцы любят париться в бане, ставят их обычно возле речки, чтобы иметь возможность окунуться в холодной воде (Моммье С. О черемисах. СПб., 1896: 96).
Иногда бани были во дворе (Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1895: 219). У зажиточных марийцев, по данным С. Сатукова, встречались бани с топкой по-белому (Сепеев Г.А. Восточнаые марийцы. Йошкар-Ола, 1975).
При лечении ревматизма баня для марийцев являлась своего рода здравницей (Ефимова, Йошкар-Ола, 1991: 30). Л.С. Тойдыбекова в своей доктор ской диссертации «Марийские языческие верования и этническое самосознание» (1997: 155) отмечает: «...важное место в народной медицине мари отводят бане. Она является средством лечения и предупреждения болезней. Простудившись, парились березовым веником, при ревматизме, полиартритах — пихтовым и березовым вениками».
В коллективном сборнике «Русский Север: этническая история и народная культура. ХП-ХХ века» (М., 2001) представлены все формы культуры жизнеобеспечения северных народов, в т. ч. и русская баня: «В тех районах, где бани у русского населения не зафиксированы, бытовала другая традиция — мытье (парение) в печи». Описания их даются в сообщениях князя В. Н. Тенишева, присланных в Этнографическое бюро (С. 281).
Мордва в основном в прошлом тоже парилась и лечилась в печи. Этот случай в Самарском уезде зафиксировала Е. Всеволжская (СПб., 1879: 28).
Баня у мордвы занимала особое место, о чем писали многие исследователи: В. В. Селиванов (1858: 73), К. Митропольский (1876: 18), А. А. Шахматов (СПб., 1910: 65), И. Н. Смирнов (Казань, 1895: 188). М. Е. Евсевьев в «Материалах по этнографии мордвы, извлеченных из архива Государственного музея этнографии народов СССР» пишет: «На страстной неделе Кардафлейская мордва Городищенского уезда три раза парится в бане» и далее подробно, при каких обрядах и как она используется (л. 25). Пишет о мордве Нижегородской губернии (с. Сескино) и том, какое место баня занимает во время гаданий (л. 48). Подробно рассказывает о свадебном обряде невесты, связанном с баней («Мордовская свадьба». Саранск, 1968; С. 112—129), элементы которого встречаются в мордовских селах и в настоящее время. Н.Я. Назаркин в книге «Народонаселение и охрана здоровья в Мордовии» отмечал: «Встречая праздники, мордва обязательно накануне истопит баню, дорогого гостя прежде всего потчевали жарко натопленной баней (Саранск, 1973: 141). Маркелов М.Т. записал в с. Синенькие Петровского уезда Саратовской губернии заговор перед тем как выходить из бани (Саратовская мордва. Этнографическме материалы. Саратов, 1922: 92). А. Мартынов в работе «Мордва в Нижегородском уезде» отмечал какие веники заготавливает мордва для проведения правздника «Петров день» и как их используют для гадания (Н.Новгород, 1865: 7). В исследовании В.Н. Белицер «Жилые и хозяйственные постройки мордвы-мокши на территории Мордовской АССР в конце XIX-первой половине XX в.» (М., 1963: 161-191) говорится о строении бань и их роли в семейных обрядах.
В. Имайкина в статье «Обрядовый календарь зимнего сезона у мордвы» (Саранск, 1977: 85) пишет о масленичных банях.
В отчете об этнографической экспедиции по Куйбышевской области , Н.Ф. Беляева отмечает, что мордовская семейная обрядность конца XIX — начала XX в. содержала много поверий (л. 21); называет обряды при рождении ребенка, проводившиеся повитухой, в т. ч. и в бане (л. 22-23). Лечение в бане было распространено у мордвы повсеместно. Основу его составляли действия, направленные на выпаривание болезни; вместе с тем оно имело вид магического обряда, которому предшествовал процесс подготовки самой бани и необходимых для этого средств: воды, камней, веника.
Монографию Л. И. Никоновой «Тайны мордовского целительства» (Са ранск, 1995) можно считать первым опытом систематизации сведений по на- родной медицине мордвы. На основе различных источников, литературных данных и полевых исследований, которые удалось собрать, автор попытался классифицировать обширный материал по траволечению, лечению средства ми животного происхождения, физиотерапевтическим, хирургическим сред ствам и методам исцеления. Особое место занимает глава книги, где рас сматриваются необъяснимые с позиции современной науки психотерапевти ческие (по терминологии автора) методы воздействия — заговоры от болез ней. , В книге приводятся примеры лечения указанными средствами в бане. В последующих книгах Никоновой Л. И. в той или иной степени освещаются вопросы обрядов, книге Л. И. Никоновой и И.А. Кандриной «Баня в системе жизнеобеспечения народов Поволжья и Приуралья: историко-этнографическое исследование» впервые сделана попытка рассмотреть баню в комплексе системы жизнеобеспечения (Саранск, 2003).
В статье «Баня в традиционной медицине финно-угорских народов Европейского Севера и Среднего Поволжья» (Киров, 1997) Л. И. Никонова отмечает, что баня у коми, марийцев, мордвы и удмуртов служила не только целям гигиены, но и выполняла целительные функции при использовании различных средств и методов лечения. В статье «Баня в системе традиционной валеологической культуры финно-угорских и тюркских народов Среднего Поволжья и Приуралья» (Глазов, 1997) ею кратко обобщен материал о банях коми, марийцев, мордвы, удмуртов, башкир, татар, чувашей.
Источниковая база и данные современных исследователей позволяют проследить эволюцию мордовской бани и выявить специфику ее многофункциональности, - пишет известный этнограф профессор, доктор исторических наук Н. Ф. Мокшин в своей книге «Материальная культура мордвы: Этнографический справочник» (Саранск, 2002: 38-39), его другие работы послужили методологией теоретических вопросов по этнологии исследуемых народов (Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы. Саранск, 1977; Мокшин Н. Ф. Мордовский этнос. Саранск, 1989; Мокшин Н. Ф. Мордва глазами зарубежных и российских путешественников. Саранск, 1993; Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. Издание 2-е, дополненное и переработанное. Саранск: Мордов. Кн. Изд-во, 1998; Мокшин Н. Ф. Мордва // Народы Поволжья и Приуралья. М., 200. С. 230-427).
В. Кошурников в работе «Быт вотяков Сарапульского уезда Вятской губернии» (Казань, 1880: 8, 27) пишет, как удмурты проводили посиделки в бане. В статье Г. Верещагина «Вотяки Сарапульского уезда Вятской губернии» (1889; С. 43) подчеркивается значимость горячего водяного пара в бане. Далее автор говорит о традиционных обрядах и обычаях (С. 37, 49—112). Т.Н.Борисов (Изгнание шайтана у вотяков. Петроград, 1914) пишет об игре, проводимой в бане под названием «Изгнание шайтана» в д. Кизеково Алнаш-ской волости Елабужского уезда Вятской губернии.
Удмуртский писатель К. П. Герд собрал обширный полевой материал, касающийся специфики родильных обрядов, и написал работу «Человек и его рождение у восточных финнов» (1926). Он отмечает, что роды у зырян, черемис, мордвы проходили в клети или бане. Современный известный исследователь, этнограф Л. С. Христолюбова в работе «Семейные обряды удмуртов: традиции и процессы обновления» (Ижевск, 1984: 63-65) отмечает, что в прошлом роды у удмуртов чаще проходили в бане; указывает, что предпринималось, чтобы напугать, отогнать злых духов, которые, по поверьям крестьян, мучают роженицу; к какому обряду в бане прибегали, если не рожда--4 лись дети.
Как удмурты Глазовского района использовали парную баню при лечении наружных болезней, сообщает М. В. Сысоева в статье «Из истории развития здравоохранения в Удмуртии в XVIII-первой половине XIX в.» (Ижевск, 1984: 24-39).
В коллективном сборнике статей «Удмурты. Хозяйство и материальная культура удмуртов в XIX -XX в.» (Ижевск, 1991: 162-163) говорится о роли банных веников при гадании, на праздниках. О бане в обрядовой жизни уд-муртов пишет и Л. С. Христолюбова (Удмурты, 1993: 214-215).
М. А. Круковский отмечал, что у башкир вместо срубной бани вначале были бани-землянки, но до наших дней они не сохранились, однако в литературе упоминается существование подобных сооружений у юго-западных башкир: в начале века «баню в земле» встретил на р. Дема» (Южный Урал. Путевые очерки. М., 1909: 56-57).
Материалы по истории Башкирской АССР (М., Л., 1936: 119) имеют сведения о распространение бань в башкирских деревнях, как они использо- г вались, кто участвовал в постройке бани, ее ремонте.
Наряду с освещением различных аспектов быта башкир С. И. Руденко в монографии «Башкиры. Историко-этнографические очерки» (1995: 245-246) описал среди построек и башкирские бани, откуда они были заимствованы. В работе Р.А. Султангареева «Башкирские обряды: мифопоэтические свидетельства древних религий» (Уфа, 1994: 276) значительное место уделено обрядовой бане (мунса).
Особые функции бань - своего рода общественных построек - впервые отметил в конце XIX в. П. С. Назаров в статье «К этнографии башкир» (М., 1980: 177). В частности он отмечал: «...несмотря на малочисленность бань в башкирских аулах, отношение населения к постройкам этого рода, по крайней мере, в конце XIX в. было положительным...бани южные башкиры строят во дворах не так часто, как за деревней, на берегу реки», далее говорится об их сооружениях, хозяйственной утвари, вениках.
С. Н. Шитова рассматривает связь башкирской бани с особенностями системы жизнеобеспечения, приводит сравнительный материал (Традиционные поселения и жилища башкир: вторая половина ХГХ-первая четверть XX в. М., 1984).
Башкирское население широко практиковало в бане физиотерапию с применением растений, минеральных веществ, средств животного происхождения. Барометром эффективности проводимой физиотерапии считалось потение пишет врач, исследователь Гумаров В. 3. в работе «Башкирская народная медицина» (Уфа, 1985: 48).
«Почти у каждого баня, в которых они еженедельно парятся», — отзывался о казанских татарах русский путешественник и ученый XVIII века И. И. Лепехин (СПб., 1884: 554). В Г. Тизенгаузен в сборнике материалов, относящихся к истории Золотой Орды (М., Л., 1941: 241-242) перечислил бани, их гигиенические функции. Н. И. Воробьев в работе «Материальная культура казанских татар (опыт этнографического исследования» (Казань, 1930: 81) описывает значение бани в татарском быту, их типы, строения и др. Н.Ф.Калинин и А.П.Смирнов исследуя бани в Булгарском городище, пришли к выводу, что одна из характерных черт булгарских и золотоордынских городов - наличие в них множества благоустроенных бань и далее, как они были обустроены (Реконструкция булгарской бани XIV в. (из материалов Куйбышевской экспедиции 1940г.) М, Л., 1946). Воробьев Н. И. в работе «Казанские татары» (Казань, 1953: 212) более подробно рассматривает татарскую баню, ее расположение, функции.
В работе «Татары Среднего Поволжья и Приуралья» говорится о том, какое место в быту татар занимала баня, какая она, где и кто ее строил (М., 1967: 240). Описание общественных бань в Селитренном городище (Сарай Бату) и Водянском, об их оздоровительном эффекте для населения, мы находим у Гыйлажеддинова СМ. (Казань, 1987).
Р. Бушков в брошюре «Баня по-казански» (Казань, 1993: 4) рассказывает об истории появления бань в крае со своими банными традициями Татарстана, разновидностях бань и секретах банных оздоровляющих процедур.
В коллективной монографии «Татары» (М., 2001: 246-247) мы находим небольшое сообщение о татарской бани, некоторых обрядах проводившихся в ней. Л. Ф. Змеев в работе «Медикотопографическое описание и статистический очерк народонаселения Бугульминского уезда Самарской губернии» (М., 1883: 46-49) пишет о том, что из себя представляют чувашские бани, их типы. О чувашских банях рассказывается также в работе Н.И. Воробьева, А. Н. Львова, Н.Р. Романова, А. Р. Симонова «Чуваши» (Чебоксары, 1956).
О роли бани в традициях чувашей, месте их постройки, а также об использовании для банных целей печи содержится в статье Л.А.Иванова, И.Д.Кузнецова, П.А.Сидорова, П.П.Фокина «Изменение материальной культуры сельского населения Чувашии (по материалам экспедиций 1933, 1960, 1970, 1980гг.)» (Чебоксары, 1986: 45-93).
Г.Б.Матвеев в статье «Жилища и постройки чувашей в конце XIX- начале XX вв.» (Чебоксары, 1985: 30-66) анализирует чувашские деревни северозападных районов, где приводятся сведения и о банях: «Обычно несколько семей имели одну общую баню - землянку на склоне оврага. Внутренняя планировка этого типа бани была близка к планировке жилища тюркских на родов. Зажиточные крестьяне ставили в огороде срубные бани».
В работе диссертантом использованы материалы следующих авторов, касающиеся системы жизнеобеспечения и бани: Арутюнов С.А. Народы и культуры (М., 1989); Арутюнов С.А., Мкртумян Ю.И. Проблемы типологического исследования механизмов жизнеобеспечения в этнической культу-ре//Типология основных элементов традиционной культуры (М., 1984: 19-33); Бехтерев В.Л. Роль внушения в общественной жизни // Обозрение психиатрии и экспериментальной психологии (М., 1898: 3—19); Бромлей Ю.В., Воронов А.А. Народная медицина как предмет этнографических исследований (М., 1976: 3-18); Козлов В. И. Жизнеобеспечение этноса: содержание понятия и его экологические аспекты // Этническая экология: теория и практика (М., 1991: 14-42).
В той или иной мере значения бани у других народов: Давлетшин Г. М. Волжская Булгария: духовная культура. Домонгольский период (X — нач. XIII вв.). Казань: «Таткнигаиздат», 1990; Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография (М., 1981); Колчин Б. А., Янин В. Л. Археологии Новгорода 50 лет//Новгородский сборник (М., 1982); Зиливинская Э.Д. Средневековые бани Нижнего Поволжья // Сокровища сарматских вождей и древние города Поволжья (М., 1991); Байбурин А. К. в работе «Жилище в обрядах и представлениях восточных славян» (Л., 1983: 53) рассматривает отношение к бане в целом и к ее особому внутреннему миру.
Источники. При написании нашей работы использовались материалы архивов. Материал по статистике заболеваний, оказанию врачебной помощи на селе, строительству больниц содержится в Центральном государственном архиве Республики Мордовия (ЦГА РМ): Ф. 20. Саранская городская дума Саранского уезда Пензенской губернии. Дело о построении городской больницы (1821 г.), оп. 1: д. 228, л. 1-48; В Ф. 20. «Саранская городская дума Саранского уезда Пензенской губернии. Указы Пензенского губернского Правления о принятии мер по случаю холеры» отмечаются методы борьбы с этой болезнью, в т. ч. и о бане (оп. 1: д. 325, л. 1-37); Подобные материалы содер жат и другие фонды: Ф.21. Саранское уездное полицейское управление Пензенской губернии, оп.1: д. 14, л. 1-74; Ф. Р-415. Постановления и протоколы заседаний исполкома райсовета (1932 г.), оп. 1: д. 48, 173 л.; Ф. Р-56. Расчетная книга служащих отдела здравоохранения по Ардатовскому уезду (1922-23 гг.), оп. 1: д. 11, л. 287; Ф. Р-435. Министерство здравоохранения МАССР (1924-1975 гг.), оп. 1: д. 12; Ф. Р-415. Постановления и протоколы заседаний исполкома райсовета (1932 г.), оп. 1: д. 48, л. 173; Ф. Р-1083. Протоколы заседаний президиума Дубёнского райисполкома, Мордовской Автономной области, Средне-Волжского края (1934 г.), оп.1: д. 25.
В Государственном архиве Кировской области нами извлечен материал о медицинском обслуживании удмуртов: «По ознаменованию Земствами Вятской губернии юбилея первого 50-летия Земских учреждений (1864-1914)» (ф. 587, оп. 19: д. 76), где помещена докладная записка доктора медицины И.В. Аксакова — врача первого медицинского участка, в которой отмечается «...лечение населения у знахарей, да шептунов», медицинская помощь на врачебных участках в уезде.
Н. В. Никольский проделал огромный труд по сбору народных средств врачевания у народов Среднего Поволжья и Приуралья, в т.ч. и чувашей. Часть этого материала хранится в Научном Архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук. Автором сделана попытка проанализировать материалы, связанные с темой исследования и включить в эту работу (ед. хр. 158, л. 1-171). Этнография и ед. хр. 174. Этнография, фольклор (л. 5-697) и др. Н. В. Никольским собран материал о народных способах и средствах лечения чувашей в Курмышском у. д. Варман - касы, рассказывается о болезнях, которым в прошлом подвергались чуваши с использованием для их лечения в бане. Материал о колдунах, юмзях и их «ремесле», а также сборе трав для лечения содержится под ед. хр. 215 «Этнография. Материалы о чувашах» (л. 1-537). Там же хранятся три группы исследований «Некоторые моменты из жизни чувашей и связанные с жизнью суеверия», где отмечается, что чуваши «...верят в злых духов и знают, как себя отвести от них», а также описываются обряды жертвоприношения, моления, заговоры, предохранительная магия и т. п., где упоминается и о бане. В другой группе коротко поясняется, куда и к кому обращаются чуваши в случае болезни и какие действия при лечении совершает ворожея. Наиболее широко нами использован материал Н. В. Никольского, хранящийся в ед. хр. 574. (л. 9).
Во всех материалах рассматриваются классификация болезней и способы их лечения: травами, средствами животного и минерального происхождения, а также «покупными на базарах», домашнего обихода (баня, заслонка, зола, горшок, ложка, бутылка) и т.д.; авторы сообщают, кто такой колдун, меры предохранения от его действий; другие сведения. Это касается и чувашей Козмодемьянского, Ятранского, Буинского, Белебеевского, Стрелецкого, Бугульминского, Бугурусланского уездов. Интересны по своему содержанию и сведения исследователя В. Элле, содержащиеся в статье «Описание религиозных праздников. Заговоры против болезней, в т. ч. проводимых в бане» (ед. хр. 619). Он же в разделе «Как чувашский народ освободился от болезней» и их лечение в бане (ед. хр. 616), касающемся с. Аликово Аликов-ского района, рассматривает народные представления о происхождении болезней (чирьи, оспа, болезни кишечника).
Широко использовался нами архив Рукописного фонда Государственного учреждения «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» (РФГУНИИГН). В первую очередь это касается РФ материала из личного архива М. Е. Евсевьева (л.-51; л—52; л-56; л-57), в которых записаны полевые записи исследователя, сделанные имв1912-1915ив 1926 гг. в эрзянских и мокшанских селениях Мордовии и за ее пределами. В них содержится материал по народной медицине и бане, описание обрядов с элементами магии и пр. Аналогичные действия содержат в себе и остальные материалы: РФГУНИИГН, И-657; л.-29. Заговоры, записанные в Большеберезниковском районе Мордовской АССР Л. П. Тарасовым и Л. С. Кавтаськиным, Ф. М. Чесноковым в 1936 г. (перевод док тора филологических наук, профессора Р. Н. Бузаковой). РФГУНИИГН, И-147. Катков К. А. Народное здравоохранение в Мордовской АССР; РФГУНИИГН, И-1230. Беляева Н. Ф. Традиционные приемы по уходу и воспитанию детей у мордвы. Дисс. Саранск, 1986; РФГУНИИГН, И-1375. Никонова Л. И. Отчет этнографической экспедиции 1994 г. в Пензенскую область: Сосново-борский и Никольский районы; РФГУНИИГН, Никонова Л.И., Кандрина И. А. и др. Отчет этнографической экспедиции 2002-2003 г по Республики Мордовия в Ковылкинский, Большеберезниковский, Теньгушевский районы.
В личном архиве (ЛА) у Л. И. Никоновой есть сведения о роли бани у финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья, которые использовались в данном исследовании: Знахарство удмуртов. Видеозапись. Ч. 1 (2 час). Республика Удмуртия, Глазовский район, 1996; Знахарство удмуртов. Видеозапись. Ч. 2. Республика Удмуртия, Балязинский район, 1996; Знахарство удмуртов. Аудиозапись. Ч. 1,2. Глазовский, Балязинский районы, 1996; Знахарство татар. Видеозапись. Ч. 1. Стерлибашевский район, Республика Башкортостан, 1997; Знахарство татар. Аудиозапись. Ч. 1. (с. Верхне-Яушево Федоровского района Республики Башкортостан, 1997); Знахарство башкир. Аудиозапись. Ч. 1. (с. Аллагуват Стерлибашевского района Республики Башкортостан, 1997); Знахарство чуваш. Аудиозапись. Ч. 1. (с. Атла-шево, с. Ельниково Чебоксарского района Чувашской Республики, 1996).
В работе использован полевой материал, собранный в ходе полевых выездов в Республику Мордовию (Кочкуровский, Большеберезниковский, Теньгушевский, Ковылкинский, Ромодановский, Дубенский, Атяшевский и др. районы), Башкортостана, Чувашской Республики, Марий-Эл, Татарстана, Удмуртию. Информаторами выбирались в основном люди пожилого возраста, знающие и умеющие толково объяснить роль бани в их жизни. Удалось наблюдать многие приемы лечения болезней, проводимые непосредственно в бане.
Цель исследования: изучение бани в традиционной материальной и духовной культуре финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья в общей системе их жизнеобеспечения. В соответствии с намеченной целью поставлены следующие задачи: охарактеризовать значение бани в материальной культуре народов; проследить ее эволюцию; выявить, как определялись место постройки и архитектура бани; определить функции бани в системе жизнеобеспечения исследуемых народов; рассмотреть оздоровительную функцию бани; проследить роль бани в духовной культуре: обрядах жизненного цикла (родильных, свадебных), играх, праздниках.
Территориальные рамки исследования. География исследования ох ватывает территорию традиционного проживания коми, марийцев, мордвы, удмуртов, башкир, татар, чуваш в Урало-Поволжье.
Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки исследования - конец XIX и XX века. В значительной степени они определяются состоянием источниковой базы. Изучение, сбор материалов по народной культуре исследуемых народов, начинался в основном с последней четверти XIX века. Однако, учитывались и более ранние материалы.
Теоретико-методологические основы исследования. Теоретико- методологической базой исследования явились труды отечественных ученых С. А. Токарева, Ю. И. Семенова, Б. Ф. Поршнева, Ю. В. Бромлея, В. И, Коз лова, С. А. Арутюнова, Н. Ф. Мокшина, Л. И. Никоновой и др., в которых раскрываются характерные черты этноса, как устойчивого и в то же время динамичного межпоколенного социального организма, в функционировании которого существенное место принадлежит — бане. В их трудах разработан понятийный аппарат как «системы жизнеобеспечения» в целом, так и «на родной медицинской культуры», «ритуалы»; «этномедицины» и др. в каче- ґ,, стве неотъемлемой их составной.
При работе использован сравнительно-исторический метод, а также эт-носоциологическая методика (опросы, анкетирование респондентов; непо средственное, в том числе включенное, наблюдение), позволившие соединить разрозненные элементы анализа, коррелировать их результаты и, в ко-нечном счете, восстановить достаточно убедительно реальное состояние бани и ее роль в жизнеобеспечении этносов на разных этапах исторического развития.
Научная новизна диссертации. Работа дополняет вышедшую ранее книгу и вместе с ней является обобщающим историко-этнографическим ис следованием сущности бани в системе жизнеобеспечения этносов. В иссле довании предпринята попытка собрать, зафиксировать, проанализировать и обобщить сведения о ней у финно-угорских и тюркских народов, провести j параллели в их знаниях по этому вопросу, выявить сходство и различие, ко торые позволяют глубже вникнуть в сущность исследуемого вопроса.
Научно-практическая значимость. Работа расширяет представление о сущности и понятии бани у финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья в системе их жизнеобеспечения; способствует теоретической разработке истории бани у исследуемых этносов, раскрывает ее роль в материальной и духовной культуре, выделяя общее и особенное, традиционное и новационное. Исследуемая тема непосредственно связана с проблемой общества - поиска путей здорового образа жизни и в этом поможет веками сложенная этносами традиционная медицинская культура, где бане принадлежит значительное место. Материалы работы могут быть использованы при создании специальных трудов по этнографии народов Поволжья и Приуралья, подготовки курсов лекций и учебных пособий по этнологии, культурологии, этномедицины и др.
Предлагаемая работа, разумеется, не может претендовать на исчерпы вающую полноту изучения всех проблем исследуемого вопроса у финно- угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья. Тем не менее, она мо- ., жет послужить опорным толчком для дальнейшего исследования, а также по казателем сохранности этих знаний как части народной культуры этносов.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Возникновение бани можно датировать каменным веком и предполо- " жить, что она появилась у жителей холодной и умеренной климатических зон северного полушария, и это был «многоочаговый» процесс. Распространение бани связано с особенностями миграций этнических групп, которые переносили свой опыт, привычки и способ жизни в новые края обитания.
2. Бани вначале сооружались главным образом в землянках (в склонах оврагов), но затем эта привязка ослабла. Современная картина распространения бань и их особенности уже мало соотносятся с историческим прошлым.
3. В структуре жизнеобеспечения исследуемых народов баня рассматривается как один из основных факторов активной деятельности в борьбе за
v , здоровье. Система жизнеобеспечения составляет часть культуры, которая не посредственно направлена на поддержание жизнедеятельности ее носителей. Она включает в себя ряд компонентов, связанных с хозяйством, материальной и духовной культурой, общественным и семейным бытом народа. Баня -важный компонент этой системы.
4. Гигиена на протяжении веков являлась одной из важнейших функций бани. Большое значение перед банными процедурами отводилось подготовке самой бани, элементы которой выполняются обычно в строго заведенной по следовательности. У народов сложились определенные правила и обычаи, vf чтобы баня принесла пользу и удовольствие, укрепила дух и тело человека; сложилась определенная последовательности мытья в бане. Существуют особые банные правила для людей незакаленных, перенесших болезни, пожилых и женщин.
5. Веники как одно из физиотерапевтических средств воздействия на орга низм все исследуемые народы применяют примерно с того времени, как узнали целительную силу лекарственных трав и стали пользоваться ими именно в бане. Имеются свои секреты приготовления веников, напитков, отваров.
6. Баня является местом применения многих средств и приемов от тера- певтических до хирургических. В бане используются опробованные практи кой средства биологического и природного происхождения. Важное место в традиционной медицине исследуемых народов занимала сама физиотерапия.
7. Баня как часть жилого комплекса являлась местом проведения многих обрядов. Семейные обычаи и обряды - это внутренняя жизнь семьи, способ ее функционирования, реализация ею социальных, нравственных, педагогических и иных функций. В то же время это часть общественного быта, так как в семейном быту отражаются особенности социально-экономического уклада и духовных традиций, образа жизни народа. Значительное место бане отводится во время праздников. Предложить путнику баню считалось необходимым условием гостеприимства, она же была местом для отдыха, использовалась для посиделок, игр, гаданий.
8. Баня - это периферия социального пространства крестьянского двора, это пространство не одомашнено, место пограничное, здесь встречаются две стихии - огонь и вода. Поэтому у народов сложилось особое отношение к этому миру, в котором имеются мифологические персонажи - добрые и злые. Чтобы предохранить себя от последних применялись обряды магического, очистительного характера, нередко через чтение заговоров.
Апробация результатов исследования. Рукопись диссертации обсуждена на заседании отдела истории Мордовского края Государственного учреждения «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия». Основные ее положения докладывались на межрегиональной научно-практической конференции историков-аграрников Среднего Поволжья «Крестьянство и власть Среднего Поволжья (г. Саранск, 21-23 мая 2003 г.); V Конгрессе этнографов и антропологов России (г. Омск, 9-12 июня 2003 г.); Международной научно-практической конференции посвященной деятельности Н. В. Никольского (г. Чебоксары, 9, 10 апреля 2003 г.).
Эволюция бани
Баня - помещение, оборудованное для мытья тела с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или пара (в русской бане) (БСЭ, 1970: 1830). Люди с незапамятных времен пользовались баней, о чем свидетельствуют результаты археологических, этнографических и других исследований, определивших ее примерный «возраст» — свыше 25 веков. Можно предположить, что уже древним племенам было известно благотворное влияние тепла на человеческий организм. Одним из ранних письменных упоминаний о бане является свидетельство Геродота, который в 450 г. до нашей эры описал привычку скифско-сарматских племен, занимавших территорию современной Украины, мыться в палатке, в центре которой находились разогретые камни, на которые бросали семена конопли (Fritzsche W., 1978). Арабский путешественник Ибн Даста (912) видел на территории современной Болгарии примитивные землянки с остроконечными крышами, обогревавшиеся раскаленными камнями, которые обливали водой и люди при этом снимали с себя одежды. В таких сооружениях жили целые семьи до наступления весны. Их можно считать прототипами бани. Упоминание о бане содержится в летописи Нестора (1056), где апостол Андрей описывает свое путешествие в 907 г. по Северной Руси (МікоІаУек А., 1972).
От кочевых племен, живших в центральной и восточной частях Африки, сохранились ритуальные и религиозные обряды, связанные с применением горячих воздушных и паровых ванн, которые использовались и с лечебной целью (Harley G. W., 1941; Junod Н. Т., 1927). Имеются сведения о применении потельных ванн в Средневековой Ирландии. Предполагается, что появление здесь этого вида ванн связано с викингами, которые в VIII в. приплыли на остров из Скандинавии (Milligan S. F., 1889).
На основании археологических и исторических данных о распространении бани можно утверждать, что это был «многоочаговый» процесс. Люди научились использовать в своих целях природные явления, они узнали свойства огня, воды и камня, что стало предпосылкой возникновения современных бань. Естественно, что распространение бани связано с особенностями миграционных факторов: люди переносили свой опыт, привычки и способ жизни в новые края обитания. Уже сами названия несут информацию о происхождении ванн: финская баня (сауна), русская баня, римские ванны, японская баня и т. д.
Из приведенных сведений следует, что уже в древние времена баня, сауна использовались и в качестве профилактического и лечебного средства при некоторых заболеваниях. Современная медицина также рекомендует применение бани. Ее влияние на здоровый и больной организм стало предметом пристального внимания.
По истории происхождения бани в Среднем Поволжье, существовало мнение, что корни русской бани — в Византии, а название заимствовано из греческого языка (Фасмер, 1986: 121). Для определения места возникновения и наиболее раннего бытования «банной» традиции необходимо рассмотреть особенности позднейшего сплошного ареала так называемой черной бани (белые бани, с печной трубой, имеют более позднее происхождение и, несомненно, возникли под влиянием городской культуры).
Вероятнее всего, традиции русской бани зародились на территории вблизи Балтийского моря — бассейн Западной Двины и район вокруг оз. Ильмень. Подтверждением этой гипотезы может служить широкое распространение бань подобного типа в Новгороде XIII в. (Колчин Б. А., Янин В. Л., 1982: 12—72). В другие регионы она попала в разное время и разными путями. Возникает вопрос, с какой культурой ее связывать: финно-угорской или славянской? В обоих случаях имеются доводы «за» и «против». Вероятность первоначального появления бани в культуре финно-угров не так велика, как может показаться на первый взгляд. Версия о заимствовании ее переселенцами-славянами у местных финно-угорских народов оставляет открытым вопрос, почему оно произошло только на Севере, а в междуречье Волги и Оки (хотя и не повсеместно) эта традиция оказалась чуждой русскому населению. Со своей стороны, финно-угры Русской равнины испытали большое влияние славянского (русского) домостроительства, и самобытные элементы у них фактически не прослеживаются. Сказать, что именно у них существовало изначально, а что было заимствовано позднее, весьма затруднительно.
Традиции бани у современных поволжских и прибалтийских финно-угров сложились в основном в тех же местах, что и у соседнего с ними русского населения. То же самое относится к распространению «парения» в печи. Северные вепсы, соседствуя с русскими Прионежья и других районов, где повсеместно имеются бани, знают только эту традицию; южные же практикуют мытье в печи, как и их соседи. Кроме того, внутреннее пространство печи зимой использовалось южными вепсами как спальня. Парение в печах, встречающееся кое-где на юге Среднего Поволжья, исследователи связывают с русским влиянием. На территории Среднего Поволжья первые бани появились очень рано — не позднее XII в. — и пришли они туда из стран Востока (Русский Север, 2002: 285).
Население сельской местности заимствовало очень простую конструкцию бани русского типа. Современные сельские бани народов Поволжья имеют печь-каменку, топятся по-черному и, хотя вода нагревается уже во вмазанном в печь котле, связь их с русской баней очевидна. Устройство помещения и внутренняя планировка большей части бань поволжских народов идентичны русским. Время появления русской бани в Поволжье пока не известно. Несомненно только, что после падения Казани она распространилась там повсеместно, чему способствовал большой приток русских переселенцев. Возможно, заимствование произошло намного раньше, через торговые связи между Волжской Булгарией и Русью (Русский Север, 2002: 286).
Происхождение обычая мыться в печах еще более загадочно, чем зарождение «банной» традиции. До середины XX в. обычай париться в печи мало освещался в научной литературе. Между тем в конце XIX в. крестьяне многих районов даже в таежной зоне испытывали нехватку дерева, поскольку рощи и лесные участки находились в собственности государства и крупных землевладельцев. Но бани строились и в совершенно безлесных, степных местах, что приводило к употреблению нетрадиционных материалов и созданию оригинальных конструкций. Для их сооружения использовалось дерево любого качества и пород, а также старое, оставшееся после прежних построек. Для изб же отбирались только ровные бревна нужной толщины и преимущественно определенных пород хвойных деревьев. Поэтому отсутствие материала для строительства бань не являлось фактором, препятствующим их сооружению. В наибольшей степени традиции мытья в бане были связаны с крестьянскими миграциями, происходившими на протяжении столетий. На Среднюю Волгу, заселявшуюся русскими в сравнительно позднее время (после падения Казанского ханства), были привнесены разные культурные обычаи, среди которых преобладала баня. Позднее на освоенных территориях Урала и Сибири встречается уже только обычай мытья в бане. По отрывочным сведениям XV—XVIII вв. и материалам XIX—XX вв. прослеживается тенденция вытеснения баней обычая мыться в печах. При этом в местностях, где ранее не были знакомы с баней, она сначала появлялась в отдельных селениях и строилась, как правило, одна на всю деревню. В начале XX века в прилегающих к исследуемому ареалу районах преобладал обычай мытья в печи.
Выбор места постройки бани и ее архитектура
Баня с давних пор является неразрывной частью жилищного комплекса у исследуемых народов, входит в число основных хозяйственных построек. Ее обычно строили вдалеке от дома - в конце огорода, у водоема, что было связано с мерами противопожарной безопасности и удобством водоснабжения. В бытовом укладе коми-пермяков место бани является весьма значимым. В этом отношении их культурные стереотипы сходны со стереотипами других финно-угорских народов. Тем не менее, можно заметить и определенную специфику, которая отличает коми-пермяцкую от других родственных пермякам народов, в т. ч. и тюркских. Чтобы показать это, сделаем сравнения между коми-пермяцкой и зырянской баней, т. к. эти народы наиболее близки друг к другу.
У коми почти каждая крестьянская семья имела собственную баню. На -і усадьбе баню ставили в самом дальнем углу. Чаще бани располагали, как и амбары, группами на конце деревни, обычно близ ручья, на склоне речного холма. Иногда баню строили совместно две-три семьи. Бани топились по черному, по устройству они были довольно однотипными, различия заклю чались лишь в расположении печи и устройстве предбанника. Коми зырянские бани представляли собой низкий (не более 2 м высоты) сруб, руб ленный «в угол», без фундамента, часто с односкатной крышей, засыпанной землей. К бане примыкал предбанник, обычно самого простого устройства. В одних случаях он имел вид прируба к собственно бане, в других устраивался в виде легкой загородки из жердей и досок. В предбаннике на земляной пол клали несколько досок; здесь стояла скамейка для раздевания и была укреп лена жердь для развешивания одежды. В баню вела низенькая дверь. В одном из углов бани находилась каменка, чаще всего ее устье было обращено к двери или к маленькому окну, прорубленному в боковой стене с выдвижной дощечкой вместо стекла.
Каменка («гор») представляла собой груду камней с горном внизу. Иногда камни поддерживала железная ось. В каменке укрепляли большой чугун для нагревания воды или рядом с ней ставили деревянную колоду. Вдоль стены и над каменкой были укреплены шесты для белья, а под самым потолком в стене прорубалось маленькое отверстие для выхода дыма.
У противоположной стены стояла небольшая скамья и на ней железный таз или деревянное корыто для мытья. В углу - кадушка с холодной водой и деревянный ковш. Коми-зырянская баня имела в одних случаях план старого жилища-землянки (печь обращена устьем к входной двери), в других случаях ее внутренний план (печь обращена к боковому окну) был аналогичен плану русских бань и старого западнорусского жилища. Второй план расположения печи-каменки в бане, вероятно, не случаен. Он известен у коми-зырян главным образом в северных районах и, возможно, связан с проникновением сюда новгородской культуры, в частности, новгородского жилища, где этот план был распространен в прошлом (XV-VIII вв.) (Белицер, 1958: 157).
О выборе мест для бани: «...прежде бани предпочитали ставить у реки, ручья в одиночку или большими группами за пределами двора». Это было связано с большой пожароопасностью черных бань и необходимостью иметь поблизости водный источник. С. В. Игнатов, из с. Помоздино вспоминает: «Раньше недалеко от моего дома, ближе к речке стояло в ряд бань двадцать, да чуть повыше еще было бань десять». Там, где пользовались колодцами, бани были ближе к подворью. Белые бани были безопасны, поэтому их стали строить на своем дворе» (Ильина И. В., Шабаев Ю. П., 1985: 112).
У коми в прошлом их обычно ставили группами на конце деревни - на склоне реки или ручья. Ныне бани рубят в усадьбах, в самом дальнем углу двора. Возвращается традиция черных бань. Считается, что они более полезны для здоровья. Традиционная для коми баня известна на всем европейском Севере. Аналогичные бани строят северные русские, карелы, эстонцы, финны (Ильина И. В., 1996: 163).Обычно где была баня, дом на этом месте не строился. Так, И. В. Ильина отмечала: «У коми место, на котором прежде стояла баня, считалось грязным, нечистым и потому несчастливым, и там нельзя было ставить новый дом (Ильина И. В., 1996: 164).
Традиционная коми-пермяцкая баня имела весьма простую конструкцию. Ее подробное описание дано Роговым Н. А.: «Баня всегда черная, складывается на мху, из бревен длиною 5-7 аршин; и бывает или пятистенная, т. е. с предбанником в одной и той же связи, или четырехстенная. В этом последнем случае предбанник делают, приставляя наклонно тонкие бревна или жерди к той стене, в которой двери в баню. Она кроется на один скат тесом, или «лубом», липовой корой, у бедняков чаще остается без крыши. Печку в ней заменяет так называемая «каменка», складываемая из красноватого песчаника, в каком-либо углу близ входа. На одной стороне с каменкою, на высоте полуаршина, в бане делается полок из плах: подле стен, противоположных входу и полку, идут лавки. В стенах два небольших окна, одно внизу, у лавки, для света, другое вверху, над полком, для выпуска дыму. Вода держится в деревянной колоде, против каменки; черпают деревянным ковшом» (Рогов Н.А., 1858: 113).
Баню рубили из сосны и ели, а лиственницу для нижних венцов использовали только северные коми-пермяки. Из лиственницы старались делать не только нижние венцы, но и пол в бане, поскольку такая баня была более долговечной. Правда в XIX в., в коми-пермяцких банях не было деревянного пола, он был земляной. Иньвенские коми-пермяки для нижних венцов сруба использовали пихту. Песчаник для каменки собирали в поле, на пашне, а не по берегам рек, хотя северные коми-пермяки считали, что самый лучший камень именно у реки. Каменка вначале складывалась посредине бани, позднее в одном из ее передних углов (Шабаев, Никитина, 1993: 52).
По конструкции традиционная коми-пермяцкая баня имела предбанник. У коми-зырянских бань предбанники стали неотъемлемой частью постройки почти на сто лет позже, чем у коми-пермяцких. Кроме того, у коми-пермяков баня являлась надворной постройкой изначально, а у коми-зырян таковой она стала лишь в последние десятилетия. Зажиточные коми-пермяки имели обычно собственную баню на подворье, а те, кто победнее строили одну баню на две-три семьи (Мозель, 1864: 277). Собственно также принято было и у мордвы, где каждая улица в деревне имела несколько бань, а более состоятельные крестьяне считали обязательным строительство своей бани.
Современные коми-пермяцкие бани в большинстве своем белые, черных бань осталось очень мало. При этом надо заметить, что белые бани в Коми-Пермяцком округе стали широко распространяться очень поздно - лишь с конца 60-х-начала 70-х гг. XX в. (Шабаев, Никитина, 1993: 53).
Бани, которые сегодня возводятся на подворьях, имеют примерно такие же размеры, как и в прошлом: в плане это обычно сруб размерами 6 на 4 или 5 на 3 м. Сруб рубится в 10 или 11 венцов из довольно крупных бревен. Предбанник нередко делается дощатым, и потому он холодный. В таких банях зимой раздеваются не в предбанниках, а в самой бане. Иногда делают двойной предбанник: один теплый - бревенчатый, другой холодный - дощатый. Предбанник по традиции возводится без потолка (Шабаев, Никитина, 1993:53).
Баня в традиционной гигиенической культуре
Гигиена была на протяжении веков важнейшей функцией бани. Большое значение перед банными процедурами отводилось подготовке самой бани. Протапливают печь, моют полок, пол, предбанник. Замачивают веники. Перед заходом в баню «поддают» на каменку водой, чтобы оставшийся угарный газ паром вытеснился из бани. Закрывают ее. Минут через 30 заходят и снова поддают пар, открыв входную дверь, чтобы сквозной поток пара вытянул вместе с мокрым паром и все дурные запахи (повсеместно).
В настоящей парной даже самый жаркий воздух должен быть прозрачным и легким для дыхания (ПМА: Уразгельдинова, Шилкина, Храмова, Стеныпина). Сердце бани — печь, поэтому стараются позаботиться о дровах заранее. Обычно подбирают сухие березовые дрова, раскладывают их в печи так, чтобы горели ровно, следят за тем, чтобы огонь в печи погас, когда это необходимо, чтобы после него остались жаркие угли. На углях не должно быть сильного угарного пламени. Именно в этот момент обычно прикрывают дверь бани так, чтобы жар в ней был не только сильный, но и равномерный — от пола да потолка. Должно быть ощущение, что жар как бы «стоит». Тогда стены и полок как следует прогреются, не останется сырости и посторонних запахов. В этот момент закрывают трубу и проветривают баню, чтобы избежать угара, но и не выстудить баню (ПМА: Гилязова, Внучкова, Галеев).
Поддача горячей воды на раскаленные камни не только прибавляет жару на полке. Пар прекрасно очищает атмосферу бани, а капли воды, оседающие на полке (ПМА: Князева, Докукина). Если на ступеньках полка проступили сухие пятна, то это верный признак того, что парная почти просушена (ПМА: Никонова, 1996, ч.2) и настало время еще поддать горячей воды в каменку. В народе существует много способов получения легкого, «вкусного» пара. Но общие правила одни и те же: плескают воду на камни очень осторожно, так, чтобы на залить печь. Вода для поддачи должна быть горячей: прохладная создаст туман, лишние тяжести и влажность, остудит печь (ПМА: Ишуткина, Кезина). Воду на камни стараются плескать веером (ПМА: Зайдулина, Пахо-мова).
Чтобы выровнять пар, машут веником: тогда он равномерно распространяется на полке, а чтобы стало горячее, несколько раз плещут воду на камни.
Для приготовления «вкусного» пара на камни сначала плещут просто горячую воду, а потом уже настой из трав (ПМА: Никонова, 1996, ч.1; Она же, 1997, ч.1). Существует множество рецептов приготовления «вкусного» пара. В кипяток добавляют настой липового цвета, березы, душистого чая, мяты, лечебной ромашки, хвои. В прошлом чаще поддавали квасом, от которого в парилке воцарялся хлебный дух (ПМА: Гончарова, Калугин, Кипаев), а от настоев душистых трав — чудесные запахи лета, береза и хвоя привносят в парилку лесной аромат (ПМА: Внучкова, Гущина). По мнению информаторов, все эти ароматы не только повышают настроение. Полезные вещества, проникая через дыхательные пути и раскрытые поры тела, благоприятно влияют на организм. Это, в свою очередь, сказывается на деятельности различных органов и систем, особенно сердца и сосудов (ПМА: Дашкина, Карякина).
Башкиры, сибирская мордва, марийцы, удмурты поддают пар с настоями листьев хрена (ПМА: Крайнова, Куликова, Марьин, Ягодарова и др.), донника (ПМА: Хлутчины, Баженова). В некоторых селениях пучки ароматных трав кладут на полки. По мнению информаторов, такой пар обладает ингаляционным эффектом и особенно благоприятно воздействует на распаренный организм (ПМА: Уразгельдинова, Нелина).
Информаторы считают, что лучше всего готовить отвар из нескольких растений, делая «букет», чтобы туда входили травы и растения разного свойства: антисептические, отхаркивающие, тонизирующие, успокаивающие, потогонные, ароматные и т. д. Всего понемногу, иначе появится запах гари (ПМА: Вертянкин, Гончарова).
Народная «технология» приготовления отваров: в большую эмалированную кастрюлю высыпают смесь различных трав и листьев. Все это полностью заливают крутым кипятком и ставят на большой огонь. После закипания огонь убавляют до минимума. Кастрюлю плотно закрывают крышкой, а сверху обматывают тряпкой. Травы длительное время томятся на медленном огне, после чего снимают кастрюлю с огня и остужают отвар, не снимая крышки. Когда отвар охладится, травяную массу отжимают в дуршлаге. Полученный раствор процеживают через марлю и хранят в плотно закрытых бутылках. Чтобы избежать брожения отвара, добавляют в него немного спирта. Держат в прохладном теплом месте. Обычно запасаются отваром на полтора - два месяца (ПМА: Царегородцевы).
У народов сложились свои народные правила и обычаи, чтобы баня принесла пользу и удовольствие, укрепила дух и тело человека. Нельзя идти в баню на голодный желудок (ПМА: Гусева). Нельзя мочить голову перед парением, т. к. можно получить тепловой удар. Голову моют обычно в конце банной процедуры (ПМА: Ягодарова). Вначале в бане моются слегка, без мыла, согреваются, только потом начинают париться. Не рекомендуется сразу забираться на верхний полок — там слишком высокая температура, а привыкать к банному жару нужно постепенно. Пропарить можно только хорошо расслабленные мышцы, поэтому на полке надо немного полежать. К тому же при этом снимается нежелательная нагрузка на сердце — в положении лежа она примерно в два раза ниже, чем в сидячем. Некоторые информаторы считают, чтобы ноги находились даже немного выше тела. Если же нет возможности лечь, то, сидя на полке, не надо свешивать с него ноги. Это особенно касается пожилых, больных, ослабленных людей. Такие люди перед парной обычно принимают горячую ножную ванну в отваре березовых листьев (ПМА: Афоничкина), подготавливают организм к тепловой процедуре (Ни-конова, 1996, ч.1-2; Она же. 1997, ч.1-2; ПМА: Зимина).
Информаторы считают, что очень полезно проводить в бане массаж березовым веником, но до этого ни в коем случае нельзя охлаждаться, пить напитки. Можно выпить горячий чай, но не более стакана (ПМА: Круглова).
Известно, что мыло необходимо для очищения кожи, волос от жира. Раньше вместо мыла использовали щелок, речные белые камни. Башкиры заменяли мыло растениями с пенящимся соком (мыльнянка), глиной (ПМА: Кульсарина).
Посещение бани у коми-пермяков не было строго регламентировано. Топили довольно часто. Вот свидетельство исследователя XIX в. Н. А. Рогова: «...Они очень любят париться, попреть в русской бане: топят баню в страду по три, а в прочее время по два раза в неделю. Оба пола парятся при весьма высокой температуре. В баню ходят сначала мужчины, потом женщины с детьми. Зимой и летом в баню и обратно ходят в одной рубашке, чаще босые, редко в лаптях. Каждый имеет свой веник. После бани в избе все умываются, взрослые молятся богу» (Шабаев, Никитина, 1993: 55).
Мылом в бане прежде не пользовались, его берегли для стирки белья. Вместо мыла был щелок, а в некоторых местах пользовались особой глиной, которую именовали «земляным мылом». Для получения пара, на каменку плескали воду, иногда настоянную на травах, или квас, чтобы пар был душистее. Мочалку часто заменял березовый веник. Коми-пермяки верили в особую целительную силу таких веников (Шабаев, Никитина, 1993: 55).
Мылись мочалкой из естественных волокон. Чаще использовали липовое лыко: такая мочалка сочетает в себе шелковистость и жесткость одновременно. По мнению информаторов, в любом случае мытье тела мочалкой — это дополнительный массаж. Обычно тело намыливают широкими круговыми движениями. Спину и руки потирают более энергично, а живот намыливают плавными круговыми движениями. Особое внимание уделяют рукам и ногам. Иногда процедуру завершают контрастными обливаниями: сначала обдают тело горячей водой, потом холодной, затем снова горячей (ПМА: Шилкины; Никонова, 1997, ч.1).
Баня в обрядовых ритуалах
Семейные обычаи и обряды - это внутренняя жизнь семьи, способ ее функционирования, реализация ею социальных, нравственных, педагогических и иных функций. В то же время это часть общественного, традиционного быта. Неотъемлемой частью семейно-бытовой культуры этноса являются обряды, совершаемые по случаю того или иного важного события в жизни семьи. Они представляют собой исторически сложившиеся формы массового поведения, выражающегося в повторении стандартизированных действий. Смысл обряда заключен не в самих составляющих его движениях, а в том, что они означают, символизируют. Рождение ребенка, свадебные торжества, повседневная жизнь семьи становились заметными явлениями всего села, аула, города. В семейном быту отражаются особенности социально-экономического уклада и культурных традиций, всего образа жизни народа, его история. Местом проведения многих обрядов являлась и баня, как часть жилого комплекса.
В семейно-бытовой обрядности сосредоточен опыт гигиены и охраны здоровья роженицы и ребенка, который может быть использован и в современных условиях. Основным назначением традиций, связанных с рождением ребенка, здоровьем, физическим развитием, является обеспечение благополучных родов, стимулирование нормального роста и физического развития детей. Рождение ребенка во все времена составляло великую тайну человечества. Обряды и обычаи исследуемых народов, связанные этим таинством, подразделяются на три цикла: дородовые, родильные и послеродовые.
Роды принимали бабки-повитухи. У мордвы большим авторитетом пользовалась та бабушка, которая могла облегчить роды. По данным социологического исследования 1934 г. 56% рожениц из мордвы обращалось за помощью к повитухам (Таблицы, 1902). У марийцев, если использовать материал передвижной консультации Наркомздрава за 1930 г. по Мари-Турекскому району, осмотрено и опрошено 663 женщины, у которых было 3 374 беременности, роды принимала бабка в 2 767 случаях. По Сернурскому району опрошено 336 женщин (1 497 беременностей). Более 65 % родов принято повитухами (Бирючев, 1934: 43).
Наиболее подходящими помещениями у коми для родов считались хлев и особенно - баня. Подобный выбор был связан в народном сознании с религиозно-мистическими представлениями, согласно которым роженица и сам процесс родов и считались «нечистыми», привлекающими различные сверхъестественные силы. И потому роженицу старались удалить из дома в те помещения, которые являлись по народным представлениям, пограничными между «этим» и «иным» мирами. В крайнем случае, роды происходили у порога жилища. К беременной приглашали повивальную бабку - гог-баба (пуповая бабка), бабитчысь баба (повивальная бабка). Существовал обычай приглашать к роженице, особенно к той, у которой не выживают дети, многодетную мать или бабушку. Считалось, что младенец, принятый такой женщиной, будет жизнеспособен и здоров. С целью облегчения родов, помимо рациональных мер, выработанных в процессе медицинской практики, повитуха давала женщине выпить мыльной воды для схваток живота, развязывала все узлы на одежде, расплетала косы. Затяжные трудные роды объясняли тем, что женщину сглазили или испортили, и для облегчения ее положения также прибегали к магическим обрядам. Роженицу поили водой, над которой была прочитана молитва, окуривали дымом от стружек с трех порогов домов. Родившегося ребенка подхватывала на руки повитуха, она осуществляла и первичный уход за ним. На этом заканчивались родины и начинались новые этапы родильных обрядов - очистительные и крестины.
Важнейшим средством очищения было парение в бане. В течение недели и ребенка, и мать ежедневно парили в бане. С особой осторожностью мыли и парили ребенка: воду лили горстью так, чтобы она стекала по локтю на спину ребенку, лежащему на коленях повитухи: веник делали из мягких веточек карликовой березки. Затем повитуха «правила новорожденного: для придания головке «правильной формы» слегка обжимала со всех сторон руками; уложив младенца себе на колени, соединяла над его спиной указательные пальцы левой руки и правой ноги, то же самое проделывала с правой рукой и левой ногой. Если это не удавалось, то она массировала и растягивала руки и ноги ребенка, добиваясь достаточной гибкости. В заключение, перевернув ребенка на спинку, она поглаживала живот. Согласно обычаю, роженица и ребенок в течение трех (иногда семи) дней, пока происходило символическое очищение, оставались в бане, затем переходили в дом. С этого времени женщина принималась за свою повседневную работу, а ребенок приобщался к членам семьи и рода. Ребенка после бани укладывали в колыбель, изготовленную отцом или дедом новорожденного. Однако чаще всего использовалась колыбель старших детей или колыбель, перешедшая по наследству, т.к. считалось, что в колыбели, в которой выросло много детей, ребенок будет более здоров (Ильина, 1986: 159 - 161).
При тяжелых родах муж просил священника открыть церковные ворота, а самого его заставляли перешагивать через беременную жену три раза, считалось, что после этого ей будет легче рожать. Объясняют это тем, что муж якобы берет на себя часть мук жены. Другое объяснение: этим актом муж как бы «прощает жену, и сам просит прощения за обиду или ссору». Матери роженицы о том, что ее дочь рожает, не сообщали, полагая, что, узнав о родовых схватках дочери, она будет переживать и мучиться, а ее переживания и муки передадутся роженице (РФ ГУ НИИГН. И-1230: 22).
Если случалось, что беременная женщина во время работы поднимет что-либо тяжелое, оступится, упадет и т.д. и в результате захворает или ребенок в утробе матери перестанет шевелиться, тогда удмуртка обращается к знахарке, считающейся «специалисткой» в таком деле. Эти знахарки так и называются: выправительницы живота. Если она находит, что младенец в утробе матери занимает неправильное положение, то, чтобы перевести его в нужное, кладет беременную на теплую печь кверху животом, намыливает его мылом и начинает делать массаж таким образом, чтобы ребенок занял правильное положение. Большей частью она, надавливая обеими руками, водит сверху вниз по животу и бокам беременной; с целью повернуть ребенка она делает руками вращательные движения (Герд, 1993: 19).