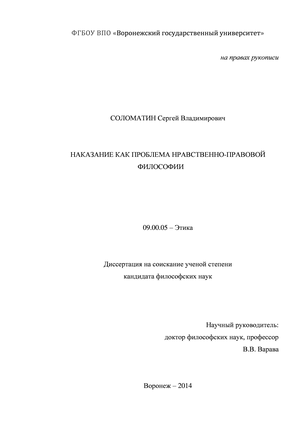Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Наказание как экспликация вины и возмездия 15
1.1. Феномен вины в социокультурном измерении 15
1.1.1. Культурно-историческое и психологическое понятие вины . 16
1.1.2. Религиозные и юридически-правовые параметры вины .24
1.2. Феномен вины в нравственном измерении .38
1.2.1. Вина и оправдание 38
1.2.2. Метафизическая вина как этическая категория 46
Выводы по главе I 59
Глава II. Нравственные противоречия наказания 62
2.1. Проблема «злого» начала человеческой природы .62
2.2. Нравственная асимметрия преступления и наказания 81
Выводы по главе II 105
Глава III. Проблемы и перспективы современной пенитенциарной системы 109
3.1. Пенитенциарная система и моральные ценности общества 110
3.2. Перспективы гуманизации пенитенциарной системы .128
Выводы по главе III .145
Заключение 149
Библиография
- Культурно-историческое и психологическое понятие вины .
- Метафизическая вина как этическая категория
- Нравственная асимметрия преступления и наказания
- Перспективы гуманизации пенитенциарной системы
Культурно-историческое и психологическое понятие вины .
Проблема наказания является предметом междисциплинарного исследования. В самом общем плане можно принять следующую дефиницию наказания, сформулированную в диссертационных исследованиях. Наказание – это негативная санкция, «…восстанавливающая нарушенную ранее целостность межличностных связей», и представляющую собой, тем самым, «ценностно окрашенную реакцию на нарушение норм»[17; 3]. Можно также привести понимание наказания с точки зрения его социального назначения, которое проявляется в следующих целях: «восстановление социальной справедливости, исправление виновного и предупреждение новых проявлений негативного девиантного поведения – как со стороны виновного, так и общества в целом» [152; 10].
Из этих определений следует нормативная и регулятивная сущность наказания, которая является наиболее стабильной и инвариантной по отношению к различным историческим эпохам и культурам. Связь вины и наказания представляется неоспоримой. За свою вину, которая доказана, преступник должен быть осужден и наказан. Установление вины человека всегда является основанием для понесения им наказания. Такова и моральная, и правовая логика, совпадающая с представлениями обыденного сознания, и религиозная. В. В. Розанов, анализируя «Легенду о Великом инквизиторе» Достоевского, коснулся темы первородного греха, следы которого отпечатаны на душе каждого рождающегося. Отсюда – метафизика преступления, которая раскладывается в такую последовательность: «А неся в себе преступление, она [душа] несет в себе и вину его, и неизбежность возмездия» [125; 103]. Таким образом, выстраивается триада: преступление – вина – возмездие.
Однако, здесь всегда возникает проблема большой сложности – проблема выбора наказания: «Какой путь более «продуктивен»: тюрьма, каторга, дыба, гильотина или слово Божие – убеждение, воспитание с помощью доброты, приобщение к осмысленному труду, повышение культурного уровня путем знакомства с шедеврами мирового искусства, книгой, театром?» [116; 3].
Такая постановка вопроса требует серьезной этико-философской аналитики того концептуального пространства, которое структурирует центральное понятие нашего исследования – понятие наказания в нравственной перспективе. Ближайшим и важнейшим понятием, структурирующем концептуальное пространство наказания, является понятие «вина».
По своему содержанию и происхождению понятие вины является древним и многомерным понятием. Словарь В. И. Даля фиксирует два основных значения этого слова: 1. Начало, причина, источник, повод, предлог; 2. Провинность, проступок, преступление, прегрешение, грех, всякий недозволенный, предосудительный поступок [35; 501].
Первое определение является ценностно-нейтральным и выражает общую идею причины чего-либо. Второе значение явно аксиологически окрашено, причем в нем наблюдается синкретизм религиозных (грех), правовых (преступление), моральных (провинность, проступок) значений. Это очень показательно, поскольку словарь зафиксировал эволюцию развития понятия, которая отразилась на полисемантичности этого термина.
Историко-культурная реконструкция этого понятия указывает на господство кровной мести в архаическую эпоху человеческого бытия. «Возникая из кровной мести, возмездие базируется на мировой справедливости, божеской каре или безусловно моральном долге»[17; 9]. Тем самым, обнаруживается непосредственная связь между виной и возмездием: виновные должен понести заслуженное и справедливое возмездие, чтобы установилась «мировая гармония» в том или ином ее идеологическом понимании.
Наличие института кровной мести фактически исключало понятие вины как нравственно-правовой категории, предполагающее свободу и ответственность за совершенные поступки. Полная детерминация поведения внешними факторами, как правило, магического характера, определяла и детерминацию в плане наказания, которое распространялось и на лиц, которых принято сегодня называть невменяемыми.
Вина была связана с нарушением того или иного табу. Нарушивший становился виновным, который терпел определенное наказание: «Одним из сильных стимулов, удерживающих первобытного человека от нарушения запретов, был, несомненно, страх перед воображаемыми последствиями запрещенных действий. …В пределе это могло быть убийство виновного или изгнание его из общины» [133; 80].
Наиболее известная психологическая трактовка чувства вины изложена З. Фрейдом. Он считает, что это чувство вообще играет решающую роль в развитии цивилизации. В работе «Недовольство культурой» он стремится «представить чувство вины как важнейшую проблему развития культуры, показать, что платой за культурный прогресс является убыток счастья вследствие роста вины» [156; 124-125].
Каков же механизм образования чувства вины у Фрейда? Он пишет, что «человеческое чувство вины происходит из Эдипова комплекса и было приобретено вместе с убийством отца объединившимися против него сыновьями»[156; 122]. Но это амбивалентное чувство, поскольку сыновья не только ненавидели отца, но и любили. Поэтому убийство вызывает не только чувство освобождения, но и порождает раскаяние.
Метафизическая вина как этическая категория
Из этого определения видно, что, несмотря на то, что исследователь указывал на нравственный характер вины, его определение находится всецело в правовой сфере, поскольку он считает, что проблема вины есть проблема нравственно-правовой оценки антиобщественного поведения, которое осуществляется нормативными средствами. Высшим принципом здесь является нормативность, которая призвана сохранять общественную безопасность и пресекать антиобщественное поведение.
Все это верно, но лишь с правовой точки зрения. В любом случае здесь вина, которая сводится к антиобщественному поведению, рассматривается формально, безотносительно к «внутреннему» состоянию виновному. Конечно «внутреннее» здесь тоже учитывается, но оно исчерпывается категорией «вменяемость», которая говорит о том, что человек действует «сознательно-противоправно без принуждения и неизвинительно». И это уже является достаточным основанием для уголовной ответственности и соответственно, уголовного наказания.
Но проблема ведь в том, почему вменяемый субъект сознательно совершил преступление? Для уголовного права главное доказать, что он совершил его сознательно в состоянии вменяемости, когда выбор преступного поведения осуществляется свободно в смысле самодертминации. А где корни мотива, которые побудили сознательного и вменяемого человека совершить сознательное правонарушение? Что, в конечном счете, детерминировало его свободную волю совершить преступление? Эти вопросы, увы, остается без ответа в правовой сфере, что дает нам полное право рассматривать феномен вины не только в этической, но и в метафизической перспективе. Эта перспектива выводит нас на путь, связывающий понятие «вины» и понятие «оправдания». Желание оправдания является неким показателем наличия вины; отсутствие этого желания, соответственно, говорит о том, что вины. Чтобы раскрыть эту взаимосвязь необходимо рассмотреть вопрос об этическом смысле оправдания.
В обыденном языке очень много простых, ясных, частоупотребляемых понятий, смысл которых далек от очевидности, и соответственно, от адекватного понимания. Одним из таких до конца непроясненных слов является слово «оправдание». Его особенность в том, что это не термин, употребляемый в гуманитарных дисциплинах, это слово обыденной речи, самой обыденной, однако без которого не может обойтись никакая высокая мысль, будь то мысль научная, религиозная, философская или художественная.
При всей ясности и очевидности слова «оправдание» в нем выявляются семантические сочленения очень высокого уровня, которые затрудняют адекватное понимание и употребление этого понятия. Здесь явно прослеживаются такие значения как «правда», «справедливость», «вина», «наказание», «ответственность», «смысл жизни», «цель жизни», которые свидетельствуют о высоком метафизическом статусе этого слова. Эти значения говорят о том, что слово оправдание имеет юридические (правовые), религиозные, этико-философские значения. Все это требует самостоятельного разбора; нас в данном случае интересуют этические смыслы оправдания, проявленные преимущественно в контексте классической русской философии.
Важен нравственный, в котором возникает необходимости в оправдании. Л. В. Максимов пишет: «Сама необходимость в оправдании возникает в отношении поступка, в котором присутствует (на самом деле или по видимости) элемент «зла», т.е. чего-то непозволительного, осуждаемого, и в котором вместе с тем имеется «добрая» составляющая, полностью или частично компенсирующая допущенное зло; либо – в другом варианте – этот поступок хотя и является морально недопустимым, но в силу не зависящих от субъекта обстоятельств он был вынужден его совершить» [84; 86].
Очевидно, что потребность в оправдании возникает того, когда человек чувствует свою вину. Совесть безошибочно подсказывает ему, виновен он или нет. И здесь возникает своеобразный этический парадокс. С одной стороны, видна высокая интенсивность употребления этого слова, с другой стороны, нужно признать, что человек стремится совсем избавиться от необходимости оправдания. Происходит подмена этого слова. Так, подмена в языке происходит тогда, когда исконно-нравственный смысл слова оправдания подменяется правовым, юридическим значением, и, тем самым, человек, как бы приобретает презумпцию нравственной невиновности через невиновность правовую. Поскольку в правовом отношении человек оказывается виновным не так часто, как в нравственном.
В жизни подмена, ведущая к устранению уже не слова, а ценности оправдания, проявляется в том, что человек сбрасывает с себя «бремя вины» и ответственности за происходящее зло, убеждая себя и других в том, что он не является непосредственным виновником зла, зла как такового. За лично совершенное зло он еще готов понести наказание, а вот за «абстрактное» зло мира он не несет никакой ответственности. Обратимся к построениям русских философов для прояснения сущность данного парадокса.
В контексте отечественной нравственной философии сформировалась целостная парадигма, в которой этическая рефлексия над смыслом и оправданием жизни занимает центральное место [38]. Здесь важно упомянуть нравственные искания Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, которые, каждый на свой лад естественно, решали вопрос о том, как оправдать жизнь при наличии в ней радикального зла.
Нравственная асимметрия преступления и наказания
Борясь с теорией «среды», которая, по мысли Достоевского, снимала всяческую ответственность с человека и возлагала все на внешние обстоятельства, он высказывает очень глубокую мысль о всеобщей виновности. В «Дневнике писателя» он пишет: «…ведь если уж мы считаем, что сами иной раз хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами» [42; 30].
Это очень глубокая идея, предполагающая высокую степень развития нравственного сознания. Современный этик В. П. Фетисов таким образом трактует эту мысль писателя: «Можно и осуждать злодея, но, прежде чем судить кого-то, нужно понять свою причастность и свою ответственность за все происходящее в мире. Именно эта «отстраненность» от зла, неумение понять, как тысячами нитей большинство «порядочных» людей, сами того не подозревая, соучаствуют в том зле, которое они так резко осуждают, является, по мнению Достоевского, основной причиной сохранения зла. В этом случае, даже если накажешь преступника, оставшаяся причина породит нового. Если же мы примем меры по устранению нашего потакания злу, преступника чаще всего можно простить и отпустить – зло не повторится И через полтора века после Достоевского, как и за полтора тысячелетия до него, большинство «порядочных» людей так же повинны в «соучастии» в осуждаемом ими зле» [148; 45, 46].
Трактуя метафизическую психологему Достоевского «вины всех за всех», В. А. Бачинин пишет: «Ее смысл в том, что, будь мы сами лучше, то данный преступник не стоял бы сейчас перед судьями. В том, что он встал на роковой путь, обернувшийся для него бедой, есть и наша вина». Здесь происходит важная трансформация понятий: вина становится бедой. И поэтому здесь надо уже говорить «… не только о лично вине преступника, но и о его беде, то есть о том, что ему не подвластно, пребывает вне его и, вместе с тем, неумолимо подталкивает к пропасти» [7; 265].
Это значительным образом меняет нашу нравственную оптику: «Если за свою вину преступник должен быть осужден и наказан, то за беду, случившуюся с ним, ворвавшуюся в его жизнь и искалечившую ее, он достоин сострадания. Отсюда, по мнению Достоевского, в народе, интуитивно чувствующем эту разницу, существует давняя привычка считать преступление несчастьем, а преступников – несчастными» [7; 265-266].
В нравственной проблематике, связанной с виной, один из наиболее трудных и тяжелых моментов человеческого бытия – это страдания детей. Эта проблема, которая чрезвычайно сильно волновала и мучила Достоевского всю его жизнь. Вот как В. В. Розанов, трактуя Легенду о великом инквизиторе Достоевского, касается этой сложной темы: «… страдания детей, столь несовместные, по-видимому, с действием высшей справедливости, могут быть несколько поняты при более строгом взгляде на первородный грех, природу души человеческой и акт рождения. Выше уже сказали мы, что в душе человеческой сверх того, что в ней выражено ясно и отчетливо, заключен еще целый мир содержания, не выраженный, не проявленный».
«Душа рождающегося», согласно Розанову, не совсем свободна от пороков предшествующих поколений, поскольку она «Она несет в себе общее искажение, которое было присуще душе родившего, а иногда и некоторое особое, глубокое зло, некоторое преступление, которое в ней было частью, терявшеюся между другими, а теперь осталось одно и восстановило около себя целое. А неся в себе преступление, она несет и вину его, и неизбежность возмездия. Таким образом, беспорочность детей и, следовательно, невиновность их есть явление только кажущееся: в них уже скрыта порочность отцов их и с нею – их виновность; она только не проявляется, не выказывается в каких-нибудь разрушительных актах, т. е. не ведет за собою новой вины: но старая вина, насколько она не получила возмездия, в них уже есть. Это возмездие они и получают в своем страдании. Проступок, совершенный отцом, может быть настолько тяжел, что и не может быть возмещен на нем, ни даже посредством его смерти: он растлил, положим, ребенка, развратил существо чистое, которое к нему доверчиво приблизилось. Может ли за это преступление ответить он существом своим? Нет, и преступление его остается скрытым, ненаказанным. Но вот проходят поколения, и возмездие является – в страдании, которое, по-видимому, непонятно и нарушает законы правды. В действительности же оно восполняет ее» [125; 102, 103].
Розанов вслед за Достоевским говорит об «очищающем значении страданий». Это наиболее трудный момент всей нравственной философии, особенно для современного человека общества потребления, уже привыкшего к гедонистическому образу жизни.
Современные теории вины и ответственности радикально отличаются от тех, которые были обозначены в русской религиозной философии. Американский исследователь Э. Олденквист говорит, что «…доктрина первородного греха противоречива, аморальна и являет собой не что иное, как стратегию рекрутирования новых верующих» [104; 89]. Основное противоречие концепции первородного греха в том, что человека а религиозной доктрине наказывают не за то, за что он может быть лично ответственным.
Перспективы гуманизации пенитенциарной системы
Ответом на этот вопрос и является теория акцентуированных личностей, то есть людей со своеобразным заострением свойств личностей. Он дает свою типологию личности, в которой выделяет особый тип «возбудимых личностей», в котором имеет место эпилептоидная психопатия. В этом случае, отмечает ученый, можно говорить о патологической власти влечений. У таких личностей моральные устои не играют какой-то существенной роли. «Уголовные преступления эпилептоидных психопатов-мужчин чаще всего связаны с грубыми актами насилия» [72; 141], – заключает Леонгард. Однако, он объясняет это тем, что акты насилия у таких людей вызваны не бездушием, а аффективным напряжением (стрессом). «Преступное действие может быть вызвано только глубоким аффективным напряжением, предельно сильным раздражением» [72; 151]. Поэтому характеризовать такую личность, даже совершившую грубое насилие, как бессердечную, бездушную и жестокую неверно.
Леонард приводит примеры преступников (даже убийц), которые не теряли человеческого облика и которым были присущи нормальные эмоции. В качестве литературно иллюстрации он приводит драму Еврипида «Геракл», в которой Геракл в припадке безумия убивает жену и детей. Затем он погружается в сон, после пробуждения которого совершенно забывает о содеянном. И когда он узнает о случившемся, то его охватывает ужас. Этот «припадок безумия» Геракла Леонард склонен трактовать как «эпилептическое сумеречное состояние сознания». Убийства, как отмечает психолог, особенно на почве ревности чаще всего бываю, когда имеет место «параноический аффект».
Это конечно не оправдание преступника, но попытка объективно (в данном случае психологически) посмотреть на причину и более глубоко на природу преступлений. Все это очень важно учитывать, когда определяется мера наказания за содеянное преступление, вот почему крайне важна и психологическая экспертиза.
В конечном счете, Леонгард, обобщая данные убийств, совершенных «примитивными личностями эпилептоидного типа», приходит к заключению, что у них «отсутствует («выпадает») тот участок развития психики, в ведении которого находятся этические общественные нормы. Эта филогенетическая новая сфера человеческой психики, на уровне которой благоразумие обретает господство над инстинктами и неконтролируемыми побуждениями, у таких личностей вообще не развита» [72; 154-155].
Из этих слов видно, что этическое трактуется как психологическое («филогенетическая новая сфера человеческой психики»). Нисколько не умаляя такого подхода, раскрывающего многие непроясненные моменты в структуре преступного деяния, все же оставляет без ответа вопрос об истоках «злой воли» человека, отдавая его на откуп биологическим концепциям, полагающими появление нравственности как закономерный этап в общем эволюционном процессе.
Видный американский ученый Л. Берковиц считает, что в человеке нет природной предрасположенность к злу. Он говорит о том, что конечно «трудно или даже невозможно целиком исключить агрессию из нашей жизни. Вовсе не потому, что человеческие существа от природы злы или обладают врожденным желанием убивать и уничтожать. Есть ясные и неоспоримые доказательства того, агрессивного инстинкта, предполагаемого Зигмундом Фрейдом, Конрадом Лоренцом и другими теоретиками, в действительности не существует» [13; 497]. «Агрессивный инстинкт», о котором говорит Берковиц, есть психологическая транскрипция этического концепта «злой природы» или «злого начала» человеческой природы.
Здесь мы намерены обраться к трактовке добра и зла, которая изложена в книге известного американского психолога Р. Мэя. С нашей точки зрения, это одна из наиболее серьезных и обоснованных трактовок, совмещающая психологический и этико-философский анализ, имеющих, к тому же самое непосредственное отношение к нашей теме, поскольку касается вопросов агрессии и насилия в человеческом поведении. Мы уже частично разбирали идеи Р. Мэя в прошлых разделах по поводу невинности. Сейчас рассмотрим концепцию зла, которая оказывается в непосредственной связи с подлинной невинностью, которая только и может осознать реальное положение дел, не убегать от действительности и взять на себя ответственность, проявив подлинную силу.
Прежде всего, Мей развенчивает некоторые иллюзии относительно нравственной природы человека, воплотившиеся в так называемой «этике роста». Он пишет: «Иллюзия того, что мы становимся «лучше», «прогрессируем», делая по шагу вперед каждый день, – это доктрина, контрабандой заимствованная из техники и ставшая догмой в этике, где она не соответствует действительности». Что действительно в технике, то совершенно неприемлемо в этике, в которой отсутствует прогресс: «Современный человек не превосходит в этическом отношении Сократа и древних греков, и хотя мы строим здания по-другому, они не более красивы, чем Парфенон» [88; 312].
Основная идея относительно добра и зла выражена в таких словах Мэя: «… история человечества представляет собой бесконечное взаимодействие добра и зла, и что в глубинах человеческой души, как и в человеческой истории, нет такой вещи как чистое зло или чистое добро» [88; 241]. Для иллюстрации своих идей он прибегает к экзистенциальной трактовке мифа об Эдипе. Кто такой Эдип? «Эдип – это человек, который осмелился осознать тот факт, что человек… спит со своей матерью и убивает своего отца, этот человек, который видит себя в истинном свете, который понимает, что внутри него есть и добро, и зло, и осознает «Сфинкса внутри себя»».