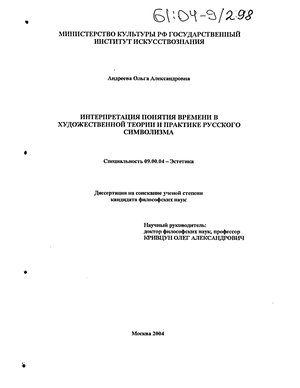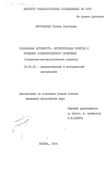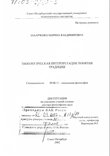Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Трансформация темпоральной координаты в контексте эстетической теории русского символизма. История и традиция 23
1.1 От декадентства к реалистическому символизму. Символ. Стиль. Традиция 23
1.2 Категория времени в контексте первого поколения символизма 29
1.3 Проблема бытования временной координаты в символизме второго поколения 46
1.4 Конкретизация понятий «время-вечность» и «время-миг» 60
1.5 Категория времени в контексте софиологических представлений Вл.Соловьева и С.Булгакова 70
Глава 2. Время как один из основных смыслообразующих методов символизма 78
2.1 Историософия символизма 78
2.2 Функция «сно-видения» в контексте символистского хронотопа... 100
2.3 Символическое время и проблема обратной перспективы 117
Глава 3. Гносеологический аспект временной координаты символизма 128
3.1 Вертикаль времени и «дух музыки» 128
3.2 Символическая "вечность" и проблемы гносеологии 134
Заключение 153
Библиография 164
- Категория времени в контексте первого поколения символизма
- Конкретизация понятий «время-вечность» и «время-миг»
- Символическое время и проблема обратной перспективы
- Символическая "вечность" и проблемы гносеологии
Введение к работе
Литература и искусство символизма в его русском варианте подчеркнуто контрастно по отношению ко всей предшествующей культурной традиции. Чтобы отчетливо представить себе русский символизм во всей специфике его внутренних интенций, в особости его настроений и странности предчувствий, нужно представить себе тот литературный, социальный, политический, религиозный и нравственный фон, из которого родился символизм.
Мы довольно мало скажем об этом времени, конце 19-го века, если назовем его кризисным. Острота момента ощущалась во многом не рационально, а скорее на уровне интуитивных предчувствий, тревоги, некой общей угнетенности. Достоевский определил это состояние просто: «все подорвано». Его ученик, Василий Розанов, имел в виду то же, когда говорил: «Жизнь иссякает в своих источниках». А живший в Париже венгр, полиглот и космополит Макс Нордау, кстати, один из самых яростных защитников позитивизма и прогресса, называл это «легким нравственным подташниванием»1. Это было то странное и в самом деле катастрофическое состояние, которое хорошо описано у Керрола: движение вперед внезапно превратилось в движение назад. Кропотливое умножение социальных, правовых, ценностных и нравственных нормативов, казалось, не приводило к улучшению ситуации, а, напротив, вгоняло социум в состояние тяжелого гнетущего ступора.
Для многих уже не было тайной, что прогресс обернулся в непродуктивное топтание на месте, а народнический пафос - в скучные поучения «постно умствующих московских и петербургских интеллигентов»2. В русской культуре, только что поразившей мир откровениями Толстого и Достоевского, настало время безнадежной скуки. «Надсоновская пора русской культуры - страшный провинциализм интеллигентского сознания, - пишет С.С.Аверинцев, - и революционерство, и власть без конца повторяют уже сказанное, социально-критические парадигмы мысли и творчества
Цит. По кн. Аврил Пайман. История русского символизма. М, 1998, стр.8-9. 2 К.Бальмонт. Избранное. М., 1990, стр. 504.
вырождаются в готовые фразы, с немилосердным автоматизмом навязывающие себя новым и новым поколениям...»3.
Возвеличение Надсона, глубоко несчастного по-человечески, рано умершего поэта, чья поэзия отличалась богатым социологическим пафосом, но крайне бедной просодией, символистами было воспринято как настоящее оскорбление русских эстетических и вообще культурных традиций. В контексте их эстетики словосочетание «надсоновская эпоха» соединило в себе все то томительно скучное, тягостное, что подлежало коренному пересмотру и отрицанию: «Конец восьмидесятых и начало девяностых годов, - писал М.Волошин, - было самым тяжелым временем для русской поэзии. Все потускнело, поникло и остекленело. Публика жила воспоминаниями о Надсоне, а поэты перепевали из него»4. Именно с отрицания и пересмотра идейных и эстетических идеалов этой эпохи символизм и начинает выстраивать свою собственную систему координат.
Из этого вытекает и глубокое своеобразие генезиса символического метода, который, по крайней мере внешне, не ощущался закономерным преемником предшествующей традиции. Требовались немалые усилия, как поэтические, так и философские, чтобы выявить его на самом деле глубокую укорененность в русской культуре. Если на Западе, например во Франции, символизм последовательно вытекал из всего литературного опыта 19-го века, то русские модернисты, оглядываясь на наследие «надсоновскои эпохи», видели за собой лишь «пустоту». Борис Садовский, известный поэт и критик-символист начала века, утверждал, например, что, начиная с Белинского второго периода и следом за ним с журналистики 60-г годов, «наша художественная критика погибла в зародыше», что «у нас нет критики» и что весь исторический путь от 1850 до 1900 года «надо сплошь зачеркнуть, выкинуть, как пустое место», что там «ничего нет»5. А Мережковский не менее решительно утверждал, что необходимо бороться с «нахлынувшею волною демократического варварства»,
С.С.Аверинцев. «Скворешниц вольных гражданин...» Вяч. Иванов: путь поэта между мирами. СПб., 2001, стр. 66.
4 М.Волошин. Лики творчества. Л., 1989, стр.409.
5 Цит. По ст. В.Асмуса. Философия и эстетика русского символизма. В кн. Литературное
наследство. Т.27-28, М, 1937, стр.8.
которая, по его мнению, до сих пор и составляла историю русской литературы в послепушкинскую эпоху6.
Прямая, непосредственная связь с символической эстетикой могла быть прослежена только в творчестве Тютчева и Фета, далеко не первых фигур на культурном Олимпе «надсоновской эпохи». В поисках предшественников символистам пришлось или обращаться к достаточно отдаленному прошлому и возрождать традиции Пушкина, Лермонтова, Гоголя, или искать своих союзников за пределами русской культуры. В последнем случае символизм стал буквально первооткрывателем немецкого романтизма. Причем не только в России, но и в Европе. Трудно найти в истории мировой культуры два явления более близких, нежели русский символизм конца 19-го века и немецкий романтизм начала того же века. Символизм не только почти дословно повторяет основные постулаты романтической эстетики, но даже развивается во многом параллельно своему предшественнику7.
Однако меньше всего русский символизм можно обвинить в запоздавшем почти на столетие духовном плагиате. У творцов «нового искусства» вообще было очень своеобразное представление о собственных предшественниках. Ведь символизм не просто сменил идейных вождей и произвольно выбрал собственные корни. Вскоре после зарождения направления символисты уже отчетливо видели, что для полного осуществления их внутренних интенций необходима тотальная смена ценностной парадигмы.
Мы неизбежно запутаемся в бесконечных оговорках, рассуждая на тему, традиционен ли символизм для России или не очень. В их исторической ситуации речь вообще не шла о преемственности в прямом смысле этого слова. Будучи наследниками «надсоновской эпохи», они решительно перенесли обсуждение традиционной проблематики в совершенно иной план. Это был принципиально новый виток в осмыслении глобальных вопросов искусства, культуры и всего человеческого бытия в целом. И было бы странно сужать их открытия до прямолинейного наследования той или иной традиции.
Символизм занимает особое место в истории русской культуры. Мы можем считать общепризнанной ту точку зрения, согласно которой все
6 ДМережковский. Пушкин. В кн. Пушкин в русской философской критике. М., 1990, стр.95.
7 См. об этом С.С.Аверинцев. «Скворешниц вольных гражданин...» Вяч. Иванов: путь поэта
между мирами. СПб., 2001, стр. 67-68.
культурные явления России XX века ощутили на себе мощное влияние символизма. Именно в символизме таятся те основные философские и эстетические интенции, которые получили свою действенную актуальность только в культуре XX века. Значение символизма для культурного пейзажа России и Европы XX века прежде всего в том, что в контексте этого направления, занимающего порубежное место между двумя специфическими ментальностями, условно привязываемым к 19 и 20 векам, впервые были отчетливо сформулированы новые принципы креативности искусства, заявлены основы новой психологии творчества и создана та эстетическая иерархия ценностей, которая окажется актуальной на протяжении всего XX века. Новая ценностная структура отразила в себе глубинные изменения в осознании личности своего места внутри актуального триединства «Бог - мир - человек». Изменились и представления о функциональной гносеологической роли искусства и его задачах в мире земной реальности, и общее понимание психологии личности, ее вписанности в исторический и космический планы бытия. Все эти аспекты эстетической и философской направленности символизма стали основополагающими для формирования культурного мейнстрима наших дней.
Одним из необходимейших условий создания подобной ценностной иерархии стали напряженные размышления символизма о временной координате бытия, внутри которой, собственно, все эти новые построения и оказались возможными. Именно время, а точнее принятая как безусловная данность особая природа этой бытийственной категории, позволило символизму совершить свой качественный прорыв в области абсолютных ценностей. Специфике темпоральных представлений символизма, а также временным аспектам мировоззренческих, философских, эстетических и творческо-психологических установок символизма как первого, так и второго поколения и посвящена данная работа.
Основное место в диссертации уделено собственно взглядам символистов на проблему времени, а также ее взаимосвязям с другими интенциями эпохи. Исследуются исторические корни данной проблематики, интерес к которой устойчиво прослеживается от Платона, через неоплатонизм, средневековую герменевтику и немецкий романтизм к ближайшим философским предшественникам символизма, таким как Вл.Соловьев, и Ницше.
Однако общая концепция диссертации требовала не столько хронологического, сколько категориального анализа. Поэтому, хотя в центре внимания невольно оказываются выдающиеся фигуры Вяч. Иванова, А.Белого и А.Блока, автор не ставил перед собой задачи создать творческий портрет каждого из них, а их взгляды представляют ценность для предмета данной диссертации только в связи с общими тенденциями символической эпохи. Автору было важно отследить ту тотальную смену мировоззренческой парадигматики, которая привела, в конечном счете, к формированию совершенно новой темпоральной структуры в сознании личности.
Количество научных работ, посвященных исследованию творческого метода, эстетики и философии русского символизма практически необозримо. Несмотря на огромные трудности цензурного характера, отечественные ученые в течение многих десятилетий героически осваивали идейное и творческое наследие символизма. Это прежде всего труды таких авторитетных ученых, как В.М.Жирмунский8, В.Асмус9, В.Гофман10, З.Г.Минц11, Д.Максимов12, Вл.Орлов13, Л.Долгополов14, А.И.Мазаев15, С.С.Аверинцев16, М.Л.Гаспаров17, Н.А.Богомолов18, К.Г.Исупов19, П.П.Гайденко20, И.ГІСмирнов21. Работы этих ученых демонстрируют одну общую тенденцию: в последние десятилетия все более и более на первый план выступает онтологическая природа символических откровений.
Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
9 Асмус В. Философия и эстетика русского символизма. В сб. Литературное наследство. Тт. 27-
28, М., 1937.
10 Гофман В. Язык символистов. В сб. Литературное наследство. Тт. 27-28, М, 1937.
11 Минц З.Г. Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000; З.Г.Минц. Поэтика Александра
Блока. СПб., 1999.
12 Максимов Д. Поэзия и проза Ал.Блока. Л., 1981.
13 Орлов Вл. «Здравствуйте, Александр Блок». Л., 1984.
14 Долгополов Л. На рубеже веков. О русской литературе конца XIX - начала XX века. Л., 1985.
15 А.КМазаев. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. М., 1992.
16 С.С.Аверинцев. «Скворешниц вольных гражданин...» Вяч. Иванов: путь поэта между мирами.
СПб., 2001; С.С.Аверинцев. Вяч. Иванов и русская литературная традиция. В кн. Связь времен.
Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX - начала XX веков. - М.:
Наследие, 1992, стр.303
17 М.Л.Гаспаров. Антиномичность поэтики русского модернизма В кн. М.Л.Гаспаров.
Избранные статьи. М.:Новое литературное обозрение, 1995.
18 Богомолов Н.А. Русская литература начала века и оккультизм. М., 2000.
19 Исупов К.Г. Историзм Блока и символическая мифология истории: Введение в проблему. В
кн. Ал.Блок: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1991.
20 Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001.
21 И.П.Смирнов. Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до
наших дней. М., 1994; И.П. Смирнов. Художественный смысл и эволюция поэтических систем.
М., 1977.
Одни исследователи, такие как З.Г.Минц, И.П.Смирнов, М.Л.Гаспаров, путем глубинного анализа текстовых структур с применением методов формальной школы заняты поиском центральных смысловых парадигм в творчестве тех или иных авторов. Другие, такие как Жирмунский, Асмус, Максимов, Аверинцев, Исупов и Мазаев, следуют более традиционным, но не менее продуктивным путем тематического расширения и углубления пространства изучаемого материала, что позволяет зачастую увидеть предмет исследования с совершенно неожиданной стороны. Такие ученые, как Богомолов и Гайденко, пытаются рассмотреть проблемы символической поэтики в специфических ракурсах: первый исследует оккультные аспекты символизма, а вторая останавливается на дискурсивных сторонах их теории.
Выводы, к которым они приходят, свидетельствуют о кардинальном изменении общей картины мира в призме символического творчества, что неизбежно вызывает к жизни следующий исследовательский эксперимент: попытку реконструировать исходную систему онтологических понятий, внутри которой только и могла осуществиться духовная и творческая практика символизма. Совокупность этих работ вплотную подвела автора к идее вычленения символической темпоральности, которая является по сути одним из важнейших категориальных понятий всякой мировоззренческой структуры. Автор данной диссертации надеется, что логика его работы в той или иной мере продолжает цепь рассуждений всей блистательной когорты отечественных исследователей русского символизма.
Следует отметить, что собственно временная проблематика русского символизма оказалась изученной крайне недостаточно. Мы можем назвать только две работы, непосредственно посвященных нашей проблеме: это уже упомянутая выше статья К.Г.Исупова, посвященная историзму Ал.Блока, и диссертационная работа Н.Л.Быстрова22, посвященная теме времени в творчестве А.Белого. В первой работе весьма подробно и глубоко анализируется воздействие ницшеанской идеи «вечного возвращения» на темпоральные и историософские представления символистов, в частности Ал.Блока. Вторая работа выводит на первый план такие проблемы, как соотношение вечности и мига времени во временной системе символизма,
22 Быстрое Н.Л. Проблема времени в творчестве А.Белого. Диссертационная работа на соискание ст. канд. Философских наук. - Екатеринбург, 1996.
прослеживает идейную связь символического времени с философией Вл. Соловьева. Обе эти работы посвящены только двум конкретным фигурам в истории данного художественного направления. Общий же категориальный анализ понятия времени в контексте всего русского символизма, по всей видимости, до сих пор ускользал от внимания исследователей.
Особо следует отметить великолепные труды зарубежных исследователей символизма, таких как Аврил Пайман и Ааге Ханзен-Леве . Хотя работа первой исследовательницы, посвященная истории символической школы, относится еще к 60-м годам прошлого века, она до сих пор не потеряла своей актуальности. Что касается монументального труда А.Ханзен-Леве, то с уверенностью можно сказать, что с момента выхода этой работы на русском языке стало невозможно говорить о символизме без учета широчайшим образом документированных и обоснованных выводов ее автора. В этой работе путем анализа частотности словоупотребления и вычленения основных поэтических мотивов предпринимается попытка дешифровки мотивных кодов раннего символизма, благодаря чему происходит оформление и прояснение ментальной оснастки символизма и его главных категориальных понятий. В русской исследовательской практике, насколько нам известно, этот метод анализа был предпринят только двумя учеными: З.Г.Минц и ее последователем И.Смирновым.
Кроме того, необходимо упомянуть об огромном исследовательском массиве, созданном западными учеными. Если в нашей стране изучение символической школы в течение долгого времени было сопряжено с трудностями цензурного характера, то в западной эстетике и
литературоведении интерес к символизму не затухал на протяжении всего XX века. Среди видных исследователей символизма на Западе можно назвать таких как S. D. Cioran25, Е. W. Clowes26, A. L. Crone27, G. Kalbouss28, J. L. Kugel29, R. L.
23 А. Пайман. История русского символизма. М, 1998.
24 А.Ханзен-Леве. Русский символизм. СПб, 1999.
25 Cioran, S.D. The Apocalyptic Symbolism of Andrej Belyj, The Hague-Paris. 1973.
26 Clowes, E.W. "The Nietzschean Image of the Poet in some Early Works of Konstantin Bal'mont and
Valerij Brjusov", in: Slavic and East European Journal, Vol. 27,1,68-80. 1983.
27 Crone, A.L. "Gnostic Elements in Belyjs Kotik Letaev", in: Russian Language Journal, XXXVI,
Nos. 123-124. 1982.
28 Kalbouss, G. "Sologub and Myth", in: South East European Journal, Vol. 27, 4,440-451. 1983.
29 Kugel, J.L. The Techniques of Strangeness in Symbolist Poetry, New Haven and London. 1971.
Patterson30, В. G. Rosenthal31, D. Simons32, J. West33. Ни одна из основополагающих работ этих авторов, к сожалению, не известна на русском языке. Среди них следует особо отметить работу J.West'a, посвященную проблемам творчества Вяч. Иванова. Наблюдения этого автора проливают свет на многие важнейшие аспекты теории символизма, в частности на гносеологическую природу его творческого метода. Для нас его труд стал уникальным образцом техники работы с документальным материалом, которым мастерски пользуется автор.
Так как реконструкция временной координаты оказалась теснейшим образом связана с теорией знаковых систем и общей теорией символа и символического, автор счел необходимым привлечь к исследованию и материалы, посвященные этому обширному комплексу проблем. В их числе можно назвать такие основополагающие труды, как работы по теории символа Платона , Плотина, Ф.Шеллинга , А.Ф.Лосева , В.Н.Топорова , Мирча Элиаде38, а также работы, посвященные истории символических представлений А.Я.Гуревича39, Г.К.Косикова40, С.С.Аверинцева41, М.Л.Гаспарова42. Эти исследования проливают свет на такую сложную проблему, как соотношение символизируемого и символизирующего, а также разворачивают перед читателем картину традиционной преемственности символических представлений в ходе истории. Особенно важным оказывается рассмотрение двух соперничающих тенденций в постижении символического:
Patterson, R.L. "Bal'mont: In Search of Sun and Shadow", in: Russian Literature Triquarterly, 4, 241-264. 1972.
31 Rosenthal, B.G. Nietzsche in Russia [Hg. B.G. Rosenthal], Princeton. 1986.
32 Simons, D. The Symbolist Movement in Literature, New York. 1958.
33 West J. Russian symbolism. A study of V.Ivanov and the Russian symbolist aesthetic. London,
Methuen, 1970.
34 Платон. Тимей. Соч.: В Зт., Т.З, чЛ, М, 1971, стр.455-542.
35 Ф.В.Шеллинт. Философия искусства. М, Мысль, 1966, стр.91.
36 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1992.
37 В.Н.Топоров. Петербург и «Петербургский текст» русской литературы: введение в тему. В кн.
В.Н.Топоров. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Иследования в области мифопоэтического:
Избранное. - М., 1995.
38 Мирча Элиаде. Мефистофель и Андрогин. Перевод с Французского
Е.В.Баевской (предисловие, 1-3 главы), О.В.Давтян (4-5 главы), Изд. "Алетейя" СПб., 1998.
39 Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа Анналов. М., 1993.
40 Г.ККосиков. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотерамон. // Поэзия
французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М., 1993.
41 С.С. Аверинцев. Неоплатонизм перед лицом платоновской критики мифопоэтического
мышления.//Платон и его эпоха. М., Наука, 1979.
42 Гаспаров М.Л. Антиномичность поэтики русского модернизма. В сб. Связь времен. Проблемы
преемственности в русской литературе конца XIX - начала XX в. М., 1992.
«герменевтической», впервые предложенной Платоном, и «духовной», сформулированной неоплатониками, в частности Плотином и Проклом. Русский символизм, особенно второго поколения, унаследовал именно последнюю тенденцию, пришедшую в Россию конца 19-го века через произведения и теорию немецкого романтизма, в частности эстетику Новалиса43 и Шеллинга.
Автор счел необходимым отдельно рассмотреть еще и значительный комплекс работ, относящихся непосредственно к системе временных представлений человека. Так как мы стремились представить наиболее полный контекст темпоральной проблематики, нам пришлось последовательно проанализировать историю предмета. В числе этих работ можно назвать труды Платона, Св. Августина44, а также работы современных исследователей этой проблемы, таких как Жака Ле Гоффа45, А.Я.Гуревича46, М.М.Бахтина47, Г.П.Аксенова48, Г.Рейхенбаха49, М.Элиаде. Большинство этих работ констатирует глубинную рассогласованность между перцептивным временем, определяемым календарем и движением часовой стрелки, и человеческим представлением о времени в разные эпохи нашей цивилизации. Подчеркивается зависимость последних от менталитета данной эпохи, а также, если речь идет о той или иной художественной системе, от внутренних художественно-онтологических установок данной системы.
И, наконец, особняком стоит работа Б.Раушенбаха50, которая на первый взгляд не имеет прямого отношения к проблематике символизма или темпоральности, однако, стала основой для многих интереснейших наблюдений в этой области. Тема диссертации оказалась расположена на пересечении множества сюжетных линий, и в задачу автора, в том числе, входило выявление внутренних перекличек между внешне не связанными друг с другом явлениями. Такая перекличка обнаружилась и между символическим временем и
Новалис. Фрагменты.//Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934.
44 Августин. Ограде Божием. Блаженный Августин. О граде Божием. Т.1У, М., 1994.
45 Жак ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М: 1992.
46 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
47 Бахтин ММ. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике. В
кн.Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
48 Аксенов Г.П. Причина времени. М., 2001.
49 Рейхенбах Г. Направление времени. М., 1962; Его же. Философия пространства и времени. М.,
1985.
50Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая
теория перспективы. М., 1986.
проблемой обратной перспективы в живописи, специфика которой раскрывается в блестящей работе Раушенбаха.
Совокупность этих работ привела нас к закономерному предположению, что проблема смены ценностной парадигмы - суть центральная проблема символизма. Если, говоря о традиции русской культуры, мы имеем в виду ее глубокую заинтересованность во всех без исключения областях человеческой жизни от общественной до интимно-внутренней, то символизм безусловно является истинно русским явлением. Но если говорить о метафизической высоте его, символизма, общего духовного чувствования, то нельзя не признать, что перед нами явление универсальное, космополитическое. Поэтому мы можем только отчасти согласиться с Жоржем Нива, который писал: «Унаследовавший разом и мечту Рембо о необходимости «изменить жизнь», «перемене участи», и мечту Малларме о «тотальной книге», русский символизм был истинно русским не только благодаря откровенно славянофильской направленности, граничащей со своего рода этноцентризмом, но также благодаря безнадежно эсхатологическим тонам, в которые он окрасил идеи, заимствованные у Запада»51.
Кроме того, нельзя забывать, что мы оцениваем это время совершенно с другой исторической позиции, уже несущей в себе естественный для нас символистский опыт. С этой точки зрения символизм может выглядеть вполне традиционно в контексте русской культуры, и нам даже трудно вообразить себе тот очевидный факт, что этой традиции в том виде, в каком она существует сейчас, без символизма просто не было.
Вглядываясь в культурный пейзаж России конца 19-го века, мы отчетливо видим эту качественную границу между традиционным реализмом и символизмом. И все же, приготовляясь к подробному анализу последнего, мы нуждаемся в некоем предварительном определении, исходя из которого, смогли бы представить себе общее, универсальное начало символизма не только по контрасту с реализмом, но и сообразуясь с его собственными ценностными категориями. И здесь мы снова оказываемся перед опасностью безнадежно увязнуть в бесконечных оговорках.
Ж.Нива. Русский символизм. В кн, история русской литературы. XX век. Серебряный век. М., 1987, стр.73.
Дело в том, что первый же самый поверхностный взгляд на весь корпус символистских текстов обнаруживает очевидный факт: символизм не является чисто поэтической школой, его интересы распространяются на огромный пласт проблем самого разнообразного литературно-теоретического, социального, философского, религиозного, психологического характера. Собственно художественное творчество, как ни странно, в этом корпусе текстов занимает не самое большое место. Что же делает его тем единым смысловым монолитом, школой в прямом смысле этого слова, чью ярко выраженную целостность явственно ощущает каждый читатель? В ответе на этот вопрос автор видел свою исследовательскую задачу.
В работе над концепцией диссертации автор в основном пользовался методом глубинного проникновения в суть исследуемого материала, пользуясь методологическим опытом и моделями, содержащимися в работах С.С.Аверинцева, М.Л.Гаспарова, З.Г.Минц, В.Н.Топорова, А.Ханзен-Леве, И.П.Смирнова, К.Г.Исупова, Дж.Уэста и Н.Л.Быстрова. Отправной точкой исследования послужили собственно теоретические и художественные произведения символистов, в первую очередь Вяч. Иванова, Ал.Блока, А.Белого, Ф. Сологуба, Эллиса, Г.Чулкова, С.Соловьева и других. Из-за отсутствия устойчиво воспроизводимой терминологической базы в символистской среде эти работы, созданные в рамках системы мышления, крайне далекой от дискурсивной, могут быть сведены в единый теоретический и идейный комплекс только путем постоянного сравнительного анализа и наложения одних текстов на другие. Такой метод позволяет выявить повторяющиеся ментальные структуры, которые и составляют мировоззренческую базу символизма.
Для правильной дешифровки символических кодов автору необходимо было осмыслить идеи философов, современников и предшественников символизма: Ф.Ницше, Вл.Соловьева, С.Булгакова, П.Флоренского, а также работы тех философов и исследователей, которые посвятили себя изучению и формированию теории мифа и символа: Платона, Плотина, Ф.Шеллинга, А.Ф.Лосева, С.С.Аверинцева. Методы вычленения и анализа темпоральной координаты символизма были почерпнуты автором в исследованиях Г.П.Аксенова, М.М.Бахтина, А.Я.Гуревича, Г.Рейхенбаха, Жака Ле Гоффа. В связи с тем, что проблематика нашей работы оказалась расположена на точке
пересечения нескольких тематических линий, нам пришлось опираться на выводы и методологические приемы таких философов, как П.П.Гайденко и Н.Л.Быстров. И, наконец, на заключительном этапе исследования нами были изучены работы таких видных представителей современной темпоралистики, как М.Пруст, М.Хайдеггер и М.Мамардашвили, что позволило выявить непосредственную связь символического времени с предлагаемой ими временной структурой.
Пользуясь достижениями и методами предшествующих исследователей, мы придем к довольно неожиданному выводу: символизм представляет собой не столько художественную, философскую или какую бы то ни было другую школу, сколько школу своеобразного духовного опыта. Другими словами, символизм - это прежде всего один глобальный, необычайно масштабный и главное, очень объективный мировоззренческий эксперимент. Данные символической теории, как, впрочем, и данные символического творчества, суть не результат их аналитического мышления, не прихотливая форма их поэтического воображения, но результат их непосредственной, духовной практики. В какой-то мере этот опыт можно сравнить с сугубо научным опытом Ивана Павлова, диктовавшего секретарю свои ощущения в часы смерти. Если исходить из этой концепции, придется признать, что вся метафизика символизма на самом деле есть не что иное, как его самая подлинная эмпирика и имеет самое непосредственное отношение к реальности жизни.
Однако картина действительности, открывшаяся перед символизмом в свете этого нового опыта, вызвала огромное количество возражений со стороны традиционного реализма. Так родился растянувшийся на десятилетия спор между «субъективизмом» символизма и «объективностью» реализма. «В интеллектуальном климате России на рубеже веков, - пишет Дж. Уэст, -неизбежно оказывалось, что литература, родившаяся из движения за свободу личности и утверждения автономии искусства, даже если она и позволяла искусству играть некоторую роль в социальной жизни людей, подверглась бы критике в том, что ей "не хватало объективности". От литературы в этой ситуации требовалось быть узнаваемым отражением той общественной среды, которая ее воспринимала, и уникальный факт того, что предмет писателей-символистов был зачастую экзотическим, или фантастическим, или располагался в удаленных местах и временах, приводил к тому, что многие
обвиняли символистов в убегании от реальности своего времени и погружении
в частный "эстетический" мир»32. Однако тотальные сдвиги в ценностной
иерархии и новый духовный опыт делали подобные обвинения совершенно
бессмысленными. Возражения символистов на подобные утверждения тоже
очень специфичны. С одной стороны, они не устают разъяснять свое видение
реальности в ее взаимоотношениях с вечными ценностями, а с другой, -
решительно настаивают на том очевидном для них факте, что символическое
видение относится к области чистейшей эмпирики и является законной
альтернативой научному методу. В 1906 году А.Белый писал в работе «О
субъективном и объективном»: «Наука в своем развитии старалась обнаружить
причинные связи между явлениями и посредством этой причинности ввести
объективность в отношения между явлениями... Символизм, организуя свой
опыт по другой системе, преследует цель достичь психологической
объективности посредством объективизации этого опыта. Два эти метода (логический и психологический) в качестве своей главной цели видят достоверность и точность»53.
О природе этой внутренней позиции символизма мы будем говорить ниже, но с самого начала нам придется привыкнуть к странному явлению, сопровождающему буквально каждый аспект символисткой проблематики: постоянному возвышению точки узрения, ее постоянному качественному утончению и углублению. При этом то, что реализм называет реальностью, никуда не пропадает и не отменяется. Просто условия эксперимента у символизма другие, отличные от реалистического.
Итак, символизм это своеобразная духовная практика, некий новый, внезапно открывшийся во всей полноте своей ослепительной правды внутренний опыт. Отсюда вытекает следующее важное обстоятельство: как и читателю предсмертных записок Павлова, воспринимающему символизм наблюдателю придется привыкать к буквальному пониманию его теоретических текстов. Слово в символизме, по мнению С.С.Аверинцева, «буквально до отказа
West J. Russian symbolism. A study of V.Ivanov and the Russian symbolist aesthetic. London, Methuen, 1970, p. 146. 53 А.Белый. О субъективном и объективном. В сб. «Свободная совесть», кн.2, М.,1906, стр.270-1.
значит то, что оно значит; смысл дан прегнантно, как в любезных Вяч. Иванову древних изречениях»54.
Легенда о затемненном, таинственном смысле символизма по сути не более чем легенда. В своих теоретических положениях символизм очень строг и предельно конкретен. Именно в силу того, что перед нами и не теория вовсе, а все та же практика. Символические тексты - это почти сухая фиксация собственных внутренних состояний, запись хода эксперимента, удовлетворяющая всем требованиям научного описания. Ощущение смутности и нечеткости может родиться только по одной причине: не располагая на тот момент четкой терминологической базой, разные авторы были вынуждены пользоваться различными определениями для передачи своего собственного опыта. Однако сравнение и наложение текстов дает в результате очень регулярную и строгую картину общих духовных феноменов, которые, по сути и составляли главный мировоззренческий стержень символизма.
И последнее замечание. Возвращаясь все к тому же извечному сопоставлению символизма и реализма, важно уяснить одну крайне важную вещь: символизм в несравнимо большей степени онтологичен. Это значит, что его основные усилия направлены не на решение исторических политических, социальных и прочих задач сегодняшнего дня, к чему теоретически призывал реализм (практически к концу XIX века эти рамки стали узки и для реализма), но на разгадку главных тайн человеческого бытия. Онтология в нашем понимании представляет собой совокупность тех досущностных, добытийственных, дообразных законов, которые собственно и определяют и творят мир человеческого существования. В некотором смысле онтология это то, что всегда есть, всегда было и всегда будет, но чье присутствие ощущается столь же неявно, как неявно ощущается присутствие космического вакуума над нами. Символизм коснулся этих сакральных границ бытия и с этой онтологической высоты в ослепительном свете увидел земное человеческое бытие. «Чистое искусство» символизма (кстати, сами символисты не очень любили этот термин, считали, что он не в полной мере отражает суть их творческого вектора) рассматривало человека не в контексте его сиюминутного
С.С.Аверинцев. «Скворешниц вольных гражданин...». СПб., 2001, стр. 7.
исторически данного состояния, но в свете извечной трагедии, или извечной радости его человеческого бытия.
Этот онтологический отсвет, лежащий на всем наследии русского символизма, придавал символическому опыту неповторимое и неизвестное прежде формальное и содержательное своеобразие. Здесь нам бы хотелось привести замечательные слова П.Флоренского о значении онтологии в искусстве: «Одно освещение форму проявляет, а другое - искажает, - пишет Флоренский, - и значит, по тайному ощущению художника, форма, как зрительное явление, дается ему светом, причем может быть дана хорошо, а может - неудачно. Но теперь, что значит это «хорошо», как не полусознательно сказанное «онтологично»(курсиъ мой - О.А.). И потому, коль скоро глубокому художнику потребуется, он нарушает, сознательно нарушает единство светотени, лишь бы лепка форм была возможно существенной»55. Идея о том, что «хорошо» в искусстве, по сути, и значит «онтологично», составляет не только главный пафос символизма, не только определяет его неповторимую манеру, но представляет собой его своеобразное алиби перед лицом всей последующей культуры. Именно этот изначально присущий ему онтологизм сделал символизм почти единственной мировоззренчески цельной художественно-эстетической школой и наложил отпечаток на большинство культурных явлений XX века.
Категория времени, как и категория пространства, безусловно, относится к числу основных онтологических категорий бытия. «Время и пространство, -пишет Гуревич, - определяющие параметры существования мира и основополагающие формы человеческого опыта. Современный обыденный разум руководствуется в своей обыденной деятельности абстракциями «время» и «пространство». Пространство понимается как трехмерная, геометрическая, равно протяженная форма... Время мыслится в качестве чистой длительности, необратимой последовательности протекания событий из прошлого через настоящее в будущее... пространство и время не только существуют объективно, но и субъективно переживаются и осознаются людьми... Современные категории Времени и Пространства имеют очень мало общего с
ПАФлоренский. Иконостас. М, 1994, стр.138.
временем и пространство, воспринимавшимися и переживавшимися людьми в древние исторические эпохи»56.
Связь между существом времени и человеческим переживанием была осознана еще античной философией. Дальнейшее развитие культуры только подтверждает это изначальное подозрение греческих философов. «Переживание времени, - пишет современный исследователь, - связано с переживанием нашего собственного «я», с переживанием нашего собственного существования. <сЯ существую» значит «я существую сейчас», однако существую в некоем «вечном теперь» и чувствую себя тождественным самому себе в неуловимом потоке времени»57. Однако вопрос о природе этой внутренней связи человека и времени каждая культурная эпоха пытается решить по-своему.
Проблема времени, постигаемого именно как онтологическая категория, а не как эмпирически воспринимаемая личностью величина, даже не как форма осуществления истории, оказывалась в центре внимания художественной школы далеко не всегда. В этом отношении русский символизм рубежа 19-го и 20-го веков представляет огромный интерес для исследователя как редчайшее исключение из правил. Благодаря изначальной онтологической направленности, символизм с особым вниманием занимался изучением свойств того таинственного пространства, в котором реализуется бытие человеческого духа. А потому интерес к темпоральной проблематике был предопределен в символизме изначально.
Попробуем для простоты определить ракурс нашего исследования чисто апофатическим методом, т.е. прежде всего указать, чем очевидно не является символическое время. Начать, разумеется, следует с современной трактовки времени в философии. В Большой Советской энциклопедии время определяется как «основная (наряду с пространством) форма существования материи, заключающаяся в закономерной координации сменяющих друг друга явлений.
Оно существует объективно и неразрывно связано с движущейся материей» . Такая трактовка с точки зрения символиста кажется явно недостаточной. Куда ближе для него была бы платоновская постановка вопроса: существует ли стол как таковой или только конкретный стол, сделанный из определенного
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984, стр.43-45.
57 Рейхенбах. Философия пространства и времени. М, 1985, стр.130.
58 Цит. По книге Г.П.Аксенова. Причина времени.М., 2001, с.7.
материала и в своей особенной конкретной форме? У этого конкретного стола, согласно БСЭ, есть свое собственное время, а какое время у идеи стола? Каково вообще время духовных сущностей? Есть ли оно, чем оно характеризуется? На все эти вопросы, весьма насущные для символизма, эта детерминация ответа не дает, более того, с точки зрения символизма, является просто-таки неправильной. Ведь еще Кант в конце 18-го века утверждал, что «у вещей нет времени». А значит, время как категория может быть свойственно только чувствующему субъекту.
Быть может, опираясь на тот очевидный факт, что символизм был явлением литературно-поэтическим, есть смысл применить к нему идею М.Бахтина о хронотопе художественного произведения? Но и это оказывается невозможным. Бахтин имеет в виду некий универсальный художественный прием, свойственный каждому отдельному жанру каждой отдельной стилевой эпохи, не существующий сам по себе, но возникающий лишь в контексте конкретного произведения, внутри конкретного эстетического единства. Разумеется, символизм также являет собой подобное единство и хронотопический аспект ему присущ по определению. Но вновь оказывается, что интенциональная заявка символизма на постижение времени шире Бахтинского термина. Проблема времени для символизма прежде всего проблема бытийственной важности и является неотъемлемым свойством его мировоззренческой позиции, во многом определившей его историческую судьбу и даже общественную ориентацию.
Остается, наконец, еще собственно историческое время, внутри и на фоне которого разворачивалась жизнь этого направления. Быть может, было бы проще поставить символизм в этот исторический контекст и соотносить его духовные интенции с исторической жизнью современного ему социума? Однако и это совершенно невозможно уже хотя бы потому, что с точки зрения социума весьма трудно говорить о символизме в страдательном залоге. Скорее уже не он испытывал на себе воздействие социума, а социум подспудно был подвержен влиянию символической духовно-религиозной энергии.
Безусловно исторический контекст был необыкновенно важен для символизма. Но именно символизм породил свою собственную историософскую концепцию, внутри которой современные ему конкретные события трансформировались в события совсем иного, космического масштаба.
На наш взгляд, разгадку тайны символического времени нужно искать не столько в самом символизме, не в тех философских, художественно теоретических положениях, которые он выработал за два десятилетия своего существования, сколько в методологических особенностях его мышления. Прежде всего нас будут интересовать приемы символического видения, в которых отразились особенности менталитета самого Времени. Эта проблема шире, нежели проблема собственно направления. Ведь и сам символизм стал лишь формой, в которой отразились какие-то более общие тенденции. Нам кажется, что все это суть результат странных видоизменений, претерпеваемых человеческой мыслью в тот конкретный момент истории. Время, имеющее двоякую природу внешнего, исторического, и внутреннего, категориального, понятия, Время, внутри которого все пересекается, смешивается и рождается заново, было одной из тех отправных точек, что вывели символизм на его культурную орбиту. Весьма важно отметить, что вопрос о времени оказался интересным не только символистам. Он был центром, в котором пересеклось множество научных, творческих, мистических и философских векторов той эпохи. Вопрос о времени с неизбежностью втягивал в свою орбиту и проблемы креативности искусства, и антропологию, и теологию, напрямую связывался с мистическими и нравственными исканиями интеллигенции.
В своей книге "Самопознание" Бердяев предлагает краткий, но очень репрезентативный экскурс по семантике проблемы времени: "Ничего нельзя любить, кроме вечности, и нельзя любить никакой любовью, кроме вечной любви... - пишет он, - Проблему времени я считаю основной проблемой философии, особенно философии экзистенциальной. Странно, что этот мир не казался мне беспредельным, бесконечным, наоборот, он мне казался ограниченным по сравнению с беспредельностью и бесконечностью, раскрывавшейся во мне"59.
Итак, целью диссертационной работы является прежде всего вычленение временной координаты символизма из общего комплекса его философских, эстетических и творческих интенций. На примере символизма автор ставит перед собой задачу продемонстрировать тотальную смену временной парадигмы, в целом характерную для эпохи конца XIX - начала XX
Н.А.Бердяев. Самопознание. М, 1991, стр.39.
века, а также выявить связь временных представлений символизма с современными ментальными структурами времени.
Данная цель достигается посредством решения следующих задач:
- общего анализа временных представлений символизма на этапе его
первого и второго поколения;
- исследования и конкретизации таких основополагающих для символизма
временных форм, как «миг» и «вечность»; постижение их функциональной
взаимосвязи в контексте символического времени;
выявления традиционной преемственности временной парадигматики символизма к философии Вл.Соловьева и С.Булгакова, что позволяет точнее понять темпоральные интенции символизма;
изучения функциональной роли временной координаты символизма по отношению к его концепциям истории и творчества вообще;
освоения понятия «обратимости» времени в символизме, а также рассмотрения в этом контексте специфической теории «восхождения» и «нисхождения» как основного творческого метода символизма;
характеристики гносеологической подоплеки временных интенций символизма и в связи с этим анализа теории «преображения реальности»;
сопоставления темпоральных воззрений символистов и современных философско-дискурсивных представлений о времени.
Источники исследования представляют собой три группы текстов, из которых наибольшей является корпус работ самих символистов. Сюда вошли прежде всего их теоретические работы, касающиеся принципов символистской поэтики и мировоззрения. Многие из этих текстов не переизданы и не известны широкому читателю. К этой же группе можно отнести и художественные, прозаические и поэтические тексты символистов, которые на сегодняшний день по большей части уже переизданы. Отдельную группу источников представляют собой критические тексты современников символизма, не разделявших его мировоззрения, но активно участвовавших в обсуждении всего обширного комплекса его проблематики. Эти работы никогда не переиздавались.
Вторую группу источников составляют произведения современных символизму философов, которые, по счастью, широко известны и в настоящее время почти полностью переизданы. Эти работы рассматривались в узком
контексте проблематики данной диссертации и оказались представлены в нашей работе под новым углом зрения. И, наконец, последнюю группу источников составляют произведения современных философов-темпоралистов, таких как М.Пруст, М.Мамардашвили, М.Хайдегтер, которые стали важным контрапунктом для разворачивания темы времени в символизме.
Категория времени в контексте первого поколения символизма
Принимая во внимание все вышесказанное, совершенно очевидно, что решение проблемы времени или "хроногенетической оси" (термин И.П.Смирнова) в символизме первого и второго поколений сильно различалось. Исходя из одной и той же установки, утверждающей бытование мира в двух ипостасях идеальности-материальности или, в терминологии символизма, мира "здесь" и мира "там", два поколения символистов делали весьма разные выводы для творческой и жизненной практики. Динамика изменений, связанных с представлением о времени, по мере углубления и развития символистской поэтики очень хорошо демонстрирует переход от понимания времени как тяжкой и бессмысленной данности мира "здесь", которую кажется проще отменить вообще, нежели хотя бы просто смириться с ее существованием, к восприятию его же как своеобразного медиатора, посредника на пути от "здесь" к "там".
Ранний символизм отличается прежде всего глубоким неверием в реальную возможность достигнуть границы иного мира. "Об ином, - пишет И.П.Смирнов, - можно было сказать, что оно есть, но при этом нельзя было сказать либо о том, какая операция позволяет им овладеть, либо о том, что оно собой представляет"9. Единственная связь, реально существующая между этими двумя ипостасями мировой жизни, - чисто идеальна, осуществима только в глубине поэтического "я" и не может быть реализована никак иначе, чем через свободное от всех и всяческих законов воображение поэта. Воплощение этой связи может идти двумя путями: либо это тоска по недостижимости идеала, сопряженная с состоянием подавленности, безнадежности и уныния, либо это путь страстного и совершенно бесплотного мечтательства, не отягченного подлинной энергией преодоления и преображения унылой действительности.
Главной проблемой раннего символизма стало, в сущности, не сознание несовершенства данного мира, которое несовершенство в той же, если не больше степени, было очевидно всем его предшественникам, но отчаянное подозрение о существовании более подлинного мира. Однако подозрение раннего символизма остается не более чем подозрением. «Декадентство, -пишет Бердяев, - приняло на себя муку томления по мистической реальности, по бытии сверхчеловеческом, отразило на себе потерю вкуса к миру обыденному, но страдает болезнью бессилия достигнуть реальности бытия. Ужас декадентства в том, что ничего не достигается, что нет радости встреч»10.
Это страстное «томление» по иному пространству, по «бытии сверхчеловеческом» порождает странный феномен стертости наблюдаемой земной действительности. Если есть другой мир, то этот не имеет смысла, это всего лишь полумир, мир аксиологически и телеологически неполноценный. Такова логика адептов раннесимволистской поэтики.
Ощущения здешнего бытия доходят до сознания поэта в форме зыбких теней, призраков. Достаточно наделить эти условные проявления условного бытия условными же кодами-обозначениями, и цель будет достигнута: условный сигнал об условном переживании будет в условной форме передан вовне. Нагромождение "условностей" объясняется тем, что подобный образ начисто лишен какого бы то ни было познавательного значения. Речь в такой системе координат может идти только об узнавании, обозначении, сама специфика раннесимволического творческого акта просто исключает познание.
Однако, если это так, то исключается или сводится к возможному минимуму и сама коммуникативная функция искусства. Мир реальности, сведенный до совершенно условных знаковых обозначений, образует общее для всех адептов интер-текстуальное пространство. Перед нами явственный шифр, понятный лишь посвященным. Появляется возможность вычленить некий своеобразный пра-текст символизма, где "ключевые символы (...) могли переходить из текста в текст, от одного поэта к другому»11. Перед нами фактически образец идеальной автокоммуникации, где и личность поэта, так же, как и его образы, универсализируются до простого знака. Деталь и психологизм, царящие в реализме и цветущие в нем всеми своими переливчатыми гранями, почти полностью отсутствуют в раннем символизме. Все богатство мира сведено к минимуму бесконечно повторяющихся кодов, чья референциальная роль в свою очередь стремится к нулю.
Страшны мне звери, и черви, и птицы, Душу томит мне животный их сон. Нет, я люблю только беглость зарницы, Ветер и моря глухой перезвон. Нет, я люблю только мертвые горы, Листья и вечно-немые цветы, И человеческой мысли узоры, И человека родные черты.12
Здесь нет и тени детального описания. Все перечисленные во множестве элементы реальности странно отвлечены от своих объектов и играют не столько еще символическую, сколько условно-знаковую роль. Единственная операция, возможная для поэта в такой системе координат, это операция развоплощения несовершенного бытия, окончательного, хотя бы и воображаемого, разрушения его порочной природы. В этом отношении ранний символизм предвосхищает пост-символистскую поэтику агрессивного авангарда, хотя сам начисто лишен агрессии.
Неагрессивность первого поколения символизма проистекала, впрочем, не столько от любви к земной юдоли, сколько, от сознания собственного бессилия. Оружие адептов этого направления другое - энтропия. Создавая образ унылого, однообразного и абсолютно статичного мира, символизм погружен в мечту о недостижимом. Неполноценный мир земного бытия наполняется смыслом лишь посредством его "проекции на идеальную среду", 1-1 представляющую собой "поле чистых отношений" ("родовых понятий") . От бледного листка испуганной осины До сказочных планет, где день длинней, чем век, Все - тонкие штрихи законченной картины, Все - тайные пути неуловимых рек. Все помыслы ума - широкие дороги, Все вспышки страстные - подъемные мосты, И как бы ни были мы бедны и убоги, Мы все-таки дойдем до нужной высоты. То будет лучший миг безбрежных откровений, Когда, как лунный диск, прорвавшись сквозь туман, На нас из хаоса бесчисленных явлений Вдруг глянет снившийся, но скрытый Океан. Даже "бледный листок испуганной осины" не обладает здесь самостоятельным ценностным наполнением. Мир, все явления которого обесцвечены недостаточностью смысла и служат лишь "подъемным мостом", а еще точнее дорогой без конца, так никогда и не достигающей подлинной реальности, - такой мир приобретает черты своеобразной лунности и существует под знаком статичной рефлективности, пустоты, дурной аналитики. Мир раннего символизма красив особой красотой. Эта красота отрешилась от уродства эмпирики и претворилась в холодную «красоту небытия». Центральным оплодотворяющим образом-знаком подобной тотальной безбытийности оказывается Луна, светило ночи, холода и смерти. Вот отрывки из программного стихотворения Бальмонта "На дальнем полюсе": На дальнем полюсе, где Солнце никогда Огнем своих лучей цветы не возрощает, Где в мертвом воздухе оплоты изо льда Безумная Луна, не грея, освещает, -... Но вот застыл и он (океан - О.А.). Была ясна вода, Огнистая, она терялася в пространстве, И, как хрустальные немые города, Вздымались глыбы льдов - в нетронутом убранстве. И точно вопрошал пустынный мир: "За что?" И красота кругом бессмертная блистала, И этой красоты не увидал никто, Увы, она сама себя не увидала. И быстротечный миг был полон странных чар, 14 К.Бальмонт, стр.103. Полуугасший день обнялся с океаном. Но жизни не было. И Солнца красный шар Тонул в бесстрастии, склоняясь к новым странам.
Конкретизация понятий «время-вечность» и «время-миг»
«Символическая поэзия есть наука о Вечности, как физика и химия -наука о природе. Как всякая наука, символическая поэзия - точна и определенна. Ее неясность есть сложность алгебраической формулы и ничего не имеет общего с мистицизмом и фантастикой»65 - так решительно писал о проблеме символической вечности С.Соловьев. Можно было бы приводить целые страницы из произведений символистов, где подтверждалась бы их преданность идее Вечности. Можно сказать, что это понятие, коррелируемое в их сознании с понятиями «абсолютного бытия», «подлинной реальностью» и т.д., было центральным во всей их специфической духовной практике. Вечность открывалась им как некий предзаданный земному бытию космический универсум, совокупность изначальных первообразов бытия, незамутненных, не редуцированных многообразием вещных подобий. Это вертикальное движение вверх, к пространству подлинных сущностей мира, к «бытию высочайшему» свойственно в той или иной форме всему символизму на протяжении всей его истории. Со всей силой внутреннего духовного откровения они ощутили универсальную связанность явлений мира, их объединенность под знаком некоего универсализирующего, единого закона. Ощущение вечности как единственно возможной перспективы восприятия мира задавало особый ценностный фон символистскому видению вообще. Сместив точку отсчета в вечность, по мнению современного исследователя, «русские символисты стремились и действительность и поэзию оценивать с точки зрения некой более высокой правды, которая санкционировала бы их значение»66. Эта же мысль хорошо сформулирована в статье Сологуба «Искусство наших дней»: «По мере усложнения в нашем сознании связности отношений все содержание предстоящего нам мира сводится к наименьшему числу общих начал, и каждый предмет постигается в его отношениях к наиболее общему, что может быть мыслимо. Тогда все предметы становятся только вразумительными знаками некоторых всеобщих отношений, только многообразными проявлениями некоторой мирообъемлющей общности. Самая жизнь перестает казаться рядом анекдотов, более или менее занимательных, и является сознанию, как часть мирового процесса, движимаго Единою Волею... Самодовлеющей же ценности не имеет ни одно из явлений мимотекущей действительности»67. Однако такая постановка вопроса, общая для всего символизма, ставила перед его адептами новую трудно разрешимую проблему.
Вечность, как точка отсутствия времени и место бытования божественных смыслов-мифов, обладая могущественной притягательной силой, воспринималась символистами с напряженной двойственностью. Она звала окунуться в «бездны» и в то же время пугала непостижимостью тайны. Вся практика символического творчества подводила к тому последнему краю обетованной земли человеческого духовного опыта, за которым дальнейшее движение невозможно без ответа на вопрос: «Что там - Бог или Дьявол?»
«Что-то в нас самих творит наши сны», - писал А. Белый. Это неведомое творящее начало, часто неподконтрольное самому автору, ощущалось как некая невидимая нить, связующая художника-творца и Вечность. Их путь, и это было в огромной степени важно для символистов, являл собой не свободное движение, согласное прихотливой воле мастера, но движение «по следам» (А.Блок), упорное следование зову Вечности. «И знает водящий, - пишет Вяч. Иванов в статье «Идея неприятия мира», - что сам по себе ничего творить не может. Отсюда: «Не Моя да будет воля, но Твоя»... Христос истинно волит, а потому и сознает непосредственно, что в нем волит сам Отец...» . Траекторию этого движения составляло не только собственно творчество, но и неотчленимая от него линия судьбы самого творца. В этой ситуации вопрос о происхождении голоса, о том, кто оставил свой зыбкий след на пути символов, представлялся жизненно важным.
Но здесь символизм сталкивался с тем же самым дуализмом, перед которым оказался бессилен даже философский гений Вл.Соловьева. Ведь Душа мира свободна и вольна оказаться как во власти Божественного Первоначала, так и во власти Сатаны. Сама Вечная Женственность, таинственная невеста символизма, свободно располагая собой, в любой момент могла изменить священный облик и предстать в образе чудовищного демона.
Таким образом для символизма избранный путь в Вечность оказался сопряжен с невероятным риском. Реальная опасность увидеть вместо сияющей Софии искаженную ненавистью физиономию Сатаны превращала их высокое Служение в абсолютно негарантированный прорыв к неведомому. Именно Сатана обладал властью обратить весь пройденный путь символического познания в круговое блуждание Недотыкомки по глухому болоту. Очень точно это состояние души передает Блок в известном стихотворении «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...»: Весь горизонт в огне, и близко появленье, Но страшно мне: изменишь облик Ты, И дерзкое возбудишь подозренье, Сменив в конце прекрасные черты. О как паду - и горестно, и низко...
Кстати, стихотворение сопровождалось эпиграфом из Вл. Соловьева, подтверждающим преемственность дуалистической традиции.
Те же «дерзкие подозрения» о не-божественном происхождении Вечной Женственности мучили не одного Блока. Андрей Белый делает образ Вечности ключевым в структуре своих симфоний. Но если еще в 1-й Симфонии Вечность почти неизменно сохраняет черты божественно умиротворенной мудрости и покоя, то уже 2-я Симфония (драматическая) строится на устойчивой теме многоликой Вечности. Эта Вечность синонимична скуке, выводящей над суетливыми городами свои «унылые и суровые песни»69. «И эти песни были как гаммы. Гаммы из невидимого мира... Едва успокаивали, - и уже раздражали. Вечно те же и те же, без начала и конца»70. Вечность Белого то принимает вид маски с «застывшим, смехом» , то прячет на сердце любимого мистика «свое бледное, безмирное лицо»72. Но та же Вечность имеет и грозовой лик, в котором «громады туч с льдистыми верхами, а на туче жена, облеченная в солнце, держала в объятьях своих священного младенца... Из-под тучи, как молния, лезвие Божьего меча разило негодников» . Но все эти и другие лики Вечности - суть только шутки ее с «баловником своим», потому что в каждом ее явлении «была улыбка и печаль. Был вопрос: «Неужели это правда?»».
Символическое время и проблема обратной перспективы
Проблема времени была прочно встроена символистским мироощущением в их концепцию творчества, которая по сути и составляла главный и наиболее существенный интерес символизма. Настойчивое желание пропустить онтологические категории сквозь призму в высшей степени прикладной и чувственно воспринимаемой идеи творчества приводило к тому, что символизм оказывался в зыбком, терминологически неформализованном пространстве между умозрительным философским дискурсом и реальной жизненной практикой искусства. В этом заключалась и сила и слабость этой методологии.
Символический метод предполагал безусловное переживание символа. Символ в этой трактовке, сам мгновенный творческий акт символизации, становился актуальной бесконечностью, выводя личность за границы относительного перцептивного времени. Человек таким образом приобщался к запредельной ценностной сфере, обладающей свойствами абсолютной истинности и извне выстраивающей ряд познаний и творчеств. Здесь искусство смыкается с религиозным творчеством, переходя от «изображения» к «воплощению». Здесь всякое мировоззрение из теоретического превращается в практическое, и в этом контексте уже не вызывают недоумения слова А.Белого о том, что «теоретического мировоззрения и не может существовать».
Символизм никогда не связывал вечность со статической формой ставшего. Обращение к вечным ценностям для символистов означало обращение к началу жизни и движения и было равнозначно непрестанной динамизации и гармонизации хаоса. А так как это максимально достижимо именно в акте творчества, то актуальный лозунг символизма можно сформулировать так: «Жить в вечности - значит жить в творчестве». И пусть символическая вечность осознана как такое состояние мира, которое не совпадает с реалиями видимого пространства, - это не мешает символистам рассматривать жизнь как символ, как некий сверх-текст, где сквозь временные наслоения прочитывается вечное, вечная борьба за судьбы мира. Творческое начало осознается символизмом не только в ценностных категориях, но и как телеологически оправданная задача и смысл всякого человеческого существования, это и форма познания, и теургия, смыкающаяся с началом богочеловеческим. Творчество, понятое таким образом, требовало максимального расширения в глубь, в область наибольшей смысловой напряженности, и в ширь, захватывая такие сферы, которые прежде полностью оставались во власти философии, социологии, политики. Говоря словами З.Г.Минц, этот сверхрациональный элемент «порождает широчайшую экспансию художественных методов познания в области, традиционно закрепленные за философией, наукой, публицистикой»54. Такая актуализация творческой активности требовала неизбежно и полностью поменять смысловую, содержательную и формальную, образную стороны символического искусства. Перед нами не то чтобы другие темы или другая стилистика, отличные от предшествующей традиции, перед нами некий таинственный опыт странно измененного видения, результат совсем иного восприятия. В самом деле господствующая в подобном универсализме внутренняя точка зрения порождала весьма специфический эффект, который для начала проще описать в понятиях изобразительного искусства, в той его области, которая занимается проблемами перспективы.
Уже беглый взгляд на символистское искусство обнаруживает очевидный факт: оно построено не по законам классической, ренессансной перспективы, при которой две параллельные линии, достаточно продолженные, неизбежно сходятся в мыслимой точке на горизонте, но так, что "если... близкий предмет..., находящийся в области полной константности, будет к тому же виден в ракурсе, то его длинные стороны перестанут казаться параллельными, а будут видны слегка расходящимися в глубину"55. Другими словами, при подобном видении реальности предметы и явления в перспективе видны не удаляющимися, а наоборот приближающимися к зрителю. "Таково, -говорит Б.В.Раушенбах, - естественное возникновение так называемой обратной перспективы"56.
Проблема изображения трехмерного пространства на двухмерной плоскости в изобразительном искусстве (а в сущности, вообще проблема отражения реальности во всяком искусстве) существовала всегда. Однако разработанная в эпоху высокого ренессанса система прямой перспективы, казалось бы, решила этот вопрос, предложив определенные правила отражения. Эти правила долгое время считались абсолютными. Но уже в начале XX века стало ясно, что опора на проективную геометрию, характерная для ренессансной перспективы, не всегда соответствует чисто зрительному восприятию пространства.
Дело в том, что то видимое нами изображение является не простым оптическим феноменом, полученным работой оптического инструмента глаза, но результатом работы системы "глаз+мозг". Именно этот совместный опыт глаза и мозга дает естественную картину мира. Это значит, что абсолютной картины мира, которую можно было бы привести в качестве образца для подражания всем художественным экспериментам, просто не существует. С точки зрения современной теории восприятия это чистейшая утопия, куда более умозрительная, чем любая художественная фантазия.
Между тем, что мы условно называем реальностью, и нашим представлением о ней неизбежно стоит наш разум, унифицирующий разрозненные и хаотически нагроможденные друг на друга реалии бытия. "В истории искусств, - пишет Раушенбах, - надо сравнивать используемые перспективные построения с естественным видением человека, а не с каким- либо методом, условно принимаемым за правильный, ибо абсолютно правильных методов не существует".
Феномен обратной перспективы необыкновенно точно согласуется со специфическим узрением мира символистами. В их системе координат, таким образом, мир представляется как бы вывернутым наизнанку, глубинная суть предмета и явления воспринимается прежде его внешней видимости. Однако подобное видение вовсе не есть художественный произвол автора, в котором неоднократно обвинялись символисты. Напротив, возвращаясь к общей теории перспективы в изобразительном искусстве, мы убеждаемся, что "обратная перспектива является..., как и аксонометрия, одним из вариантов единой
научной системы перспективы" . В живописи подобный прием весьма часто используется в иконописи, в восточном искусстве, он не был чужд ни высокому ренессансу, ни даже русской реалистической живописной школе. Позже обратная перспектива переживет свое второе рождение в русском и западном авангарде.
Так же как и в иконе или в работах авангардистов, в символистском творчестве мы встречаем не мир произвольно искаженных сущностей, но своеобразный тип видения. Как следует из анализа параллельного явления в живописи, этот тип видения представляет собой естественное свойство человеческого восприятия, которое может быть развито острее или вовсе не развито, что тем не менее совершенно не свидетельствует о его "неправильности" или "незаконности".
Итак, попытаемся представить себе мир символистского восприятия в контексте теории обратной перспективы. Мы увидим мир, где смысл, как на фотобумаге во время проявки, появляется прежде формы, как нечто несравнимо более важное, а потому и вывернутое навстречу воспринимающему.
Символическая "вечность" и проблемы гносеологии
Эпоха символизма очень остро поставила вопрос о приоритете между научным и интуитивным методами познания. Это было неизбежным следствием, вытекающим из самого понятия символа, который, в отличие от метафоры, аллегории и прочих типов сравнения, никогда не был безусловной принадлежностью литературы. Это ни в коей мере не троп, не украшающий "завиток", не риторический изыск. Символ с момента своего возникновения играл роль посредника между явлением и познанием. Именно символ классифицировал предметный и феноменальный мир, разделяя и сближая, уплотняя его внятными сознанию смыслами.
По существу, символ есть совокупный опыт коллективного мышления человечества. Работа символа близка к работе, совершаемой культурой. Культура и есть данный в исторической перспективе упорядоченный набор символов, которыми человек обозначал границы и суть явленного ему мира. Природа символа сродни природе знака как универсального кода восприятия. Главное в нем соотнесенность реалии действительности с мыслимой реальностью условного обозначения.
Эта парадигма лежит в основе древнейшего детерминанта мысли -языка. Назвав плоскую поверхность на некой опоре "столом", человек уже совершает акт символического воплощения. Между предметом и словом нет безусловной связи, она случайна. Но произведя эту операцию, человек, оказывается, уже имеет дело с двумя феноменами: самим предметом и его знаковым обозначением.
Так конструируются два параллельных бытия, наделенных равной степенью реальности. Очевидно, что между ними существует принципиальная разница. И здесь начинается самое главное. Некая ровная поверхность на опоре есть просто нагромождение предметов, не более того. Знаковое обозначение этой поверхности как "стол" вводит ее в цепь взаимосвязанных соответствий, случайность приобретает смысл, получает объяснение. В слове-названии содержится и назначение предмета и способ его конструирования и много чего другого, позволяющего узнать и, главное, начать пользоваться предметом. Название выявляет его телеологическую суть, констатирует наличие в нем смысла, заложенной в нем "идеи". Символ есть, таким образом, универсальный проявитель смысловой определенности бытия. Он настаивает на том, что любой простейший феномен жизни не случаен, но включен в план вертикального, телеологически оправданного, эйдетического бытования. Акт символизации, таким образом, равен акту подлинного познания, что в свою очередь ассоциируется с мыслимым перемещением в "горний" мир смысловых первоначал, мир платоновских эйдосов, существующих до и независимо от феноменов реальности.
Практически вся культура на протяжении всего исторического времени проникнута символическими отношениями. Однако надо сразу определиться с терминологическими дефинициями. Гносеологическая интенция символа претерпевала в истории сильнейшие изменения и символика мифа эпохи греческой архаики вовсе не то же самое, что и символика Средневековья и уж совсем не похожа на познавательную природу символа у символистов.
Если говорить более точно, то феномен знакового соответствия способен безнадежно поглотить специфику символа и превратить ее в разновидность, допустим языкового метода имплификации знака: ровную поверхность на опоре мы условно называем "столом", не усматривая в этом обозначении никаких причинно-следственных связей. Мы просто так договорились. Слово "стол" формально не имеет ничего общего с обозначаемым им предметом и оказывается значимым лишь в контексте той мыслительной деятельности, которая привела нас к осознанию природы соединенных особым образов предметов. Это тоже знак, но относящийся к области дорефлекторного, доаналитического употребления. К этой же области относится и архаический греческий миф, воспринимаемый как некий целокупный, нерасчленимый, полностью совпадающий сам с собой феномен.
Миф эпохи греческой архаики ощущался как слово в том же неразложимом единстве с явлением. Вопрос о реальности греческого пантеона никогда не ставился греками. "В том смысле, в каком обыденный рассудок верит в действительность чувственных вещей, те люди вообще не мыслили богов и не считали их не действительными ни не-действительными, - очень точно отмечает Шеллинг, - В более высоком смысле они были для греков более реальны, нежели всякая другая реальность"8. Таков был первый опыт человеческого познания.
Однако мы уже писали о том, какие необратимые видоизменения произошли с архаическим мифом под воздействием дискурсивного мышления Платона. Выработанный им герменевтический метод в свою очередь подвергся критике со стороны неоплатоников.
Таким образом, уже на заре античной философии мифо-символическая парадигма оказалась прочно связана с проблемой независимости интуиции относительно рассудка. Сам факт существования мифа и символа указывал на принципиальную невозможность описания причинно-следственных цепочек мироздания через рационалистический дискурс. Символ таил в себе иные возможности. Именно эти возможности символа оказались в центре внимания неоплатонизма. Они предложили метод своеобразного интуитивного проникновения в "кривые", не-непосредственные цепочки природных взаимосвязей и почти сновидческое следование за образными структурами природы. "Демоны, представители природы, - писал Прокл, - через некие вымыслы такого же свойства являют нам свой дар - сонный морок, глаголя кривое, через инакое знаменуя инакое, образуя отображения безобразного". Здесь впервые в основу познавательного процесса было положено интуитивное чувство, опирающееся на символическое прочтение языка природы.
Этот путь явственно противопоставлен рационалистическому и в том числе предложенному Платоном герменевтическому методу восприятия. Очевидно, что главное отличие первого от второго в невозможности заключить процесс жесткой окончательной формулой, в отсутствии последнего слова о мире, которое слово предполагается всеми дискурсивными методиками. С другой стороны, если рационалистический дискурс предполагает последовательное выстраивание причинно-следственных цепочек, имеющих цель индуктивно, через конкретное и вещное постичь высшее и универсальное, то интуитивный метод предполагает постижение всей целокупности бытия единомоментно, посредством иррационального проникновения в его «кривые» соответствия. Последующая история культуры запечатлела параллельное сосуществование двух этих начал, причем с явным преобладанием рационалистических тенденций. Следы влияния неоплатонической теории мифа видны в исихастической традиции, всегда имевшей большое значение в христианстве. Но в основном глубинное "узрение" символических тайн мира было свойственно не столько мейнстриму христианской культуры, сколько его подспудным тайным течениям: разного рода сектам, алхимической традиции, учениям гностиков. Только 19-й век вплотную подошел к неоплатоническому пониманию природы символического образа. Глухой зов несказанного смысла бытия, страстное подозрение в существовании неведомой надмирной тайны коснулось литературы еще в самом начале столетия.
Романтизм был, по существу, той переломной эпохой, которая отделяет нас, живущих в 21 веке, от образа мыслей и стилистического мышления предыдущих эпох. С романтизма началась литературная современность. Именно романтизму суждено было постичь странную мысль: нельзя придумать систему, которая бы исчерпала содержание бытия, нельзя понять мир до конца и тем более нельзя отразить его в точном соответствии с ним самим. Романтизм подразделил мир на видимый и мыслимый, тем самым вплотную подойдя к онтологической тайне мироздания, и собственным падением развеял все надежды на ее разрешение. Там, за границей внешнего восприятия, за материей, за всеми попытками рацио структурировать отношения человека и мира, была обнаружена бездна никем доселе не расшифрованных смысловых подтекстов, доступным лишь интуитивным откровениям и требующих принципиально иных художественных техник. Этой новой техникой овладения вдруг открывшейся реальностью стала впервые разработанная последовательно романтическая теория символа.
Романтики окончательно отделили понятие аллегории от понятия символа, дав, наконец, философское обоснование последнему. Что же такое символ у романтиков? Прежде всего абсолютная реальность, "где ни общее не обозначает особенного, ни особенное не обозначает общего, но где и то и другое абсолютно едины"10. Символ для романтиков есть точка пересечения видимого и мыслимого, в которой совпадает и становятся неразличимыми как вещная конкретика так и надмирная значимость образа: "Нас безусловно не удовлетворяет голое бытие, лишенное значения, - пишет Шеллинг, - (...), но в такой же мере нас не удовлетворяет голое значение; мы желаем, чтобы предмет абсолютного художественного изображения был столь же конкретным и подобным себе, как образ, и все же столь же обобщенным и осмысленным, как понятие. В связи с этим немецкий язык прекрасно передает слово "символ" выражением "осмысленный образ""11. Эта точка слияния конкретики и осмысленности - высшая форма реальности. Утверждение подобной символической реальности поэзии проходит настойчивым лейтмотивом через все теоретические труды романтиков: "Кто еще не поднялся до того пункта, когда для него абсолютно идеальное непосредственно и как раз поэтому стало также абсолютно реальным, тот не способен ничего понять ни в философии, ни в поэзии"12; "Поэзия на деле есть абсолютно-реальное. Это средоточие моей философии. Чем больше поэзии, тем ближе к действительности".