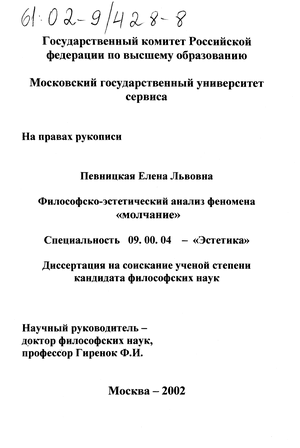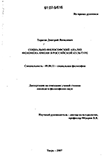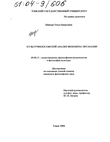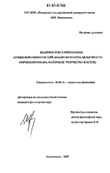Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Феномен молчания в философском дискурсе 11
1. Невербальный язык мысли 11
2. Молчание и речь 25
3. Внутреннее слово 41
Глава 2. Мистериальныи смысл молчания в религиозной традиции и богословской литературе 52
1. Молчание в мистическом опыте 52
2. Молчание в монастырской и церковной практике 62
3. Божественные имена 78
4. Образ молчания 88
Глава 3. Эстетический анализ молчания в поэзии 94
1 .Поэт и молчание 94
2. Слово как символ молчания 105
Заключение 123
Список литературы 136
- Молчание и речь
- Молчание в монастырской и церковной практике
- Божественные имена
- Слово как символ молчания
Введение к работе
Актуальность темы исследования
Философскую мысль во все времена интересовали неявные формы знания, несловесные мыслительные акты. Понятие о ценности данных структур сознания менялось не без влияния результатов, полученных в языкознании, лингвистике и психологии.
Со времен античности укрепилось негативное отношение к неосознанным чувствам, восприятиям, намерениям, волевым актам. Античные философы утверждали, что только знание, полученное путем логико-аналитического суждения, открывает подлинную реальность. Иррациональное знание, основанное на чувстве и эмоции, представлялось искажающим истину. Скептическое отношение к такого рода знанию привело к тому, что оно оставалось неизученным до середины XIX века. Затем наметился поворот к переосмыслению и признанию статуса невербальных структур сознания. Причем, их изучение тесно связано с понятием языка, т.к. язык, с одной стороны, служит выражением мысли говорящего, а, с другой, - указывает на объективные факты. Кроме того, язык как коммуникативное средство содержит в себе невербальные внутренние слои, изучение которых в настоящее время имеет огромное практическое значение.
Изменения в обществе и сознании не могут не отражаться также и на системе коммуникации, что приводит к поиску альтернативных форм общения. С одной стороны, давление общества на субъект, навязывание ему жестких правил существования в социуме ведет к стремлению разрушить общепринятые нормы и рамки в попытке повысить индивидуальную степень свободы.
С другой стороны, в период становления новой политической и экономической ситуации в стране, в условиях переходного общества, человек оказался наедине с самим собой, в состоянии «заброшенности» в мир (в хайдеггеровском смысле). Пытаясь вписаться в новые условия существования, в поисках утраченного смысла жизни, он ищет способы решения возникших проблем. Одиночество и неуверенность в будущем порождает уход во внутренний мир, как самозащиту.
Привычная система коммуникации уже не в состоянии разрушить растущие барьеры между отдельными людьми и различными социальными слоями населения. Меняется отношение к слову как основному средству общения, как способу единения и выражения истины. Растет недоверие к сказанному и написанному: пламенным речам политиков, средствам массовой информации. По определению Н.Л.Мусхелишвили, мы живем в такую эпоху, когда «прагматически структурированная речь становится невыносимой». При тотальном недоверии к слову требуются иные формы выражения. Меняются литературные формы: появляются произведения, бросающие вызов классическим. Повествование уступает место «потоку сознания» (Д.Джойс). Причем, процесс освоения такого художественного произведения представляет собой индивидуальный творческий акт, где читатель сам становится творцом.
Поэзия порождает визуально-графические формы (опыты А. Вознесенского), свернутые, «голографические» тексты (К.Кедров, Е.Кацюба). Философия, в поисках альтернативных форм и способов выражения истины, сплетается с поэзией, использует элементы внутренней речи и даже выходит за пределы текста. Говорят о грядущей языковой революции: обретении человеком возможности говорить за рамками звукового языка, когда смысл будет являться внезнаково.
Хотя данные процессы не являются отличительной чертой только нашей действительности. Уже во времена крушения римской империи наме-
тился поворот к невербальной коммуникации. Нарождение христианства привнесло новые формы. К ним можно отнести молитвенное правило. Молитва - текст, внутренне освоенный человеком. Сам феномен молитвы не несет в себя понятия содержания, хотя на вербальном уровне является источником информации. Для ознакомления с текстом достаточно одноразового прочтения. Но только после внутреннего освоения текста, его многократного повторения, он становится внутренней речью и рождает внутреннюю речь самого субъекта. У верующего текст молитвы порождает и стимулирует депрагматизированный дискурс. И здесь выполняется важная социальная функция: разум освобождается от рамок, навязанных ему обществом. Поэтому становится понятным массовое увлечение всевозможными религиозными практиками в последнее время.
Но не только религиозные тексты можно причислить к молчаливой внутренней речи. Необыкновенно близко к ним лоэтическбе творчество. Поэтический текст, подобно молитве, усваивается субъектом не как внешняя информация, а как внутренний дискурс. Таким образом повышается степень свободы субъекта, и снимаются многие противоречия, которые представлялись неразрешимыми в сфере логического мышления и вербальной коммуникации.
Итак, человек пристально вгляделся в слово и увидел стоящее за ним молчание. И оно оказалось не менее важным фактом речевой культуры. Причем молчание доминирует над словом и так же парадоксально, как речь.
Ориген писал, что человек, ведя сначала разговоры (т.е. используя слова, облеченные в материальную форму), затем «поднимается словом выше» и начинает «созерцать начальный и высочайший» образ слова, т.е. молчать. Это отражает парадокс речевого сознания, которое закрепляет себя в слове, в то же время противопоставляясь ему (чтобы оставаться сознанием). Таким образом, за любым произнесенным словом стоит его «идеальный» вариант. Слово же, как и всё материальное, постоянно меняется, теряя
старые и приобретая новые значения. Поэтому каждый речевой акт является абстрактным и конкретным одновременно. Кроме того, сначала он всегда требует осмысления, а уже после - произнесения. В ряду таких повторений молчание является одновременно не менее умозрительным «по положению» и не менее естественным «по природе» . Оно пронизано различными смыслами за счет своей обращенности к предметному миру, с одной стороны, а с другой - к трансцендентному, к высшим Смыслам. Поэтому современный человек, стремящийся познать и понять себя и окружающий мир, найти свое место в мире, в значительной мере опирается и на невербальный язык -язык, основанный на символах, молчании и внутренней речи.
Кроме того, в настоящее время огромную значимость приобретают различные виды деятельности, в основе которых лежат невербальные структуры сознания: мастерство, ремесленничество. Становится очевидным, что достичь высоких темпов в сфере социального и технического прогресса невозможно, опираясь только на современную технологию и формальные методы исследования. Здесь необходима опора и на практический интеллект, который основывается на невербальном знании. Данный подход ведет к выявлению безграничных возможностей в освоении новых и решении старых проблем, которые, казалось, давно зашли в тупик или долгое время не находили своего осуществления. Поэтому изучение данных форм знания сейчас актуально как никогда.
1 Богданов К.А. Очерки по антропологии молчания. СПб., 1998, сб.
Степень разработанности проблемы
Как уже говорилось, интерес к данной проблеме наметился только полтора века назад. Однако вот уже целое столетие вопросы феноменологии находятся в эпицентре исследовательской мысли.
Вопросы отношения языка и мышления, знака и значения, были обозначены В.фон Гумбольдтом, разработаны А.А.Потебней и И.Бодуэном де Куртенэ. Далее эти вопросы синтезировались в психосистематике Г.Гийома и системно-типологической концепции Г.П.Мельникова. Данные вопросы поднимались в философии языка П.А.Флоренского и А.Ф.Лосева и в фило-софско-поэтической герменевтике М.Хайдеггера.
Проблемы знаковых систем рассматривались в течениях семиотики анализа и семиотики текста. Зарубежный и русский структурализм наметил пути решения проблемы влияния невербальных языковых структур на смысловую содержательность художественных произведений. В этом направлении значительны работы М.М.Бахтина, Г.Г.Шпета и Ж.Деррида. Исследование феномена молчание в отечественной философии проводилось А.Подорогой и К.Богдановым.
Однако можно констатировать, что, несмотря на несомненный интерес к невербальным структурам сознания и проблеме выражения в языке, а также к невербальному знанию в целом, эта тема требует более фундаментального изучения, осмысления и обоснования.
Цель и задачи исследования
Целью данного диссертационного исследования является анализ феномена молчания. Соответствующие этой цели задачи таковы:
определить роль и место невербальной составляющей сознания в жизни, творчестве и научном познании мира;
проанализировать способы передачи невербального знания в философском дискурсе, религиозных практиках и литературном творчестве;
охарактеризовать соотношение невербального и вербального знания;
исследовать речь и молчание как оппозицию формы и содержания, материального и идеального;
определить отношение молчания к языку, обозначить их пространственно-временные характеристики;
проанализировать молчание как многоуровневую структуру (понятие о внутреннем слове и внутренних невербальных слоях сознания);
показать виды умолчания как средства выражения истины (знания) в отношении к невыразимому, сакральному и мистическому;
выявить и систематизировать формы умалчивания в поэтическом дискурсе.
Теоретико-методологическая база
Теоретико-методологической базой диссертационного исследования является широкий спектр положений, разработанных в отечественной и зарубежной философии и лингвистике, отвечающих задаче специфического анализа соотношения философии и религии, вербального и невербального знания, языка и молчания, рационального и иррационального в человеческом познании. Диссертант опирается на работы ученых, работавших над проблемами сознания, смысла, языка и мышления: А.Ф.Лосева, Г.Г.Шпета, Н.О.Лосского, С.Л.Франка, П.А.Флоренского, С.Хоружего, М.М.Бахтина, А.А.Потебни.
В методологическом подходе были использованы работы Э.Гусерля, М.Хайдеггера, А.Бергсона, В.Гумбольдта, Ш.Балли, Г.Гийома, Э.Сепира, М.Ямпольского, В.П.Зинченко, К.Аймермахера.
На формирование концепции диссертационного исследования повлияли также идеи Ж.Деррида, В.В.Бычкова, Н.Л.Мусхелишвили, Ж.Полана, Ф.И.Гиренка, Т.А.Нестик, К.А.Богданова.
Научная новизна исследования состоит в следующем
В диссертации показано, что в языке молчание присутствует как недоговоренность в тексте и речи, как внутреннее слово, как предвыразительный слой смысла. Новизна результата обусловлена систематизацией способа присутствия молчания в языке.
В данном исследовании доказано, что в религиозно-мистических традициях молчание предстает как многоуровневая структура: неговорение - способ познания - открывшаяся истина.
В исследовании обосновывается вывод о том, что поэзия делает возможным понимание невыразимого словом и логическим мышлением.
Автор убедительно доказывает, что понимание текста как феномена, обладающего невербальными внутренними слоями, открывает новые возможности в сфере познания.
Теоретическая и практическая значимость
Значимость работы состоит в том, что она дает методологические основы для дальнейшего теоретического анализа проблемы выражения, открывает новые ракурсы в исследовании отношений вербального и невербального знания. В то же время в работе собран и проанализирован значительный лингвистический и философский материал, определенная часть которого позволяет более полно рассмотреть формы умалчивания в поэзии, религиозных практиках и философском дискурсе.
Результаты исследования могут быть использованы в учебных курсах по философии, эстетике.
Апробация работы
С идеями своего исследования автор выступал на конференциях и научно-методических семинарах на кафедре философии Московского государственного университета сервиса и на научной конференции МГУ им. М.В.Ломоносова «Антропологические проблемы семиотики» (март 2001г.).
Молчание и речь
Противопоставление молчания и речи предполагает оппозицию идеального и материального, формы и содержания. Эти понятия неразрывно связаны с лингвистическими представлениями о сущности языка и природе мышления, а также о характере их отношений.
Понятие формы и материи (в своих первичных определениях) восходит к античной классике, к Платону и Аристотелю. Здесь форма представляется неотделимой от содержания. Идеальное, хотя и не является самостоятельной субстанцией, есть признак материальной действительности, ее атрибут: «Одно и тоже мысль, и то, на что мысль устремляется. Ибо нельзя отыскать мысли без бытия, в котором осуществлена эта мысль» (Парме-нид). Без идеального была бы только бесформенная материя. Только под воздействием ума первоначально хаотический материал, беспорядочная смесь вещества приводится в движение, приобретает порядок и становится оформленным материалом (Анаксагор).
У Платона ум уже является самостоятельной категориальной субстанцией и первопричиной всех вещей. Им выделяется диалектическая триада бытия: идея (эйдос); бесформенная иррациональная материя (чистое становление); и, возникшая из их соединения, материальная вещь со всеми ее чувственными характеристиками (вторичная материя). Вторичная материя представляется диалектическим единством противоположностей.
Аристотель трактует становление вещи как переход возможности (dy-namis/potentia) в действительность (energeia/actus). Причиной этого перехода является форма, но не форма-morphe, принимаемая как внешнее оформление вещи и как потенция, а форма-эйдос. Форма-эйдос - творящее начало, представляющее собой суть бытия вещи, ее сущность, от которой исходит начало движения. Эйдос-форма есть сущность, «цель возникновения», она противопоставлена материи, образуя с ней неразрывное единство27. Отсюда проистекает единство логического, языкового и онтологического, мышления и языка, мысли и слова, молчания и речи, которое нашло отражение в античном понятии логоса.
Логос определяется как одновременно мысленная и практически выраженная идея. Это мысль, адекватно выраженная в слове и потому неотделимая от него, и слово, адекватно выражающее какую-нибудь мысль и потому от нее неотделимое. Соответственно, разделения формы и содержания в языковом смысле у классиков не было. Logos и phone отождествлялись, обозначая «поток звучания», «речь». Всякий logos имел свое выражение в phone.
Разделение наметилось только у стоиков с введения понятия lecton, что означало предметность слова. Тема внешнего и внутреннего проявилась у них в значении семенного логоса, который присутствует в человеке как некая предрасположенность к образованию основных понятий. Данная предрасположенность получает определенную форму под влиянием конкретного опыта, становясь общим представлением или понятием.
Исходя из представлений Аврелия Августина, разделявшего душу и тело, слово состоит из звука и значения. Звук представляет собой тело, т.е. нечто протяженное, материальное, делимое. Дозвуковое является душой, т.е. неделимым, нематериальным, а, следовательно, непротяженным. Если «... звук... относится к ушам, а значение к уму», то «... в названии, как бы в некотором одушевленном существе, звук представляет собою тело, а значение - душу звука». «Так как все, что подлежит чувствам, находится в известном месте и времени, или, точнее, занимает известное место и время, то чувствуемое глазами разделяется по месту, а ушами - по времени»28. Следовательно, звук имени « разделяется на буквы, между тем как душа его, т.е. его значение, не может разделяться».
Августин противопоставил значение звучанию как неделимое значение делимому задолго до Декарта. Это противопоставление сменилось у последнего различением двух субстанций: неделимой мыслящей и протяженной и делимой телесной.
Вопросы философии языка были в центре внимания и русских философов. А.Ф.Лосев писал, что слова - это внешняя видимость эйдоса вещи, возникающая в результате эволюции бытия к самосознанию. Раскрытый эйдос сущности есть символ. Символ не содержит в себе сущность полностью, т.к. эйдос «более невыразим и глубже, чем его видимость» (хотя вся сущность пребывает в символе, т.к. обладает цельностью пребывания). Сущность как эйдетический символ, полный значения, есть внутреннее слово мира. Это слово дополняется внешним словом, когда реализуется в материальном мире. Таким образом, появляется имя, в котором частично проявленная сущность пребывает во всей своей полноте. По этой теории весь мир равняется Слову. « Если сущность имя и слово, то, значит, и весь мир, вселенная есть имя и слово, или имена и слова. Все бытие есть то более мертвые, то более живые слова. Космос - лестница разной степени словесности. Человек - слово, животное - слово, неодушевленный предмет - слово, ибо все это смысл и его выражение»29. Следовательно, имя - это сам предмет в аспекте проявленности. Хотя отдельное слово лишено онтологической полноты. Оно обладает полнотой эйдетической характеристики только для того, кто его произносит: «в слове своем изнутри я знаю только себя и не знаю другого». Только слово, равное «мифическо-магическому имени» есть «полное пребывание сущности в ином» («Философия имени») .
Собственно вся философская мысль XX века развивается вокруг языка и проблемы выражения. Все чаще поднимается вопрос: как в материальных формах письма и речи выразить трансцендентный и поэтому невыразимый смысл (т.к. смысл находится за пределами сферы выражения); и как передать индивидуально окрашенную мысль другому, принимая во внимание субъективный характер ее восприятия.
Молчание в монастырской и церковной практике
Осмысление молчания в христианской традиции восходит к святоотеческой литературе и связано с зарождением монашества. Стремление к уединенной жизни и богообщению находим еще в повествовании о пустынничестве библейских пророков Илии (Зкн. Царств) и Иоанна Крестителя (Мтф., 3:4; Марк, 1:4). В жизнеописании св.Гр. Богослова читаем об отшельничестве: «чтоб неоскверненному беседовать с Богом и чистому озаряться лучами Духа, без всякой примеси дольняго и омраченного, без вся-ких преград для Божественного света» . У Исаака Сирина находим даже попытку классифицировать опыт молчания: «Всегдашнее молчание и хранение безмолвия бывают у человека по следующим трем причинам: или ради славы человеческой, или по горячей ревности к добродетели, или по- тому, что человек внутри себя имеет некое божественное собеседование, и ум его влечется к оному ».
К началу V века тема молчания уже не является новой в христианской традиции. В писаниях отцов церкви она связана с развивающимся догматическим учением о грехе и спасении, свободе и благодати. Человек, по мнению богословских апологетов, является самовластным в своем выборе между грехом и праведностью. Однако совершенства можно достичь лишь осознанием совершенства Христа и его подвига. Настоящее освобождение приходит только в практике молитвенной обращенности ко Христу, подвижнического «ведения» и «памяти» о Боге. Для этого необходимо «держание ума в сердце»,- собранность и очищение ума от всего лишнего, чувственного (воображения, мечтания, воспоминания о прошлой жизни, «блудные помыслы» и т.д.)
Таким образом, эффективность богообращенности достигается «глухонемотой» к внешнему опыту мира с его соблазнами и забвением своих прошлых прегрешений. Короче говоря, необходимо обрести безмолвие и беспамятство своего прошлого опыта жизни.
Подобные рассуждения мы находим в сочинениях Марка Подвижника (Пустынника), Аввы Исайи, Нила Синайского, Евагрия, Макария Египетского и Исаака Сирина.
Исаак Сирин учит: «Блажен, кто удалился от мира и от тьмы его, и внимает себе одному». Он явился одним из видных апологетов исихазма, выдвигая исихию идеалом духовной жизни человека: «Безмолвие (исихия) умерщвляет внешние чувства и воскрешает внутреннее движение» . Молчание для подвижника также прекрасно как пение сирина, которое заставляет забыть земную жизнь. Безмолвие - «таинство будущего века», «ангельское дело» и т.п.
В иноческих уставах преп. Пахомия, св. Василия, преп. Иоанна Кас-сиана, преп. Венедикта молчание - это уже правило и обязанность монаха. Феофан Затворник так говорит об уставе Пахомия: «Кроме разрешенного собеседования, хранилось молчание; и так как в этом собеседовании проходило очень немного времени, то можно сказать, что иноки по уставу всегда должны были молчать. Не только в церкви и в трапезе должно было молчать, но и идя туда и обратно; не только за домашнею работою, но и за работою вне монастыря, и в пути туда и обратно; также во время мытья белья, замешивания муки и сажания хлебов,- всегда и всюду должно было молчать, и если требовалось что, давать о том знать знаками. Чтобы не раздражать говорливости, запрещено было передавать братьям какие-либо вести и новости. Так, ходившие к родным или еще куда отлучавшиеся, плававшие куда-либо по реке, работавшие на стороне, не должны были внутри монастыря рассказывать ни о чем, что видели и слышали и что делали сами; строго также было наблюдаемо, чтобы никто не переносил слов из дома в дом, из монастыря в монастырь, из монастыря в поле, и из поля в монастырь. Такое молчание, храня неразвлеченным внимание, сосредоточивало его на едином на потребу, и давало простор невозмутимо вести внутреннее богомыслие и извлекать из обсуждаемых мест Писания всевозможное назидание. Молчание делало то, что всякий и среди многолюдного братства был будто один» .
Таким образом воспитывалось состояние полного беспамятства, забвения внешнего мира и избавления от греха («от многословия не избежипш греха» ).
Иоанн Кассиан наставляет инока следующим образом: «По слову Псалмопевца: азъ же яко глух не слышах, и яко нем, не отверзай уст своих (Пс.37,14), будь и ты будто глухой, немой и слепой, чтобы кроме того, кто по достоинству будет избран тобою для подражания, ты ни на кого не смотрел, и что бы ты ни увидел в других не совсем назидательное для тебя, так себя имей, будто не видел того, как не видит слепой; дабы увлекшись авторитетом или видимостью тех, кои действующими покажутся тебе, ты не низшел к худшему, что и сам ты осуждал. Если услышишь слова неповиновения, упорства, осуждения, или такие, коими допускается нечто иначе, нежели как тебе предано, не соблазняйся тем, не увлекайся таким примером к подражанию, но пропусти все это вез внимания, будто бы ничего не слыхал, как глухой. Если тебя, или другого кого, будет кто злословить, или другим каким образом обижать, - будь неподвижен и не противоотвечай ничего, будто немой, поя в сердце следующий стих Псалмопевца: рехъ, сохраню пути моя, ежени согрешати ми языком моим; положих устом моим хранило, внегда востати грешному предо мною. Онемех и смирихся и умолчах (Пс.38,2-3)...».87
Грех многословия понимается здесь как греховность любого слова, не обращенного к Богу: «Праздное есть всякое слово, которое не уклонится к предположенной о Господе потребе». Такое слово даже опасно, т.к. если не обращено к Богу, то ведет не к созиданию, а к разрушению, к оскорблению Святого Духа: «Всяко слово гнило да не исходит из уст ваших: но точию еже есть благо к созданию веры, да даст благодать слышащим».
Божественные имена
Тема молчания проходит красной нитью во всех диспутах, касающихся именования Бога. В теологическом аспекте это связано, во-первых, с понятием тайного знания, во-вторых, с усилением монотеизма. Укрепление единобожия проявилось в устранении различных наименований и множества определений, характеризующих Бога, что предвестило, в конечном итоге, зарождение апофатического богословия.
В Библии вообще нет имени Бога. Имя Яхве (Иегова) стало упоминаться в XIII веке у христианских теологов, изучавших Ветхий Завет на древнееврейском языке. Это имя получилось в результате огласовки условного четырехбуквенного сочетания, употребляемого в Библии для обозначения Бога. Раньше оно существовало только на письме и никогда не произносилось. Четыре согласные буквы передавали первые звуки древнееврейского выражения, которое означает: «Я ЕСМЬ СУЩИЙ (БОГ)». По преданию, подлинное имя Бог открыл только Моисею. Но это сокровенное имя Моисей не раскрывает в записи Торы. Здесь он использует все тот же четырехбуквенный знак. Этот знак употреблен в Библии около 7 тысяч раз. А подлинное имя Бога произносилось всего один раз в году первосвященником (в День очищения). Причем тайна его звучания передавалась устно по старшей линии первосвященнического рода.
Примерно к V веку до н.э. иудеи перестают произносить имя Бога при чтении Писания и во время богослужения, чтобы не принизить его («благо- говея к Имени Божию» С.Н.Булгаков ). С этого времени они заменяют его словом Элогим (Элохим). Это именование Бога является формой множественного числа древнееврейского слова, обозначающего Бога (однако все соответствующие ему определения и глаголы согласуются с ним в единственном числе). Впоследствии, в Талмуде Элохим стало уже нарицательным словом со значением «господин», «господь». Если Танах изобилует божественными эпитетами (Вечный, Всеведущий, Великий в советах, Знающий тайны сердца, Испытующий сердца и утробы, Благотворящий, Терпеливый, Ревнитель, Мститель, Отец, Кроткий и т.д.), то в Талмуде Бог мыслится настолько всеобъемлющим, надприродным и надчеловеческим, что любые его определения становятся или ничтожно малыми или абсолютно ненужными. И до сих пор в иудаистической литературе обозначение Бога не записывается полностью (например, на русском языке пишется так: Б-г, Б-жественность, Г-спода и т.д.).
В Византии древнееврейская запись имени Бога с помощью одних согласных была переосмыслена как «прикровенное», тайное выражение святого имени, которое нельзя произнести. Божественные имена непроизносимы и невыразимы, поэтому для их обозначения должны быть использованы определенные коды, «иконы», при помощи которых посвященному открываются стоящие за ними определения. Эти «иконы» не являются даже частью стоящей за ней сущности. Они - только «окно» в Божественный, запредельный и недоступный восприятию человека мир.
Позже и в церковнославянской традиции сокращения святых слов были осмыслены как знаки святости. И это стало единственно допустимой записью сакральных слов (БГЬ - Бог, МТРЬ БЖПО - Матерь Божию, АГТЛЪ - ангел, ОЦЪ - отец, СТСТЬ - святость, ДІЛА - душа и т.д.). Эти же слова, написанные полностью, как говорится в некоторых рукописях, обозначают ангела или апостола сатаны (Эти слова «отнюдь не покрывай, но складом пиши, понеже враждебно Божеству и человеческому естеству»114 К. Ф .Калайдович).
В латинской же раннехристианской традиции отношение к имени Бога выражалось в принципе: Nomen Dei поп potest litteris explicari - «Имя Бога не может быть выражено буквами».
Таким образом, для религиозных и мистических текстов более характерны не назывательные и объяснительные тенденции, а так называемые «свернутые тексты». Сворачивание текста внутрь противоположно чтению, т.к. предполагает сокрытие текста. А обнаружение смысла традиционно понимается как раскрытие, т.е. разворачивание.
У Апулея, например, описываются священные мистериальные книги, в которых сворачивание есть непосредственный знак сокрытия и эзотерии: «...он выносит из недр святилища некие книги, написанные непонятными буквами: эти знаки, то изображением всякого рода животных сокращенно передавая слова торжественных текстов, то всевозможными узлами причудливо переплетаясь и наподобие колеса изгибаясь, тайный смысл чтения скрывали от суетного любопытства»115 (пер. Маркиша СП).
Тенденция к свертыванию сакральных текстов привела к созданию криптограмматического письма (монограммы). Со времен императора Константина в виде монограмм изображались все христианские символы. Это связано со знаменитым сном Константина, где Христос явился ему не в виде человеческого подобия, а в виде креста-монограммы. Сразу после видения Константин изготовил императорский штандарт (так называемый labarum), в котором над Крестом, увенчанным буквой Р, помещаются буквы chi-rho (сокращение греческого chreston). Христос одновременно шифровался как chrestos. Таким образом, тело Христа как бы распадалось на элементы, которые, в свою очередь соединялись в монограмматическую запись.
Монограмма не является фигурой речи, т.к. не читается и непроизно-сима. Криптограмма останавливает речь, подвергая ее графическому абстрагированию. Она есть символ немоты, т.к. лишена голоса (не может быть произнесена). Криптограмма не имеет линейной развертки и сворачивает слово в своеобразный вневременной значок - «икону». Молчание криптограммы останавливает время, трансцендируя его, вводя слово в сферу вечности.
Хотя монограмма и содержит буквы, она представляет собой некий графический узор, не развернутый во времени и пространстве. Она является множеством, соединенным в единое, и поэтому нерасчленяемым. Безусловно, это нерасчленимое множество в единстве приводит к аналогии о троичности Бога. «А там, где нет никакого различия, и подавно не может быть множественности, а значит, нет и числа; а, следовательно, там есть только единство (unitas). Что же до того, что мы трижды повторяем имя Бога, призывая Отца и Сына и Святого Духа, то сами по себе три единицы (imitates) не составляют числовой множественности, применительно к исчисляемым вещам, а не к самому числу. В последнем случае повторение единиц действительно дает число. Но там, где речь идет о числе, заключенном в исчисляемых вещах, повторение множества единиц отнюдь не создает численного различия (diversitas) исчисляемых вещей» .
Слово как символ молчания
Традиция умолчания как средства выражения имеет в художественной литературе глубокие корни и многообразные формы.
Умолчание в высказываниях использовалось еще античными риторами для усиления выразительности речи. Деметрий (I в.) говорил, что умолчание способствует величавости речи и его необходимости использовать как своеобразный риторический прием: «Ведь порой не высказанная, но подразумеваемая мысль кажется более значительной»146.
Особое значение умолчанию придавалось в романтической поэзии. В творчестве немецких поэтов-романтиков мы наблюдаем отход от классической традиции стихосложения (поэзии описательной, декларативной). Данная поэзия - это и философия одновременно. Однако, это не логически строго выстроенная система, а, скорее, собрание фрагментов, набросков, вопросов, вызывающих к осознанию себя и творческому подходу к прочитанному. Для адекватного восприятия романтической поэзии читатель должен развивать в себе «мягкое» мышление с игровым подтекстом, отвергая жесткие логические ходы. Произведения романтиков ничего не доказывают, а только показывают, стимулируя активность воспринимающего, при этом жертвуя завершенностью формы. Здесь просматривается новшество в вопросе о методе познания и способах выражения: не высказывание, а не-сказанноеть, умолчание.
Романтики говорят об этимологизировании, о праязыке. Новалис различает настоящее и фальшивое значение слова. Он задает установку: очистить слово от коросты неверных и второстепенных смыслов; выявить его особый, истинный смысл; научиться правильно использовать слово. «Душа ищет каждому понятию генетически-интуитивное слово /формулу/ (genetis-chintuitiven Worte). Ее этимологизирование. Она схватывает понятие, если может завершить его и обработать разными способами, обратить Дух в Материю ...»147. Это уже не просто выражение мысли в языке, а поиск душой единственного слова-формулы, способного очистить слово и возродить его «особенный» смысл. Это этимологический прорыв сквозь внешний язык к внутреннему. Здесь слово и понятие соединяются в момент освоения мира душой читателя, поскольку только душа понимает мир и способна дать всему наименование.
Поэзия становится мистикой: «каждое слово - слово заклятия». Следовательно, язык превращается в инструмент магии. Единственное слово, найденное поэтом - архаически-первозданно. Оно представляет собой заклинание, берущее исток из праязыка. Такое слово полностью выражает значение, снимая антиномию духа и материи. Оно получает статус инструмента управления вещами, тайного знания, которое способно даже заново формировать мир вокруг. А этимология является медиумом между поэтом и природой. Новалис сравнивал этимологические значения слов с речью детей: смесь наивности, пророчеств и абсурда. Также наивна и бессознательна древняя мудрость, скрытая в народных мифах и сказках.
Опыты этимологизирования у Новалиса строятся подбором ряда од-нокоренных или похожих словосочетаний. Выстраивая словосочетания в ряды, Новалис расшатывает застывшие выражения, заставляя таким образом слово вспомнить свое истинное значение, отбросив попутные, фальшивые смыслы. Искусственно создается ситуация, в которой возрождается внутренняя форма слов. Неудивительно, что в произведениях романтиков часто встречаются каламбуры, игра слов, формулы типа «имя имен», «поэзия поэзии», «цветок цветков». Повторение слова указывает на его нетождественность самому себе, на многогранность его прочтения и осмысления. В словах-формулах оживляются этимологические смыслы. Путь к истине идет через образность и символичность. А поэтичность слов-формул сообщает высказыванию целостность, завершенность, присутствие смысла (бытия).
В таких этимологических фигурах идет поиск забытой истины в слове. Слово «видит» свое отражение в зеркале. Такая рефлексия создает условия для пробуждения дополнительных смыслов в слове. Романтики называют эту операцию «потенцированием», т.е. выявлением скрытых возможностей предмета, его способности к саморазвитию. Таким образом рождаются метафоры - путем преодоления немоты.
В сфере поэтики «потенцирование» становится принципом художественного видения. Новалис пишет: «Мир должен быть романтизирован. Так вновь открывается первоначальный смысл. Романтизирование есть не что иное, как качественное потенцирование. При этом наше низшее Я идентифицируется с лучшим Я. Такие качественные ряды потенций подобны нам самим. Эта операция еще совсем не изучена. В то время как я придаю низкому возвышенный смысл, обычному - вид таинственного, известному достоинство неизвестного, конечному - видимость бесконечного, я романтизирую это - обратная операция с возвышенным, неизвестным, мистическим, бесконечным... ».
Август-Вильгельм Шлегель писал, что поэзия берет начало там, где мышление и язык только формировался. Исток поэзии - в первобытном языке, т.к он изначально был образным и поэтичным. Первый язык - это «одна большая метафора»: в нем чувственный мир уподобляется сознанию. Поэтому в праязыке содержится максимум тропов, метафор и речевых фигур. И поскольку романтики мечтали восстановить единство мира через поэзию, в метафоре они видели основание бытия. В ней открывалось всеобщее родство и всеобщая связность. А праязык («язык языков») мыслился как идеальное образование, в котором в единстве слились природа, истина и поэзия. Современные языки - это только слепки, фрагменты «языка языков». Язык постепенно потерял свою образность, утратил связь звука и смысла. Слово «забыло» свою внутреннюю форму. Поэзия же оживляет язык, возвращает ему былую образность, благозвучие, метафоризм. «Вся поэзия пусть будет поэзией поэзии, потому что она уже предполагает язык, который суть вечно становящееся, меняющееся, незавершенное стихотворение всего человеческого рода» .