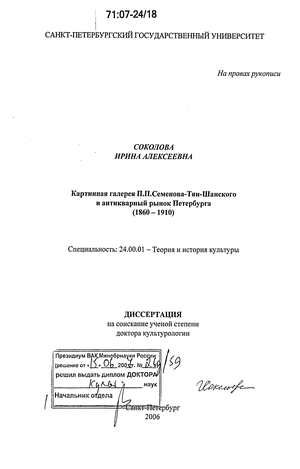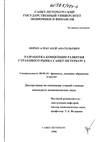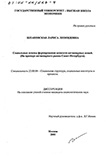Содержание к диссертации
Введение
Глава IП.П. Семенов-Тян-Шанский и его эпоха 9
Глава II Некоторые особенности художественной жизни Петербурга 1830 - 1850 -х годов. Открытые собрания живописи, выставки, аукционы 26
Глава III Александровский рынок и его посетители (1870-1880гг). Коллекционеры и антиквары 52
Глава IV XIX столетие. Новый взгляд на голландскую живопись 82
Глава V П.П. Семенов и западные эксперты. Вильгельм Боде в Петербурге
Абрахам Бредиус и русские коллекционеры К. Хофстеде де Грот и коллекция П.П.Семенова 117
Глава VI Семеновская галерея «на Васильевском острову». Ее состав, характер и особенности 143
Глава VII Продажа коллекции Императорскому Эрмитажу 185
Глава VIII Коллекция П.П. Семенова-Тян-Шанского в Эрмитаже. Дальнейшая судьба картин 210
Заключение 232
Приложение 1
Картины коллекции П.П. Семенова - Тян-Шанского, выданные из
Государственного Эрмитажа 235
Приложение 2
Картины коллекции П.П. Семенова - Тян-Шанского
Государственный Эрмитаж 265
Список принятых сокращений 289
Список литературы 291
- Некоторые особенности художественной жизни Петербурга 1830 - 1850 -х годов. Открытые собрания живописи, выставки, аукционы
- П.П. Семенов и западные эксперты. Вильгельм Боде в Петербурге
- Продажа коллекции Императорскому Эрмитажу
Введение к работе
Настоящая диссертация посвящена проблеме сложения и анализу феномена крупнейшего частного собрания голландской и фламандской живописи в России середины XIX - начала XX века - коллекции выдающегося ученого и государственного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского (1827-1914) . Созданная им галерея (более 700 произведений) радикально обновила представление о генезисе и формах нидерландского художественного наследия в кругах русской интеллигенции, заложив основы его восприятия в современной социо-гуманитарной науке. В этом аспекте особый интерес представляет трансформация модели голландского искусства «золотого века» в переломную, кризисную по смыслу эпоху, связанную с зарождением в середине XIX столетия национальных идей и поиском самоидентификации европейских народов. «Узловой» для России вопрос, выразившийся в мировоззренческих разногласиях «славянофилов» с «западниками», наложил печать и на характер коллекционерской деятельности П. П. Семенова-Тян -Шанского. Выбор им голландской живописи в качестве главного объекта собирательства происходил на русской почве и подвергался осмыслению в русле национальной духовной традиции.
Художественное собирательство является неотъемлемой частью целостной культуры общества. В нем находят отражение многие процессы, которые происходят в искусстве определенного времени, связанные со сменой вкусов и эстетических идеалов. Диалог с прошлым, исследование наследия отечественной культуры и его осмысление в контексте художественно-нравственной проблематики имеют особое значение для поиска основ межкультурных связей и коммуникаций в настоящем времени.
Актуальность темы исследования определяется фундаментальным значением художественно-исторических ценностей в универсуме культуры. Воссоздание истории коллекционирования в России помогает не только понять переоценку направлений, стилей и школ живописи (академического идеала итальянской школы и натуралистических основ северонидерландского искусства), но и детерминировать аспекты художественного познания (возникновение в XIX веже культа Рембрандта и восприятия XVII века как «эпохи Рембрандта»). Изучение русского коллекционирования исключительно важно для музейной работы в настоящее время. Подготовка к изданию генеральных каталогов, имеющая целью создать в будущем универсальную базу данных о художественных коллекциях страны, позволит проследить как происхождение экспонатов, так и пути их миграции (покупки, поступления по завещанию частных лиц, передачи из других собраний, временное хранение и т. д.). Активизировавшаяся в наши дни выставочная деятельность невозможна без документально обоснованных знаний о сложении коллекций, влившихся со временем в музейные собрания. Изучение частного собирательства голландских картин в Петербурге и анализ его наиболее значительного периода, каковым, несомненно, является порубежная эпоха XIX-XX веков, важны и для развития современного антикварного рынка.
Цель настоящего исследования - воссоздать историю зарождения и формирования крупнейшего частного собрания голландской живописи в Петербурге на фоне музейной и антикварной жизни России и Голландии второй половины XIX столетия.
Мало кто задумывался над тем, почему П.П.Семенов, чьи профессиональные занятия были далеки от искусства, отдал предпочтение именно голландским мастерам. Как складывался замысел его галереи, где именно в Петербурге и в Европе покупались (им или его доверенными лицами) вещи? До сих пор эти вопросы обойдены вниманием.
Вместе с тем столь специфическое петербургское «явление» не могло возникнуть без перемен, произошедших в европейских эстетических взглядах. Восприятие голландских petit maitres обрело в середине XIX столетия новый оттенок. В статьях ведущих критиков того времени художественное наследие голландцев начинают рассматривать как продукт общества, основанного на принципах религиозной и политической свободы. Толкованию искусства придается все более явный социальный смысл. Своеобразие голландской живописи оказалось особенно востребованным в неспокойную эпоху зарождения идей национализма.
Плоды технического прогресса также способствовали формированию новой тактики в изучении европейских коллекций. В 1870-1880-х годах широко обсуждался вопрос о методах «научной» атрибуции. Властителями умов в среде европейских интеллектуалов считались три выдающихся эксперта - В. фон Боде, А. Бредиус и К. Хофстеде де Грот. Все они в разные годы побывали в Петербурге и останавливались в доме П.П. Семенова. Между русским собирателем и прославленными музейными знатоками велась оживленная переписка. Европейские ученые немало способствовали росту известно сти петербургской галереи на Западе.
Важно иметь в виду еще один факт. В 1910 году Семенов сам выступил инициатором передачи своей коллекции Императорскому Эрмитажу. Объясняя причину, по которой он соглашался продать ее всего за 250 тысяч рублей, владелец галереи писал: «...я готов уступить за половинную против оценки цену только потому, что пламенно желаю, чтобы собранная 50-летними трудами и знаниями она (коллекция - И.С.) оставалась бы в России и не распалась...»1. Императорский музей гарантировал сохранность картин en bloc. Однако предвидеть дальнейшего хода истории не мог никто.
Уже в октябре 1924 года первые десять полотен собрания, по постановлению плановой комиссии, были выданы из Эрмитажа. В последующие годы во время распродаж, организованных советским правительством, музей пожертвовал и многими другими произведениями. Судя по аукционным каталогам, «семеновские» картины продавались в Европе вплоть до 1935 года. Автор настоящего исследования восстановила цифру «утраченных» живописных работ и попыталась определить их современное местонахождение.
За почти столетний период, прошедший с момента поступления коллекции в Эрмитаж, с ней произошли не только количественные изменения. Ее состав преобразился и в свете современного искусствознания. Некоторые громкие имена, под которыми упоминались полотна прежде, уступили место более скромным авторам, зато в полную силу раскрылось значение работ, недооцененных ранее. Характер собрания в прошлом и взгляд на него с позиций сегодняшнего дня - таков один из аспектов настоящей работы.
Известно, что Семенов покупал произведения не одной только голландской школы, но именно она составляла главный предмет интереса Петра Петровича. К этому разделу относилось подавляющее большинство - около шестисот - собранных в его доме полотен.
Разумеется, выбор темы этой работы во многом определен масштабом (следует заметить, и обаянием) личности самого коллекционера. Главным делом своей жизни Семенов считал участие в подготовке реформы, покончившей с крепостной зависимостью в России. Еще за неделю до своей кончины старый ученый (к тому времени - последний из живых участников «штаба реформаторов») поднял бокал шампанского в память исторического Манифеста 19 февраля 1861 года. Этот обычай, введенный когда-то П.А. Милютиным, свято исполнялся всеми членами редакционных комиссий на протяжении более пятидесяти лет.
Среди отечественных connaisseurs конца XIX века Семенов занимал обособленное положение. Он не имел крупных капиталов, но приобретение картин не считал способом вложения денежных средств. Не пытался громко заявлять о превосходстве своих знаний и экспертного опыта. Честолюбивые искусствоведческие баталии были ему чужды. Любознательного Петра Петровича влекли к искусству бескорыстная любовь дилетанта и исследовательский интерес. Задумав превратить Эрмитаж в крупнейшее мировое хранилище голландской живописи, он на протяжении полувека упорно продвигался к намеченной цели. В этом отношении Петр Петрович Семенов оказался близок другому своему современнику -П.М.Третьякову, расценивавшему коллекционирование как высокую просветительскую миссию.
Созданный Семеновым громадный «лексикон» искусства триумфально завершил этот путь. Не без гордости подчеркивал владелец на склоне своих лет, что его коллекция - вторая по величине в Европе (после галереи князей Лихтенштейн)! О судьбе этого уникального собрания и пойдет речь.
В процессе изучения материалов в архивах России и Западной Европы нами были выявлены новые факты из истории русского художественного собирательства. Значительная часть этих свидетельств находится в Петербургском филиале Архива Российской Академии наук (ПФАРАН), в Отделах рукописей Российской Национальной библиотеки и Пушкинского Дома в Санкт- Петербурге, некоторые - в Центральном Государственном Архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) в Москве2. Эти документы впервые публикуются на страницах исследования.
Особый интерес представляют также письма П.П. Семенова и его адресатов, «извлеченные» из архивов и бюро документации нидерландских музеев: Королевского кабинета живописи Мауритсхейс в Гааге, Музея Бредиуса в Гааге, Муниципального архива в Лейдене, Архива RKD в Гааге, Нидерландского Института в Париже. Они позволяют установить, насколько ценным и востребованным оказался в конце XIX века состав петербургских собраний именно по части голландской живописи.
Тема частного собирательства в России, по вполне понятным причинам остававшаяся долгое время на периферии отечественного искусствознания, в последнее двадцатилетие завоевала огромную популярность. На волне интереса к истории коллекционирования, стремительно нараставшей в литературе, появилось и множество статей о голландских картинах. Как ни парадоксально, ни одна из них не затрагивает напрямую семеновского собрания3. Однако опыт реконструкции других частных «галерей» служил важнейшим сравнительным материалом при написании данной работы.
Одно из самых ценных направлений в интересующей нас области - публикация архивов коллекционеров XIX - XX веков. Наиболее последовательно она осуществлялась на страницах ежегодника Российской Академии наук «Памятники культуры. Новые открытия». Из числа самых серьезных авторов отметим А.П.Банникова, методично исследующего старые петербургские и московские коллекции4. Его статьи о собраниях А.И. Корсакова, графа Д.И.Толстого, барона Н.Н.Врангеля, О. Браза и др. характеризуют и точность в подборе сведений и корректность в цитировании источников.
Много способствовали развитию «коллекционерской» темы также материалы ежегодных научных конференций «Памяти В.Ф.Левинсона-Лессинга» в Эрмитаже, «Випперовские чтения» в ГМИИ имени А.С.Пушкина и «Царскосельских научных конференций». Заметный вклад внесла самая ранняя из сессий - «Коллекционеры и меценаты в Санкт-Петербурге», прошедшая в стенах Эрмитажа в 1995 году и вызвавшая к себе оживленный интерес. Так, в рамках этой конференции появились сообщения о собраниях П.В. Деларова и П.П. Вейнера5.
Обильные, но пока еще разрозненные сведения, опубликованные к данному моменту, помогут со временем воссоздать историю частного коллекционирования в России. Однако ее написание - вопрос будущего. К настоящему же времени появились первые работы обобщающего характера. В 1990-х годах вышли содержательные исследования Н.М. Полуниной и А.И. Фролова о московских коллекциях6. К юбилею Санкт-Петербурга была издана довольно информативная, хотя и не лишенная компилятивности книга И.И. Сальниковой из истории собирательства русского искусства7.
Значительный интерес представляют также новые справочники. От ранней попытки - очень несовершенного альманаха «Завещано России» (1 994г.) значительно отличается составленный Н.М. Полуниной солидный биографический словарь «Кто о есть кто в коллекционировании старой России (2003г.) . Конечно, названные работы не могут претендовать на исчерпывающую полноту, но они с различной степенью достоверности очерчивают «ареал» русского собирательства.
Еще одним важным звеном в восстановлении «связи времен» стали выставки, посвященные отечественным частным коллекциям. Пионером этого типа экспозиций оказалась «Картинная галерея графа Н.А. Кушелева-Безбородко» (1993 г.) скромно устроенная в небольших залах на третьем этаже Эрмитажа9. За ней последовали уже гораздо более «пышные» монографические выставки, в контексте которых голландская живопись XVII века занимала значительное место («Строгановы. Меценаты и коллекционеры» (1999 г.), «Ученая прихоть. Коллекция князя Н. Б.Юсупова» (2001 г.), «Голицынский музей на Волхонке» (2004 г.). В этом ряду выделяется превосходная вводная статья Л.Савинской к каталогу выставки «Ученая прихоть» в ГМИИ имени А.С.Пушкина в Москве10.
Подводя итоги тому, что уже сделано отечественными историками искусства, нетрудно предугадать (по аналогии с западноевропейской искусствоведческой литературой), что дальнейшее изучение пойдет в сторону углубления таких специфических вопросов как художественный рынок, роль комиссионеров и художественных агентов в формировании той или иной коллекции, «миграция» картин.
Именно в этой сфере нидерландская живопись представляет большой интерес. К концу XIX столетия в Петербурге и Москве сконцентрирова лось огромное число произведений старой голландской школы. Отсюда картины нередко вывозили для продажи в Европу. Мало кто знает, к примеру, что коллекция работ Рембрандта в амстердамском Рейксмузеуме, обогатившаяся в результате музейных аукционов 1930-х годов тремя эрмитажными полотнами, содержит и еще один русский шедевр. Ранняя рембрандтовская композиция «Товит и Анна» (Рейксмузеум, Амстердам) находилась в частных руках в Москве до 1906 года, когда и была продана ее владельцем.
Слабая изученность, а нередко и утрата семейных архивов в период 1920-х-1950-х годов, наконец, намерение многих коллекционеров сохранить в тайне источник своих покупок сильно затрудняет подход к «частной» теме. Тем не менее соединение воедино даже мелких деталей восстанавливает более существенные элементы. Это особенно важно помнить, поскольку в современной зарубежной литературе трудно найти упоминания о петербургских собирателях нидерландского искусства. Русские меценаты (в отличие от их американских современников) оказались обойд ены вниманием голландских историков. Такое равнодушие кажется еще более незаслуженным, если учесть, что именно в последние годы были изданы специальные работы М.де Бур и Й. Лейстра, Р. Эккарта, Э. Рейтсма, К. Скеллен о практике знаточества и его корифеях11 (11). В этом аспекте история галереи П.П. Семенова-Тян-Шанского позволяет оценить русское коллекционирование в контексте европейской «голландомании».
Некоторые особенности художественной жизни Петербурга 1830 - 1850 -х годов. Открытые собрания живописи, выставки, аукционы
М. Элиаде отметил, что основы мироздания, устройство жизни и человеческого бытия - в конечном итоге результат не «природного» процесса, а серии мифологических событий вообще, священной истории» (1998 б, с. 163). Мифология как хранилище сакральной истории культуры содержит информацию, связанную с опытом смерти, ее происхождении, с общими представлениями о человеческой жизни, посмертной судьбе, возрождении. Через посвятительные обряды (инициацию) каждый устанавливает свою личную связь со священной историей. Важны не факты (неизменные законы природы), а наше отношение (интерпретация, проекция) к ним. Природа, пропущенная через сознание, человеческое творчество (культуру), рождает человека и его систему ценностей. Отталкиваясь от мифологических образцов, мы можем приблизиться к пониманию устройства мира «для них», то есть для носителей этой культуры.
Традиционные народы Западной Сибири сохранили свою священную историю, в которой рассыпана своеобразная устная «Книга мертвых». Мифы рассказывают о сотворении мира мертвых, который возникает одновременно с миром живых или после него. По ненецкой легенде Нга попросил у Нума себе земли, но тот не дал, так как Нга не помогал ее создавать. Тогда Нга воткнул в землю посох и попросил только то место, где стоит его палка. Нга обманул Нума, так как в его власти оказалось все подземное царство. Нга пообещал красть с земли себе людей (Лехтисало Т., 1998, с. 9). Происхождение мира мертвых, при котором задействованы посох, отверстие от него и антипод светлого божества есть у васюганско-ваховских хантов, лозьвинских манси (Кулемзин В.М., Лукина Н.В., 1977, с. 136; Карьялайнен К.Ф., 1995, с. 248). Н. Д. Конаков в своем исследовании по мировоззрению коми приводит миф о том, как Ен при творении мира дал Омцлю (Кулю) только дырочку от воткнутого кола (1996, с. 15). У хантов до сих пор действует запрет оставлять воткнутыми колья, палки, жерди, таган и пр., так как это все лазейки для Куля и источник болезней (Серков А.Е., 1998, с. 97, 98).
В мансийском мифе о сотворении мира за землей ныряют две гагары. Одна из них вызывает мертвый мир, вторая живой мир. Оба мира оказываются замыслом Торума, светлого мужа-отца. «Мертвый мир я изначально предписал... Если его не предписать, где тогда поместятся подрастающие девочки и подрастающие мальчики?.. Между растущими деревьями им не хватит места, между выросшей травой им не хватит места... Друг с другом, между собой они не найдут еды, не найдут питья... Друг с другом, между собой они не найдут еды, они тут же начнут друг друга резать, начнут друг друга есть» (Мифы, предания..., 1990, с. 291). Торум настрого запретил разорять могилы. Об этом говорится в песне о медведе, нарушившем наказ небесного отца и навечно оставшемся в Среднем мире в обличье зверя (Молданов Т.А., 1999, с. 16).
Существует разнообразная, по выражению М. Элиаде, погребальная география (2002, с. 70). Отдельные коллективы людей за гробом могут обитать в разных местах. Нижний мир как структурный блок строения Вселенной необязательно являлся местом пребывания мертвых. К.Ф. Карьялайнен различал нижний мир (подземное царство с определенным устройством, хозяином) и мир мертвых (место их нахождения). Он полагал, что представления о нижнем мире развились у обских угров позднее из представлений о местопребывании мертвых. К.Ф. Карьялайнен не исключал, что это могло произойти и под влиянием других народов (1994, с. 61). По данным этнографии северных народов, мир мертвых в первую очередь связан с миром предков и мог быть на земле, на небе, под землей.
Мир мертвых (иной мир, невидимый для живых) на земле мыслился рядом с поселением, на кладбище, в низовьях рек, в далеком краю на юге, за морем. Все эти варианты универсальны и зачастую одновременно сосуществуют в культурах народов Западной Сибири.
По представлениям ненцев, загробный мир расположен на поверхности земли, где-то в стороне от обычных кочевий. Его обитатели живут также как и живые (живут в чумах, кочуют, готовят еду и пр.), но ночью. Днем «стойбища» умерших выглядят как ненецкие кладбища-хальмеры (Хомич Л.В., 1995, с. 264). Герои сказаний попадают в мир мертвых случайно, не замечая никаких особых границ, «... словно с ума сошли, пришли к покойникам» (Эпические песни ненцев..., 1965, с. 163). При этом, они обязательно движутся к северу, к Ледовитому океану (прыгают на льдину). По одному из преданий девочка и мальчик подошли к чуму ночью. Девочка вошла в чум, но ее не увидели, только огонь зашумел (знак присутствия кого-то из иного мира), а днем на месте чума оказались 4 могилы с вещами возле них. На другую ночь, они услышали аргиш, а днем увидели 20 гробов (ночью кочевали покойники) (там же ..., с. 126-128). Дети умирали от голода и надеялись встретить живых людей - «может, опять увидим хорошо живущего (человека)». Наконец, они находят живых и не сомневаются в этом, так как «при свете увидели ведь» (там же, с. 131).
К.Ф. Карьялайнен отметил у хантов локализацию мира мертвых на территории родового кладбища, которое называется «кали-торэм» (1994, с. 126). Человек попал на кладбище, а подумал, что в селение. «В один дом зашел, народ в бубен бьет, шаманит. Народу полон дом, и все с закрытыми лицами». Никто не ответил на приветствие, только когда огонь затрещал, мертвецы поняли, что пришел живой человек (Мифы, предания..., 1990, с. 439).
В мире мертвых все наоборот. В сказке «У подземных духов», записанной на р. Юган мертвые сообщают попавшему к ним человеку, что «когда у вас день - у нас ночь, когда у вас ночь - у нас день» (там же, с. 186). Широко известна сказка об охотниках, выбравших разные места для ночевки. Один ушел в заброшенный дом, второй предпочел кладбище. Ночью на кладбище происходили события как днем на поселении у живых. При этом мертвые знали, что у них гость, но особого раздражения не высказывали. Они не видели охотника, но женщина, шедшая кормить плачущего ребенка, запнулась об него и была раздосадована, что он разлегся на ее пути и мешает пройти. От первого охотника на утро остались только кости, его съели черти, поселившиеся в покинутом доме (ПМА, р. М. Юган).
В рамках представлений о наземном пребывании мертвых уживаются противоположные мнения. Южные манси считали, что страна мертвых находилась в окрестностях большого озера в истоке реки Конды. В нем плавают птицы Хул-атера полярная большая гагара и красношейная поганка. У северных вогулов красношейная поганка называется «хала-вас» - «дикая утка покойников» (Карьялайнен К.Ф., 1994, с. 140). В другом случае, эта страна находится в нижнем течении реки, на острове среди холодного моря, туда попадают через дыру (Попова С.А., 2003, с. 75). Наиболее распространенным у манси являются представления о стране предков в теплых краях на юге. Это место называют «хоманел» («далекий край», дословно «человека земля мыс») (Ромбандеева Е.И., 1993, с. 41).
Возможно, представления о низовьях рек и холодном море сформировались у манси под влиянием ненцев. С.А. Попова предположила, что море - это Обь, разливы которой достигают в нижнем течении 46 км. Большая вода считается «щанг» (священной). Она приводит очень интересное совпадение реального пути сосьвинских и ляпинских манси на Обь с текстом сказки. Они не плыли по р. Северной Сосьве, а с р. Хулги выходили на трехкилометровый перетаск, затем по ручью выезжали на р. Сыню, попадали в Малую Обь, а потом и на саму Обь. Путь сокращался вдвое. А в сказке это описано так - дойти до реки, проплыть до места, где море кренится в один конец, затем на плоту подняться и море выправится (2003, с. 75).
Небо как местопребывания мертвых совпадает с Верхним миром, где есть специально отведенные для них места. У лесных ненцев на небо попадает небольшая часть людей при условии соблюдения чистоты. На небо уходят дети из воздушных захоронений. На небо к Нуму идут люди, «обязанные Нуму» (Лехтисало Т., 1998, с. ПО). Местопребывание умерших на небе сохранилось у южных хантов (Патканов С. К. 1999. С. 181). Прямо на небо уходят принявшие смерть от медведя (Карьялайнен К.Ф., 1994, с. 142). Манси считают, что знаменитые люди после смерти становятся духами-покровителями и попадают в верхний мир (Ромбандеева Е.И., 1993, с. 42, 51-80). У нганасанов на небо сразу отправляются дети. Им к плечикам прикрепляли крылышки куропатки и они, как птички, улетали для возрождения в будущей жизни (Попов А.А., 1976, с. 41). Размышляя о жизни П.П. Семенова-Тян-Шанского (1827 - 1914), невозможно не удивляться ее редкой полноценности. За какой бы вид деятельности не брался этот человек, ему всегда удавалось реализовать задуманное. Его с легкостью можно причислить к «любимцам богов». Достигший 87-летнего возраста патриарх науки, сенатор, увенчанный многочисленными наградами, был свидетелем трех царствований. Он скончался незадолго до гибели четвертого на его веку (и последнего в истории России) монарха. Даже конец жизненного пути Петра Петровича - на пороге первой мировой войны - воспринимается как особая милость судьбы, которая уберегла его от зрелища уничтожения старого «доброго» мира (Петр Петрович был награжден высшими степенями всех русских орденов, включая орден Св. Андрея Первозванного, и множеством иностранных знаков отличия, в числе которых - очень редкий прусский орден « Pour le merite» за вклад «в науки и искусства». Таким же, например, гордился император Александр Николаевич).
Похороны Семенова-Тян-Шанского в феврале 1914 года стали настоящим апофеозом этого замечательного сына Отечества. В последний путь его провожал весь город. Из-за стечения народа пришлось даже приостановить уличное движение.
Петр Семенов принадлежал к когорте отважных русских первопроходцев. Этот путешественник первым из европейцев ступил на загадочную землю Тянь-Шаня. Собранные им в опасной экспедиции геологические, энтомологические и ботанические материалы оказали огромную услугу России в вопросе освоения Центральной Азии. Один из эпизодов, описанный в «Даре» В. Набокова, неизменно вызывает любопытную устойчивую ассоциацию. Главный герой романа вспоминает раннее детство, когда его отец, исследователь и путешественник, привозит из экспедиции своему знакомому ботанику свадебный подарок: «травяной покров альпийской лужайки». Ребенку представлялось, что подобно ковру, лужайку раскатывают на полу их дома.
Этот яркий рассказ вполне мог бы быть отнесен к биографии Семенова. Именно он доставил в Петербург высокогорные ботанические сборы, среди которых находился и открытый им вид горьких трав, названный в его честь «allium Semeonovi».
Выдающиеся способности, согретые любовью к России, проявились и на государственном поприще. Недаром, Императорское Географическое общество в Петербурге слыло главным центром формирования сторонников отмены крепостного права. По подсчетам Петра Петровича из пятидесяти человек, игравших важные роли в разработке крестьянской реформы, два десятка вышли из недр этого научного учреждения.
Семенову было даровано также редкое семейное счастье. Любящий супруг и нежно любимый муж, истинный pater familias, отец восьмерых детей, наделенных яркими талантами. Его чувство к жене не угасало с годами. «Милая, дорогая, любимая, бесценная Лиза» - обращается к ней Петр Петрович в письмах на склоне лет...
Но жизнь этого человека вовсе не была безоблачной. Он пережил много горьких и даже трагических событий. Ранняя смерть отца, болезнь матери, кончина первой жены, утрата двух сыновей не сломили его деятельную и милосердную натуру. Активное участие Семенова в делах благотворительности, забота о нуждающихся студентах, хлопоты по облегчению участи пострадавших и увечных, могли бы стать сюжетом отдельного повествования. Огромное количество лиц обращалось в трудные минуты жизни к его поддержке и помощи.
В настоящем очерке мы не будем детально описывать жизнь ученого. Для этого существует специальная литература. Прежде всего, обширные воспоминания самого Петра Петровича, которые его семья успела издать перед революцией1. В 1928 го ду, к столетию со дня рождения географа, вышел превосходный сборник, составленный его многочисленными учениками и соратниками. В нем освещены разнообразные стороны деятельности ученого, особенно подробно - вклад в развитие физической географии. Здесь же был помещен и небольшой этюд «П.П.Семенов как собиратель и исследователь голландской живописи», написанный эрмитажным хранителем Д.А.Шмидтом2.
Мемуары Петра Петровича позднее стали основой для трех беллетристических изданий. В 1965 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга «Семенов -Тян-Шанский» . Хотя она имела широкую популярность у читателей, многие события освещались в ней с понятной для тех лет тенденциозностью.
Еще одна монография, подготовленная в начале 1990-х годов в издательстве «Наука», представляла собой довольно краткое описание жизнедеятельности выдающегося путешественника. Ее авторы - И.В.Козлов и А.В.Козлова, избрали форму повествования, рассчитанную на широкую аудиторию. Однако факты были изложены в ней точно, сжато и академично4.
Наконец, недавно появилось еще одно биографическое издание о Семенове-Тян-Шанском, адресованное, в первую очередь, молодому поколению. Эта книга принадлежит перу петербургского литератора В.В. Кавторина5. Не относясь к разряду строго научных публикаций, именно она, на наш взгляд, наиболее тонко и многогранно воссоздала портрет «петербургского интеллигента».
Авторы всех названных работ, весьма далекие от искусствоведческих проблем, лишь вскользь упоминают о необычном hobby ученого, которому посвящались час ы его досуга.
Поэтому логичным будет уделить здесь внимание тем моментам, которые способствовали зарождению интереса Семенова-Тян-Шанского к изобразительному искусству.
Петр Петрович Семенов родился 2 (14) января 1827 года в родовом имении -усадьбе Рязанка при селе Урусово в Рязанской губернии (Раненбургский уезд). Его раннее детство прошло в теплой обстановке просвещенной дворянской семьи. Отец и мать, бабушка с дедушкой, старший брат Николенька и сестра Наташа (верный друг на всю жизнь) составляли круг родных, ежедневно дарящих ребенку любовь и радость. Старинный деревянный дом и разросшийся фруктовый сад во вкусе XVIII века были неотъемлемой частью ранних впечатлений маленького барчука. Эти образы детства остро запечатлелись в его памяти. В старости Семенов с удовольствием вспоминал названия произраставших в родительском саду цветов. Аквилегия, анемоны, желтофиоли, дельфиниум, пионы и маки служили особой гордостью его матушки, уделявшей цветоводству много времени.
Отец будущего ученого, отставной гвардии капитан Петр Николаевич Семенов (1791 - 1832) участвовал в войне 1812 года. За доблесть, проявленную в сражении при Бородине, был награжден золотой шпагой. Его молодость овеяна славой. Он дважды попадал в плен к французам, дважды бежал из плена, и возврат ился на родину, пройдя пешком через всю Европу. По дороге любознательный русский интересовался устройством фермерских хозяйств. От него позднее унаследовал интерес к аграрным вопросам и сын Петр.
Выйдя в отставку, офицер-измайловец занялся изящной словесностью. По ироническому свидетельству его дальнего родственника Э.И. Стогова (родной дед А.А. Ахматовой), «он пописывал стихи, и была известна в свое время и (великим князем) Константином Павловичем любима комедия «Жидовская корчма» . Речь идет о плутовской комедии «Удача от неудачи, или приключения в жидовской корчме». Наибольшую же популярность принес Петру Николаевичу «Митюха Валдайский», в котором автор пародировал приемы классицизма.
Идеалистические взгляды на устройство общества и склонность к просветительству привели отставного офицера в ряды «Союза благоденствия». Однако через некоторое время он вышел из его состава. Участие в полулегальной организации претило этой прямодушной натуре. Петр Николаевич решил полностью посвятить себя частной жизни.
Его избранницей стала юная Александра Петровна Бланк. Их свадьба состоялась в 1820 году. Молодая чета уехала в имение, где безмятежно протекали годы супружества. Однако этой идиллии суждено было прерваться в 1832 году. По дороге в тамбовское имение, куда Петр Николаевич отправился по делам, внезапно заболел его слуга. Ухаживая за ним, заразился и барин. Острый недуг за несколько дней свел в могилу 40-летнего отца семейства. Его внезапная смерть поразила всех близких. Молодая жена, на руках которой оставались тро е малолетних детей, не вынесла тяжести переживаний. Врачи констатировали у нее «нервную горячку с воспалением в мозгу». Эта неизлечимая и медленно прогрессирующая «черная меланхолия» навсегда изменила жизнь некогда счастливой семьи. Родные, уставшие от болезненной подозрительности и галлюцинаций Александры Петровны, тихо покидали дом.
П.П. Семенов и западные эксперты. Вильгельм Боде в Петербурге
Из трех названных исследователей раньше всех П.П. Семенов познакомился с Вильгельмом Боде (1845 - 1929). Произошло это в пору, когда карьера немецкого ученого только начиналась.
В 1872 году 28-летний Боде, тогда ассистент Картинной галереи Королевских Музеев в Берлине, впервые отправился в Россию. Молодой ученый уже успел привлечь к себе внимание в научном мире. Его биография складывалась не совсем стандартно для человека его круга и времени. По семейной традиции Боде поступил на юридический факультет Университета Георга-Августа в Геттингене (1864 г.). Однако несравненно больше, чем юриспруденция, его влекло искусство старых мастеров. Книги Вагена и Торе - Бюрже - излюбленное чтение начинающего студента. Все свободное время он проводит в местных музеях.
Берлин, куда Вильгельм Боде переехал для продолжения учения, дал ему возможность видеть воочию полотна знаменитых мастеров в Картинной галерее Старого музея. Здесь он проводит каждый свободный час. Известный коллекционер нидерландского искусства Бартольд Сюрмонт, обративший внимание на незаурядные знания юноши, пригласил его в 1868 году в Аахен. Отсюда Вильгельм отправился в путешествие по городам Фландрии и Голландии. За первым заграничным вояжем вскоре последовали поездки в Венгрию, Италию, Великобританию, Скандинавию.
В 1869 году молодой юрист окончательно решает порвать со своей профессией и, вопреки воле отца, посвятить себя изучению искусства. Центрами его занятий становятся Берлин и Вена. На исторических семинарах он избирает методику, которой будет придерживаться во всей дальнейшей деятельности. Работа должна базироваться на архивных материалах, обладать точными источниками цитируемой информации, пытаться восстановить во всей полноте обстоятельства прошлого ("Wie es eigentlich gewesen"). В 1870 году им была блестяще защищена диссертация «Франс Хале и его школа», в которой затрагивалась проблемы разделения оригиналов, копий и подражаний. Хрупкого сложения и чрезвычайно болезненный от рождения Боде обладал сильной волей, редкой работоспособностью и строжайшей самодисциплиной. В полном смысле он воплощал тип человека эпохи «железного канцлера» Бисмарка.
В период, когда началась его карьера, Королевские музеи в Пруссии полностью находились в ведении монарха. Император Вильгельм I не только принимал участие в музейной жизни, но и назначал директора из круга придворных (практически деятельность Вильгельма Боде - музейного специалиста, ставшего впоследствии Генеральным директором, сломала эту старую традицию).
В Россию Боде приехал в 1872 году по приглашению барона К. фон Липгарта, с которым познакомился незадолго до того во Флоренции35. Молодой немецкий ученый провел в Петербурге весь - май и июнь, успев собрать материал для книги «Шедевры голландской живописи в Императорском Эрмитаже» б. Позднее в мемуарах, написанных уже на закате жизни , он вспоминал, что был потрясен радушием", с которым его встретили в русской столице: «Едва ли в каком другом чужом краю, чей язык я совершенно не понимал, чувствовал я себя так хорошо, был бы так избалован и обласкан вниманием света, как тогда в эти шесть недель моего пребывания в Петербурге» . Однако, несмотря на обилие светских развлечений, он ни на минуту не забывал о цели своего приезда. Помимо Эрмитажа, Боде подробно осмотрел коллекции графов Строгановых, Орловых, князей Юсуповых, галерею Императорской Академии художеств (заметим, обычный маршрут для заезжей знаменитости). Однако его любознательность простиралась гораздо дальше. Благодаря завязавшимся дружеским отношениям с П.П. Семеновым, «выдающимся русским географом и статистиком», молодой ученый посещал многочисленных торговцев картинами и маленькие собрания. Боде был частым гостем в доме Петра Петровича. Здесь его внимание привлек ряд голландских картин, атрибуции которых вызывали сомнение. Беседы Боде и его советы пригодились Семенову позднее при составлении каталога собрания. Общение двух новых знакомых обрело долголетний характер. Осенью того же года П.П. Семенов отправился в Европу. О характере этой поездки он сообщал 20 сентября (2 октября) своему другу К.С. Веселовскому , с которым в дальнейшем его будет связывать работа для «Вестника изящных искусств». Текст этого письма свидетельствует о необычайной активности коллекционера на художественном рынке. На этих страницах он упоминает множество имен известных антикваров, названия различных музеев, описывает планы на будущее.
«Добрейший Константин Степанович,
Так как Вы читаете в часы досуга в Zeitschrift fur bildende Kunst то, что там называется "новостями с художественного рынка", то я полагаю, что Вы прочтете благосклонно мое послание, которое будет отличаться от новостей Zeitschrift только более субъективным характером, за что Вы, вероятно, на меня не посетуете».
После этого шутливого вступления автор переходит к подробному «отчету» о путешествии.
«В Берлине я пробыл четыре дня, большею частью с Боде в Музеуме, где познакомился с издателем Kunstlerlexicon Мейером. Этот Мейер очень симпатичная личность, (неразборчиво друг? - И.С.) директора Картинной галереи, а Боде его помощник, что обещает Берлинской галерее лучшую будущность. Боде едет теперь в Голландию, а потом оба друга отправятся в Италию ... Прусское правительство убедилось, что лучшие директора картинных галерей не есть которые сидят на месте и "хранят" картины, а те которые деятельно занимаются историею искусства и ездят для необходимых исследований и сравнений повсюду. И в самом деле последние приобретения Берлинского музея делают честь дирекции, как по отношению к превосходству картин, так и умеренности цен, за них заплаченных. Превосходный ландшафт Рюйсдаля, птицы Фикторса, ..., портрет дамы в ландшафте Веникса, и, наконец, обе картины приобретенные через меня (ф. Лоо и Рубенс) выставлены provisoirement в особой комнате как новые приобретения, которыми новая дирекция в праве гордиться .
Константин Степанович Веселовский (1819-1890) - государственный деятель, статистик, знаток офортов Рембрандта, с. 1857 г. - непременный секретарь Академии наук. Его Рядом с тем дирекция эта позаботилась и обо мне, ввиду услуги, оказанной мною Музеуму, вследствие чего мне уже удалось купить очень хороший ландшафт Яна Асселейна и имеются ввиду две прекрасные картины ф. Лаанена и Питера ф. Лаара40.
В отношении гравюр в Берлине я нашел весьма мало, так как Амслер и Зегердт очень дороги, а у других почти ничего нет ... В Дрездене я пробыл три дня, по утрам в галерее, остальное время у наших приятелей Хеллера и Аппеля (антиквары - И.С). Нашлись у Хеллера для меня вещи очень хорошие и доступные по цене и именно Рембрандты, на которого в эту поездку мне особенная удача, так как я приобрел у Хеллера 18 N, у Аппеля 1, у Вавры 2, из таких разумеется, каких у меня не было, что уже не так легко . Пожалуй, я имею около половины всех нумеров (по Bartsch - И.С.)...
В Вене я провожу утро в галереях, которых здесь так много... еду завтра в Мюнхен, а в Италию уже оттуда. В Мюнхене я постараюсь исследовать еще и другие источники, кроме Шахтнера, у которого конечно перерою все, что у него есть... Как интересны для любителя искусства подобные поездки и вообще ... осмотр всех коллекций и памятников... В Вене картины покупаются нарасхват и потому наследники Мекленбурга продают свои картины в Вене, а гравюры - в Берлине... Это даже что-то невероятно.
Постараюсь Вам подобрать у Шахтнера хорошую Ansichtssendung.
Душевно Ваш».
Обратим внимание, что в этом довольно раннем письме коллекционера отражена роль Боде как основателя нового типа искусствоведа: ученого-знатока, постоянного совершенствующего свой глаз и вкус на практике. В дальнейшем Семенов усвоил именно этот стиль работы.
Когда в 1893 году в зените своей славы «отец германских музеев» Боде вновь посетил Северную Пальмиру, он уже запросто останавливается у «старого друга П.П. Семенова». Содействие последнего помогло ему наилучшим образом использовать короткое время - всего восемь дней - для дальнейшего изучения петербургских коллекций. Свои заметки Боде тщательно вносит в записную книжку. помощником был в молодости А.И. Сомов. Уютный дом Семеновых на Васильевском Острове к тому времени вмещал уже около шести сотен голландских и фламандских картин. Они занимали стены не только в большой и малой гостиных, кабинетах, спальнях, детских, но и в коридорах. Все, что невозможно было развесить, размещалось на специальных полках, превращенных в своего рода музейное хранилище.
Вышедшая в 1883 году монография В. Боде «Этюды по истории голландской живописи» имела в Европе огромный успех43. В ней был обобщен его опыт изучения картин голландских мастеров. Кратко написанные главы о карьере малоизвестных художников (включающие множество важных сведений) соседствовали с обзором oeuvre a двух выдающихся национальных гениев -Рембрандта и Франса Халса. Именно здесь Боде твердо высказался в пользу аутентичности эрмитажного «Жертвоприношения Авраама» Рембрандта, а мюнхенскую версию этой композиции причислил к работам мастерской44.
«Штудии» Боде в значительной мере определили структуру исследования, которое предпринял в 1880-х годах Петр Семенов. Собирая материалы для своего будущего каталога, он задумал написать историю нидерландских школ, «дополнив» ее картинами из русских коллекций. Таков замысел «Этюдов по истории нидерландской живописи на основании ее образцов, находящихся в публичных и частных собраниях Санкт-Петербурга», опубликованных в 1885 году на русском и французском языках. Книга эта - энциклопедия русского собирательства. Ее автор с завидной скрупулезностью зафиксировал все известные ему в то время полотна редких и малоизученных голландских художников (прежде всего, конечно те, что находились в его собственности). По приведенным сведениям легко понять, сколь обширен был опыт эксперта Семенова, сколь досконально изучил он богатейшую эрмитажную коллекцию, насчитывавшую в те годы 893 произведения северных школ. По сути, этот донельзя загруженный служебными и общественными обязанностями человек поставил уникальный эксперимент, сумев классифицировать гигантский материал. Он учел и множество открытий, сделанных Боде.
По словам современников, Семенов совершенно справедливо утверждал, что Эрмитаж является первой галереей в мире по части этих школ. «Когда же в ней обнаруживается отсутствие маленьких мастеров, многочисленные частные собрания - и не в последнюю очередь его собственное (а также Академия художеств и коллекция герцога Лейхтенбергского) служат дополнением к ней»45. В главах, посвященных анализу голландских картин начала XVI - конца XVII веков, автор привел множество свидетельств уникального богатства Петербурга. Только в его собственной коллекции такой редкий художник как Ханс Бол оказался представленным тремя подписными работами на меди. Купленные на петербургском рынке превосходные картины К. Дросхлота (16), Р. Винкбонса (12), Л. Брамера (6) свидетельствовали о том, что немало еще оставалось в России сокровищ, рассредоточенных по частным собраниям.
Вслед за появлявшимися в печати статьями Боде о «новых именах» в голландском искусстве, Семенов методично покупает у антикваров их работы. Так появляются в его собрании «Венера, оплакивающая Адониса» П.Кодде (ГЭ 3150), «Офицер» С.Кика (ГЭ 2810), «Домашний концерт» Д.Халса (ГЭ 2814), натюрморт редкого мидцелбургского мастера А.Корте (ГЭ 2942), «Молодая женщина, угощающая кавалера вином» К. ван Брекеленкама (ГЭ 2889). При прямом содействии Боде русский коллекционер приобрел из собрания Альфреда Тиме в Лейпциге (Боде издал в 1900 году каталог этой коллекции) произведение малоизученного тогда художника Э.Бурсе «Починка барабана» (ГЭ 3069). Эта маленького размера жанровая сцена с изображением музыканта (солдата?), склонившегося над огромным барабаном, имела полную подпись мастера.
Вильгельму Боде в семеновской коллекции принадлежит целый ряд атрибуций (часть из них - ошибочны), им были уточнены также некоторые сюжеты. Как многие знатоки второй половины XIX века немецкий ученый свято верил в точность позитивистского метода. Биографии художников или недавно опубликованные архивные документы давали ему повод легко связывать новые данные с тем или иным произведением. Произвольное отождествление моделей на голландских портретах кажется особенно показательным в этом отношении. Так, молодую женщину, представленную в композиции Л. Бакхейзена (ГЭ 3136) Боде счел портретом знаменитой голландской художницы Рахели Рейсх только на том основании, что она брала уроки у этого прославленного мариниста.
Продажа коллекции Императорскому Эрмитажу
За столетие, прошедшее после выхода этого труда, коллекция значительно трансформировалась. В результате эрмитажных продаж (о них мы подробнее расскажем в отдельной главе) более трети полотен семеновской галереи оказалось в начале 1930-х годов за рубежом. Изменился состав и в свете современной науки. Целый ряд старых атрибуций был уточнен или отвергнут современными специалистами.
Однако и сегодня многие произведения представляются энигматическими. Монументальное «Святое Семейство» Я. Иорданса (гордость Семенова), давно перешедшее в разряд старинных копий, в недавнее время вновь было «реабилитировано» как работа мастерской.
Стоит заметить, что многие громкие имена в коллекции уступили место скромным авторам. Утратил атрибуцию Рембрандту приписывавшийся ему «этюд» «Голова бородатого мужчины», который ныне находится в одном из частных собраний Западной Европы.
Картина «Арбалетчик и молочница», купленная Семеновым под именем Ю. Лейстер, оказалась в действительности копией, исполненных по гравюре Якоба де Гейна.
Из пяти полотен Геррита ван Хонтхорста в настоящее время три отнесены к произведениям его младшего брата - художника Виллема ван Хонтхорста. Два других («Исав и Иаков» и «Старуха со свечой»), как установила в 1960-х годах М.И. Щербачева, принадлежат кисти Матиаса Стома42.
В новейшей литературе подверглось сомнению авторство двух картин с монограммой известного жанриста Квирина ван Брекеленкама («Старушка с детьми» ГМИИ им. Пушкина, Москва и «Старушка с детьми», ГЭ 290743).
При внимательном исследовании выяснилось, что «Завтрак», считавшийся произведением Виллема Хеды, является работой его ученика и частого соавтора Рулофа Кутса44. Великолепный декоративный натюрморт «Охотничьи трофеи» Яна Веникса переатрибутирован последователю прославленного мастера, Дирку Валкенбургу (об этом неопровержимо свидетельствует обнаруженная Фредом Мейером старая литография).
Изменены определения и других картин. Композиция «Всадник, расспрашивающий о дороге», которую П.П.Семенов считал ранней работой Ф. Ваувермана, с гораздо большей убедительностью причислена теперь к наследию его учителя Питера Вербека.
Установлено также, что написанная на медной пластине «Купальня» принадлежит вовсе не Б. ван Бассену, а фламандцу Луису де Коллери. Изображение дворцового бассейна в ней заимствовано художником из увража Ханса Вредемана де Вриса «Variae Architecturae Formae» 1604 года45. В настоящее время это — единственный в эрмитажном собрании образец, подтверждающий тесную связь творчества де Коллери с графическим наследием его предшественников.
Внесенные за последние годы уточнения позволили более трезво взглянуть на состав коллекции. Мы видим, что палитра собранных Семеновым «малых» мастеров оказалась шире и разнообразнее, чем полагал сам создатель галереи. История заблуждений и ошибок в экспертизе не менее поучительный материал, чем блестящие догадки и сенсационные открытия.
Со временем все явственнее проступило значение тех полотен, которые хотя и были отмечены владельцем, но не входили, по его мысли, в число фаворитов. Здесь особо выделяются два ранних нидерландских натюрморта: «Продавец дичи», имеющий пиктограмму П. Артсена (трезубец) и «Продавщица рыбы» П. Питерса (ГМИИ им. Пушкина, Москва). Им принадлежит уникальное место в собраниях России.
По художественному масштабу и силе отражения предметного мира — «пищи для размышлений» — они не имеют аналогий в отечественных музеях. Крупные, четкие формы, предельная вещественность и плотность в передаче мотивов, а также введение фигур, комментирующих смысл сцен, принадлежат стилистике искусства рубежа XVI - XVII веков. Без упоминания этих работ сегодня немыслимо исследование иконографии натюрморта46.
Как в любой большой коллекции, в галерею Семенова попадали время от времени и случайные вещи. Такова история «Андромеды», считавшейся некогда произведением Николаса Берхема. С этим именем маленькая и действительно симпатичная картина не только вошла в каталог 1906 года, но и экспонировалась на выставке «Памяти Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского». Поскольку вещь была сфотографирована СМ. Прокудиным-Горским, ее изображение попало во многие музейные фототеки. А вместе с тем внимательный взгляд без труда заметит в ней особенности, несовместимые не только с «почерком» Берхема, но и с традицией голландской живописи XVII века. Фигуры персонажей на заднем плане в неоклассицистическом вкусе и облик воинов, приковывающих Андромеду к скале, свидетельствуют о значительно более позднем времени возникновения полотна. Остается пока неясным, случайно ли оказалось оно принятым за произведение XVII столетия или намеренно создавалось как имитация. Мы склонны скорее к первому предположению. Повторим, однако, что на художественном рынке конца XIX века ходило множество подделок и копий, и коллекция П.П. Семенова не стала исключением для такого рода ошибок.
Но аналогичные случаи были, понятно, исключением в экспертной практике русского собирателя. Другую сложность представляют собой работы XVII столетия, авторство которых точно установить не удается. Их определяют достаточно условно. К таким вещам, например, относится хранящийся ныне в Эрмитаже «Старик-отшельник» "Г. Дау". Речь здесь идет об анонимном подражателе лейденского мастера.
В целом же галерея Семенова отличалась однородностью состава. Тому немало способствовал интерес ее владельца к малоизвестным именам. На девяносто процентов произведения этого собрания обладали авторскими подписями и датами.
Картина К. ван Мандера «Деревенский праздник» («Кермесса»), датированная 1600 годом, может служить ключом к рассмотрению собранной Семеновым живописной галереи (мы намеренно опускаем несколько старо нидерландских картин, подробно описанных в каталоге 1906 года). Это превосходное произведение как бы стоит на рубеже двух эпох. Иконографически панорамный пейзаж с фигурами в глубине и сценой крестьянской пирушки на первом плане восходит к работам Питера Брейгеля Старшего. Но очевидная близость к старой традиции ловко преобразована в новую схему камерной бытовой сцены. Обилие остроумно наблюденных деталей играет важнейшую роль в композиции, которую многие исследователи считают прототипом голландской жанровой живописи47. Сам же владелец характеризовал ее как «scene realiste d apres nature». Магическое для конца XIX века понятие «реализм» часто заменяло формальный анализ. Вместе с тем эта искусная, ловко срежиссированная композиция обладает привкусом простонародного анекдота, который станет отличительной чертой голландской живописи XVII столетия.
Два больших пейзажа - «Крещение евнуха апостолом Павлом» ок.1610 года Давида Винкбонса (Семенов приписывал его Гиллису ван Конинкслоо) и «Пейзаж с пророком Илией» 1627 года Гиллиса де Хондекутера отражают стилистику ранних голландских ландшафтов. Их основные элементы - причудливые очертания стволов и ветвей деревьев, которые образуют «раму» вокруг свободного пространства в центре, размещение сюжетной сцены на периферии изображения, подчеркивание планов условным цветом.
К такого рода произведениям следует отнести и очень тонко исполненный «Тирольский пейзаж» 1606г. Руланта Саверея. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, изображен ли здесь пейзаж предгорий Альп или богемский ландшафт48. Однако не менее существенным в ней кажется присутствие едва заметной миниатюрной сцены бегства Св. Семейства в Египет. Эта сюжетная «цитата» приобщает картину Саверея к кругу типичных маньеристических произведений. Прекрасная сохранность выделяет эту работу среди ландшафтных образцов семеновского собрания.
Еще один любопытный и незаслуженно забытый пример — большая экспрессивная композиция «Всемирный потоп», написанная на довольно толстой деревянной доске. Она дважды репродуцировалась при жизни владельца, сначала -под именем Якоба Саверея, а позднее как работа Э.ван де Велде. По-видимому, Семенов не был уверен в точности атрибуции. Позднее загадочное полотно оказалось в запасниках Эрмитажа и никогда не включалось в музейные каталоги.
Сюжет «Всемирный потоп» пользовался исключительной популярностью у мастеров, работавших в Нидерландах около 1600 года. Близость к их маньеристическому стилю ощущается и в данной картине, хотя в целом она производит более архаическое впечатление. Автор композиции отводит доминирующую роль драматическому пейзажу, насыщенному множеством стаффажных фигур. Дополнительные детали - изображение ангела с мечом в левой части и Ноева ковчега - в правой, подчеркивают последовательность событий. В Европе была известна еще одна, более развернутая, версия композиции, исполненная Мартином ван Клеве (1527 - 1581). Ее фотография хранится в архиве М. Фридлендера (RKD, Гаага, указано С. Леммерс). Не исключено, что семеновская картина являла собой редуцированную копию, созданную в мастерской того же художника.
Фламандская пейзажная традиция превосходна представлена в семеновском собрании и произведениями высоко ценимого этим коллекционером Поста Дрохслота (сохранились три его картины в собрании Эрмитажа и одна - в ГМИИ им. Пушкина, Москва), а также работами А. и К. Виллартсов и М. Молануса.
В отличие от пейзажа однофигурные композиции, игравшие существенную роль в живописи академистов первой четверти XVII века, были охарактеризованы лишь единичными примерами. Помимо несколько вяло написанной «Дианы» И. Изакса, заслуживает упоминания «Голова молодой женщины» (1610 г.) кисти Корелиса Корнелисса ван Харлема.
Сам П.П. Семенов считал эту картину портретом, однако, без сомнения она принадлежит к категории «характерных голов» и представляет, видимо, богиню любви Венеру.
Такого рода погрудные изображения исторических и мифологических героев в «античном» одеянии предшествовали появлению композиций «tronie», весьма популярных в кругу Рембрандта. В современном состоянии картина Корнелиса ван Харлема, покрытая толстым слоем пожелтевшего лака, нуждается в реставрационной расчистке. Это позволит более точно рассмотреть детали женского убора (диадема в волосах), существенные для определения персонажа.
Другую значительную группу фигурных композиций образуют работы караваджистов. Хотя в коллекции отсутствуют произведения ведущих мастеров этого направления (Абрахама Блумарта, Геррита ван Хонтхорста, Хендрика тер Брюггена), здесь имеются довольно редкие и примечательные образцы. Датированный 1652 годом «Концерт» Хермана ван Алдеверелта занимает среди них уникальное место. О творчестве этого оригинального живописца позволяют судить лишь несколько дошедших до нас произведений. В музеях Голландии нет ни одной его работы.
Композиция с тремя крупными, выдвинутыми на передний план фигурами, варьирует излюбленную караваджистскую тему - любительское музицирование. Полуоткрытый рот и жест руки сидящей в центре дамы говорят о занятии сольфеджио. Рядом с певицей стоит девочка, которая указывает ей нужную строку в нотной тетради. Еще один участник музыкального трио, юноша, держит в руке нотный лист. Спонтанность сцены подчеркнута непринужденностью поз участников и тем, что юноша смотрит прямо на зрителя. Любопытно отметить, что автор картины вдохновлялся образами, созданными в 1620-х годах харлемскими мастерами. Перекинутый через плечо короткий плащ и бархатный берет молодого человека явно напоминают реквизит героев Ф. Халса.