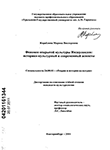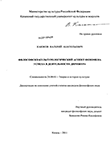Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Теория подражания в истории культуры 17
1. Подражание в антропогенезе и в социокультургенезе 17
2. Экзистенциальное значение подражания 29
3. Значение платоновского "Государства" в концептуализации подражания 56
4. Мимесис как основание визуальной культуры 107
5. Подражание и письменная культура 133
ГЛАВА 2. Роль экзегетики в концептуализации подражания 142
1. Место экзегетики в истории культуры 142
2. Подражание в качестве основания христианской экзегетики 151
3. Значение уподобления в типологических толкованиях 200
4. Роль подражания в представлении
об иерархическом порядке бытия 219
ГЛАВА 3. Подражание в искусстве и в практиках культурного наследования 228
1. Теория подражания в герменевтике искусства 229
2. Подражание и философия музея 246
3. Онтология музея 254
4. Логос коллекционирования и его миметическое основание 265
5. Подражание в практике сохранения культурного наследия 292
Заключение 305
Список литературы
- Экзистенциальное значение подражания
- Подражание и письменная культура
- Значение уподобления в типологических толкованиях
- Логос коллекционирования и его миметическое основание
Экзистенциальное значение подражания
Основными философскими источниками по теории подражания стали, в первую очередь, труды представителей Афинской школы философии: Платона (Государство) и Аристотеля (Поэтика, Физика). Другие диалоги Платона (Протагор, Федр, а также Письма), текст Ветхого Завета, «Строматы» Климента Александрийского, источники по истории книги, библиотечного дела, древнегреческой литературы, религии, европейской учёности, а также работы по философии книги (М. Н. Куфаев,
A. М. Ловягин, Н. А. Рубакин) легли в основание исследования роли подражания в становлении письменной культуры. Исследование роли подражания в теории и практике культурного наследования опиралось, как на указанные работы Платона и Аристотеля, так и на труды по истории учёности и образованности (Р. Блум, B. В. Бычков, В. Йегер, А. П. Каждан, Д. С. Лихачёв, И. П. Медведев, Ф. Функе, А. М. Панченко, Р. Пфейффер, Ф. И. Успенский и др.), а также на работы авторов нового направления в философии культуры — философия музея — Н. Ф. Фёдоров, М. Б. Пиотровский, А. С. Дриккер, А. А. Никонова, О. В. Беззубова, Т. П. Калугина. В исследовании экзистенциальных смыслов подражания основными источниками стали диалоги Платона (Федон) и Григория Нисского (О Душе и Воскресении, разговор с сестрою Макриною). Основными источниками в работе по прояснению роли экзегетики в концептуализации подобия и подражания стали, кроме текста Нового Завета, толкований на Новый и Ветхий Заветы, в первую очередь, труды авторов II-IV вв. н.э.: Ориген Александрийский, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, Диодор Тарский, Феодорит Кирский, Василий Великий, Григорий Нисский, Августин Иппонский и др. Были использованы русские переводы их работ, появившиеся в подавляющем большинстве в XIX веке, патрологические исследования их работ, а также греческие тексты по изданию Ж.-П. Миня.
Источниками при исследовании роли подражания в герменевтике искусства стали, главным образом, работы Г.-Г. Гадамера, С. М. Эйзенштейна, материалы из древнегреческой мифологии и драмы (Аполлодор, Эсхил), современной литературы (Т. Вульф, К. Вагинов и др.), культурологии и философии (М. М. Бахтин, В. Н. Топоров, Ж. Делёз, Э. Левинас и др.).
Исследование роли подражания в становлении и функционировании визуальной культуры опиралось на следующие источники: теоретические положения о зрелище и символе, выдвинутые античными, средневековыми и современными авторами (Платон, Тертуллиан, Климент Александрийский, Григорий Нисский, Григорий Палама, О. М. Фрейденберг, Ж. Лакан,
A. И. Зайцев и др.); материал из истории визуальной культуры (аттический театр, позднеримский мим, рукописная книга, европейская музыкальная драма, современный музей и пр.), из истории европейской литературы XIX XX веков (Н. С. Лесков, Р.-М. Рильке, Б. Шульц, А. А. Ахматова и др.). Для прояснения места теории подражания в истории философии в качестве источников были использованы историко-философские исследования С. С. Аверинцева, П. Адо, А. В. Ахутина, А. И. Бродского, B. В. Бычкова, Т. В. Васильевой, Иоанна Мейендорфа, В. Йегера, А. Ф. Лосева, Ю. В. Перова, Р. В. Светлова, К. А. Сергеева, А. И. Сидорова. Методологические основания исследования
При установлении основных понятий в работе был использован аксиоматический метод. Главные выводы были получены с помощью гипотетико-дедуктивного метода. При работе с конкретным историческим материалом основное значение в работе приобретали методы научной индукции. Из числа философских и общегуманитарных в первую очередь были использованы следующие методы: историко-философский, философско-компаративистский, культурологический, герменевтический и семиотический. Кроме того, при работе над конкретными историко-культурными областями бытования подражания были использованы те методы, которые открывают путь к наиболее аутентичному описанию рассматриваемой концепции. Так, при рассмотрении античного культурного ареала концепции подражания невозможно было обойтись без применения диалектики и античной теории искусства. Главным же инструментом в рассмотрении концепции подражания в средневековье стал патрологический подход, позволяющий устанавливать религиозные, культурные и философские контексты рассматриваемой концепции. Основным материалом при исследовании новоевропейского бытия подражания стали рационализм и механицизм, в соответствии с этим и подходами к изучению подражания в эту эпоху стали историко-философский и культурно-исторический. Вся совокупность обозначенных методов использовалась при рассмотрении современных форм бытования подражания. Кроме того, важная роль в исследовании была отведена философско-антропологическому и социально-философскому методам анализа, благодаря которым была сделана попытка достичь понимания социально-антропологической роли подражания в культуре.
Подражание и письменная культура
«Но ежели у тебя есть некоторая привязанность к этому телу, и печалит тебя расторжение связи с любимым; то и в этом не лишён ты надежды. Ибо увидишь телесное это покрывало, разрушенное теперь смертью, снова сотканным из того же, но не в этом грубом и тяжёлом составе, а так, что нить сложиться в нечто легчайшее и воздушное, почему и любимое при тебе будет, и восстановится в лучшей и вожделеннейшей красоте»1. Вот если относить, это «любимое» не только к телу - странна ведь смертная печаль, когда она вызвана только расставанием с телом, - но ко всему, чему ты привязан в этой жизни, привязан в том числе и телесно: через органы чувств и родственно, то всё это вместе с тобой останется. Даже это, уточним, останется. Но вернёмся к тому, что Сократ утверждает, только поставим под вопрос его главное утверждение и повторим его логику: Почему «те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним - умиранием и смертью»2? Почему «именно в том прежде всего обнаруживает себя философ, что освобождает душу от общения с телом в несравненно большей степени, чем любой другой из людей?»1 Почему, наконец, «душа философа решительно презирает тело и бежит от него, стараясь остаться наедине с собою?»2 Философ, рассуждает Сократ, отказываясь от всякого рода телесных наслаждений, заботясь только о душе, уже при жизни стоит «на полдороге к смерти». Только в размышлении, не давая телу себя вводить в заблуждение, душа и может коснуться истинного бытия. Это так, ведь не глазами же мы видим справедливое само по себе или само по себе прекрасное. Так и складывается отношение философа к телу: предмет его желаний - истина, а тело её усмотрению только мешает, так что «достигнуть чистого знания чего бы то ни было мы не можем иначе как отрешившись от тела и созерцая вещи сами по себе самою по себе душой»3. Вот этому ключевому для истины подобию «самой по себе души» «самим по себе вещам» и мешает тело, это подобие мы пока оставим. Обратимся к другому моменту отношения души и тела, на котором построен весь второй аргумент о бессмертии - к припоминанию, тем более, что и оно построено на подобии4. Мы никогда не встречаем, например, совершенно равных вещей, но идея равенства у нас есть, что и позволяет производить сравнение. Значит мы приобретаем эту идею ещё до рождения. Но одно дело, если бы мы приобретали такое знание о «бытии самом по себе», когда наши души, ещё не обременённые телами, обретались в чистейшем эфире, общаясь с людьми и богами, несравненно лучшими здешних. Но из обосновывающего мифа, рассказываемого Сократом в заключении диалога, становится ясным, что души людей совершено очистившихся при помощи философии попадают в это царство блаженства навсегда, они выпадают уже из вечного порядка метампсихоза, круг перерождений для них размыкается1. Т.е. это не они, кто знает. Тогда как же душа получила это знание? Сократ отвечает так:
«И если, узнав однажды, мы уже не забываем, то всякий раз мы должны рождаться, владея этим знанием, и хранить его до конца жизни.»2 Как понимать это «узнав однажды»? Если это однажды не может случиться в царстве эфира, значит оно случается в царстве воздуха: здесь на земле, там где душа как раз и обременена телом. Есть ещё и третий вариант, можно узнать ещё и в Аиде, но что можно знать в безвидном, когда все виды блага закрыты, там бродят тени, а не сияют идеи? Значит однажды, при одной из своих жизней, человек, или чем он в тот момент является, узнает, скажем, идею равенства. Но ведь это будет значить, что бытие само по себе как раз-таки при наличии (пусть не благодаря, а вопреки) тела и постигается. Этот странный, ввиду логики вводной части диалога, вывод не кажется таким странным, если вспомнить, за что из воображаемого государства изгоняются иные поэты и художники. Они изгоняются за ложный мимесис, за производство ненужного, за создание того, что не приводит к благу, а существует только благодаря некоему обману, существует по видимости, а не на самом деле и из-за этого вводит в заблуждение. Эти призраки очень похожи на идеи, если мыслить идею в отрыве от вещи, а не в символическом единстве с ней. Такой художник рисует уздечку вроде бы как таковую, но не будучи ни всадником, ни изготовителем уздечек, он совсем, - утверждает Платон в «Государстве», -ничего в них не смыслит. Он обманщик. Тогда не обманщик ли наш философ, призывающий отказываться от тела? Кроме того, третьим аргументом доказательства становится утверждение эйдетической природы души: она не имеет частей, безвидна, господствует над телом. А если душа - идея, то и погибнуть она не может, может она только страдать, если не удалось ей при жизни совершенно освободиться от тела. Так рассуждает Сократ. Вот не похожа ли так изображённая душа на изображение уздечки? В том смысле, не один ли у ни будет онтологический статус? Не получается ли так, что сократовское доказательство бессмертия строится на выведении души из онтологического ряда? Что в самом деле может случиться с призраком: что не живёт, то ведь и не умирает? Человек ведь, наверное, не врёт перед смертью. Во всяком случае, было бы просто-таки кощунством предположить, что не участвовавший в разговоре Платон, дабы сохранить образ Сократа-ироника, и в этот диалог подпустил иронического тумана, чего там и в помине не было. Что нам остаётся: полностью доверять тексту и в нём же искать разрешения всех трудностей. Некий намёк на такое разрешение содержится не в логической, а художественной части диалога. Каким появляется только что раскованный и уставший от причитаний Ксантипы Сократ перед друзьями, когда жена и дети удаляются?
«Сократ сел на кровати, подогнул под себя ногу и потёр её рукой. Не переставая растирать ногу, он сказал...»1 А говорил он о том, что противоположности всегда ходят одна за другой: если бы колодки так не натёрли ему ноги, то сейчас ему бы не было так приятно. Вспомним, что аргумент о противоположностях повторяется в доказательстве дважды: сначала в том варианте, что противоположные вещи переходят друг в друга, а если бы этого не было, то всё бы в конце-концов превратилось в одну из противоположностей. А во второй раз Сократ говорит о противоположностях самих по себе - не просто о противоположных вещах. И тогда смысл этого аргумента в том, что душа, являясь идеей жизни, никогда не сможет принять в себя смерть. Как идея
Значение уподобления в типологических толкованиях
Основная сюжетная коллизия «Государства» состоит в выяснении как пожизненной, так и посмертной состоятельности справедливости. Главное напряжение диалога создаётся уже во второй книге: несправедливый человек, кажущийся справедливым, будет счастливее человека справедливого, если все принимают последнего за несправедливого (ЗбОе - 361). Главкон выносит этот тезис, приглашая Сократа его опровергнуть, поскольку именно в нём воплощается полнейший триумф несправедливости: счастлив не тот, кто является, а тот, кто кажется. Коллизия разрешается только в десятой книге, только здесь Сократ требует от собеседников вернуть взятое ими «взаймы» допущение о несправедливости, прикрытой справедливостью; он утверждает, что «справедливость сама по себе есть нечто наилучшее для самой души» (612Ь). Интрига разгорелась и счастливо завершилась ко всеобщему удовлетворению собеседников, за исключением разве что Фрасимаха. Но каким образом Платон демонстрирует несостоятельность лживого уподобления? - разбором уподобления истинного: примером, благодаря которому нам удаётся уяснить себе значение справедливости для человека, оказывается государство. Поскольку справедливость «бывает свойственна отдельному человеку, но бывает, что и целому государству» (368е), конечно удобнее рассмотреть её действие на чём-то большем, распространив затем полученные вьгооды на меньшее - в точности этому замыслу Сократ и следует до самого конца диалога. Здесь надо понять две вещи. Во-первых для развенчания ложного подобия Сократ пользуется подобием же, хотя и истинным. Чтобы показать, что несправедливый человек, выдающий себя за справедливого, не может быть счастлив, Сократ говорит не о человеке, а о государстве. И его здесь вовсе не смущает тот факт, что вполне справедливые люди существуют наряду с людьми несправедливыми, а вот вполне справедливое государство может быть только воображаемым. Собеседники строят воображаемое государство как леса для умозаключения о подлинной справедливости, они как криминалисты посыпают пудрой отпечатки истинной справедливости, чтобы затем, смахнув лишнее, увидеть капиллярные линии. Только когда рассеивается туманное облачко воображаемого государства, проступают истинные контуры справедливости. Зачем нужны эти хотя и не напрасные, но уж, по крайней мере, непомерные усилия - целое государство, созидаемое и разрушаемое по прихоти мысли? Тем более если вспомнить, сколько людей принимало этот проект за чистую монету, чуть ли за политическую программу Платона. В этом нам ещё предстоит разобраться. Во-вторых же, заметим себе, что даже такой громадный проект не помогает ответить на вопрос о том, что происходит со справедливыми и несправедливыми людьми после смерти. В десятой книге Платон рассказывает миф, из которого становится совершенно ясно, что человек по-настоящему справедливый и после смерти, и в новой жизни получает справедливые воздаяния. Миф, повествующий о смерти и новой жизни, описывает справедливость как некую ось бытия, скрепляющую постоянство бессмертной души: только справедливый человек может спастись от полного забвения, на каждом круге метемпсихоза совершая правильный выбор, то есть оставаясь собой, хранить тождество, не допуская ужасного поругания души в Тартаре. Здесь - в смерти, в мифе - роль справедливости опять же уподобляющая: оставаться собой, не допускать полного растождествления - это миф о подобии-хранителе1. Стало быть есть уже два предположения о том, что подобие и подражание играют в «Государстве» далеко не последнюю роль, что за по видимости лёгкими и ироничными разборами мимесиса в третьей и десятой книгах скрывается ни на секунду непрерываемая работа того мимесиса, которому Платон-то и доверяет всё напряжение своей онтологии.
Но чтобы по простоте не впасть в некоторые соблазнительные заблуждения вроде веры в серьёзность платоновского политического замысла, сделаем некоторые предварительные замечания, касающиеся ироничности платоновских построений, а также способов его понимания.
Первый, самый почтенный - и, не исключено, что и самый аутентичный - способ чтения Платона - христианский. Человеку, вскормленному плодами богословия и античной философии, современному человеку, не так легко проследить ход тех теоретических линий, которые в каждую эпоху представляют собой вполне определённый метод, путь. Идущему своей дорогой современнику есть только один повод обернуться: чтобы вспомнить, куда ведёт эта дорога. Чтобы это понять, нужно ответить на вопрос «откуда»? Откуда ещё, как не из богословия и богословской традиции, я знаю Платона? Оставляя за скобками вопрос о теоретической важности для христианской мысли неоплатонической философии, просто перечислим некоторые из тех вещей, без которых немыслимо богословие, но, возможно, обошёлся бы сам Платон. Речь, собственно, о раскритико 1 Не случайно и ещё одно обстоятельство: искусству вроде бы недоступен мимесис невидимого, но именно туда (в Аид) устремляется Платон со своим подражанием, очищаясь от ложного мимесиса, с одной стороны, но с другой -показывая настоящую силу мимесиса. ванном в самом начале «Парменида», дуализме идей и вещей. Многое склоняет к мысли об этом иерархическом двоемирии: и дуализм души и тела, и дуализм зримого и умопостигаемого. И вот уже готовый штамп школьной философии, толкующей о мире вечных и неизменных идей, и управляемом им мире изменчивых, преходящих вещей. Эта картина настолько привычно изображает платонизм, что вопрос о том, зачем всё это нужно проделывать с бытием, как-то сам собой отходит на второй план. Человек привыкает к абсурду, тем более, если этот человек - философ. Но эта картина оставляет нерешённым вот какой вопрос: для чего идеям -вечным и неизменным, прекрасным и спокойным в своём совершенстве -было создавать мир вещей? Зачем пачкаться? Платон не отвечает на вопрос о причине. Но почему? Не потому ли, что он его попросту не ставит. А это, по крайней мере, в одном из вариантов значит, что никакого онтологического двоемирия он не мыслит. Что если все его дуализмы носят гносеологический, то есть служебный для его философии характер.
Это сомнение в верности школьного штампа возникает вот почему: в богословии Бог действительно трансцендентен миру. Он творец и промыслитель, ни на миг не бросающий своё детище, для человека Он «доступен» в тэозисе, в паламовских энергиях, но Он всё же трансцендентен миру. Даже обоженый человек не теряет, сливаясь с Богом, своей ипостаси. Вот это настоящее двоемирие, оно является одним из качественных отличий христианства и пантеизма, и в нём возможно на вопрос «почему?» получить ответ: «потому что Бог добр», Он творит из доброты, чтобы одарить прекрасным миром человека, чтобы радоваться вместе, а не в одиночку. Где есть вопрос, там есть и ответ.
Можно ещё усомниться в аутентичности платонического Блага и христианского определения благого Бога, или, например, в тождестве элейского Единого с христианским; но главное не в этом. Главное в том, что следы Платона нужно искать как раз в тех местах, где он ближе всего соприкасается с богословской мыслью. Дело в том, что благодаря школьному палимпсесту и школьной же цензуре все линии, уводящие в другом направлении, могли быть затёрты. Мысль о возможности счастливого исхода поиска «аутентичного Платона» навевают два обстоятельства. Первое то, что Платон, как гераклитовская природа, любит скрываться: за Сократом, за Гомером... - ведь он ироник. Он не только любит, но и умеет скрываться, поэтому первое место, где его стоит поискать - там, где прячутся хитрецы - на самом видном месте. Второе обстоятельство, Климент Александрийский, склонный во всякой мысли видеть богословский символ, сближает платонизм и христианство именно символически. Он умеет читать карты платоновских символов, он знает, как смотреть так, чтобы увидеть за ними большее. Но ведь не каждому дано пройти путём гнозиса, а школьная философия существует для каждого. И она ставит знак равенства между символом и раскрываемой им реальностью. Это тем более глупо, что и сам Климент, говоря о причинах символизации, указывает, в частности, на следующую: чтобы не навредить ни тому, кто пойдёт за тобой, ни себе, который не сможет провести доверившегося по пути гнозиса до конца1. Символ не только открывает, но и скрывает тоже. Во время бури окна следует закрывать. Но вернёмся к началу, к тому моменту, что навеянное христианством понимание Платона всё же может оказаться и самым совершенным из возможных; не даром же, только христианские руки смогли донести до нас живую платоновскую традицию.
Логос коллекционирования и его миметическое основание
Чтобы согласиться с победой добра над злом, порядка над хаосом не нужно быть героем, чтобы воспроизвести эту победу не надо быть гениальным художником. В искусстве героизм требуется как раз для обратного. В этом один из парадоксов мимесиса: герой совершает подвиг, но герой же описывает поражение. Незнание этого, в свою очередь, является одним из мощнейших механизмов профанации искусства - я вижу, как добро побеждает, как торжествует порядок, и радуюсь этому как своей победе, но дело-то в том, что это принципиально не моя победа: иначе как бы я смог все это увидеть со стороны. Скорее даже, и это ужасно, я сражаюсь на стороне зла и хаоса, если оказываюсь свидетелем победы добра. Этот парадокс мимесиса и сопутствующая ему профанация являются первой причиной нашего сомнения в универсальности «пифагорейского» подхода. Другой повод для несогласия мы заимствуем у Делеза, вернее в той части его понимания ницшеанского вечного возвращения, которую сам Делез характеризует как «тайный» смысл вечного возвращения1. Суть этой тайны состоит в том, что возвращается не То же самое и Подобное, а Различное; возвращается, т.е., как раз таки хаос, а не порядок. Он, стало быть, обосновывает наш мир: и природу, и искусство разом, поэтому искусствоведческие аппеляции к порядку оказываются в высшей степени безосновательными. Другое дело, что и сам этот тайный смысл Вечного возвращения еще требует обоснования своей применимости в области искусства. Приведем два аргумента на этот счет (о ценности случайного и силе хаоса).
Тайное и явное вечное возвращение Итак, явный и тайный смыслы вечного возвращения: суть первого - в возвращении порядка, в вечной победе космоса, этот онтологический оптимизм может обернуться умопомешательством демиурга, возвращающегося все время к Тому же самому, строящему даже хаос по модели порядка (по законам тождества и подобия: идея тождественна себе, вещь подобна идее); при всем том, однако, гуманистичность этого смысла вечного возвращения бесспорна. Возьмем теперь тайный, открытый - если верить Делезу - Ницше, смысл вечного возвращения: возвращается Иное, торжествует модель, построенная на различии, это онтология симулякров, мир хаоса. Казалось бы, невозможный для человека мир; это лишённость каких бы то ни было твердых оснований; этот мир призраков не может быть родиной человека. Но это не так. Обратимся к простому примеру. Представим себе, что моделью явного смысла вечного возвращения является симфонический оркестр. Музыкантам известны гармонии, инструменты настроены по камертону и подстроены друг под друга, у дирижера и музыкантов есть ноты исполняемого произведения и оркестрантам понятен язык жестов, с помощью которых дирижер руководит оркестром во время исполнения. Короче, есть некий онтологически предшествующий исполнению порядок, который и воспроизводится на каждом концерте. Теперь представим тот же симфонический оркестр в тайном свете вечного возвращения: мы увидим собрание музыкантов, настраивающих свои инструменты каждый на свой лад. Вот скрипач то ослабляет струны, то натягивает их так, что они со звоном рвутся, и при этом он все время водит смычком - то по струнам, то по спинке стула, на котором сидит его сосед. Так же ведут себя остальные музыканты и дирижер, которого особенно-то никто не замечает, также беспорядочно размахивает руками, с шумом вырывая и комкая листы из нотной тетради. Может ли из какофонии этого оркестра родиться музыка? Несомненно, это возможно: вот вдруг возникает гармония двух инструментов, вот трех и, может быть, что и весь оркестр зазвучит как одно целое, это возможно. Из хаоса возникнет порядок, симулякры, как говорит Делёз, симулируют То же самое и Подобное: идеи и вещи. Всё значение, которое мы стремимся извлечь из этого примера, состоит в том, что гармония явного смысла вечного возвращения не так дорога, не так ценна, как гармония тайного смысла: зачем беречь то, что и так надежнее самого надежного, что и так пребудет во веки вечные: пропустив один концерт, я попаду на другой, пропустив один взгляд, я встречу следующий; пренебрегши одним чувством, я всегда найду то же самое или подобное. Это очень прочный, но вялый мир, это не уникальный мир, для которого мой приход случаен в той мере, в какой случайно все то, что может быть повторено. И совсем иначе со случайной гармонией, возникшей вдруг из какофонии хаоса: если эта гармония все же возникла я буду беречь ее, пока хватит сил — я не пропущу концерта, не отвернусь под пристальным взглядом, сохраню чувство. И хотя гармония здесь возникает случайным для меня образом, сама эта гармония в силу своей неповторимости уже не случайна, дорога мне. По сути, космос при всей своей внешней аподиктичности гуманитарно намного более случаен, чем хаос. Хаос это в чистом виде человеческое место, родина человека, и антропология хаоса состоит в описание человеческой нужды, в необходимости подвига и в отсутствии у него алиби1.
Кроме того, можем ли мы феноменологически быть уверены в том, что художник, строя здание своего искусства, опирается на модель порядка - не является ли порядок, наоборот, результатом, а не основанием? Вспомним ахматовскую строку: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи». Мы не знаем, поэт не говорит, но не достаточно ли уже и этого намека, чтобы прервать гул космологического оптимизма, делающим случайный каждый мой шаг от первого до последнего?
Итак, если порядок не является онтологическим основанием для хаоса, если у нас есть некоторые основания полагать, что всё обстоит прямо противоположным образом, то можем ли мы довериться «пифагорейской» стратегии понимания искусства. Не обманщик ли Пифагор? Не Прометей ли он, владеющей вечной тайной и обманывающий Зевса? Не скрытая ли это битва хтонического чудовища, ласкового с людьми, и прекрасного владыки богов и людей? Почему бы и нет? По крайней мере, мы не должны упустить из виду еще одну стратегию понимания искусства, кроме тех четырех, что были упомянуты Гадамером. Следующий по мере упоминания, но никак не по старшинству, путь искусства - это кража, с которой впервые мы встречаемся в мифе о Прометее.
Прометей «Прометей, смешав землю с водой, вылепил людей и дал им тайно от Зевса огонь, скрыв его в полом стебле тростника» - сообщает Апполодор1. По разным свидетельствам сам Прометей или через своего сына создает людей; он дает людям только огонь или же огонь и ремесла, что делает людей способными противостоять случайным прихотям Зевса. Прометей не участвовал в титаномахии, не встал на путь физического сопротивления, заранее обреченного на провал, если помнить о зевсовых перунах и преданности сторуких олимпийцам. Прометей противопоставляет себя Зевсу не космогонически, а антропологически: только на этом поле его кавказское поражение является победой, как побеждает тот, кому сочувствуют, а не тот, кто обрекает на муки. Только на этом поле огонь и ремесла - не случайная деталь и крохи вселенского пирога, а величайшие трофеи. Сила Прометея в том, что он старше Зевса, это значит, что он знает будущее: он был в те времена, когда Зевса не было, значит может жить и тогда, когда Зевса не будет. Он для Зевса - сам страшная тайна, раскрыть которую, значит, проиграть, а отвернуться - погибнуть.