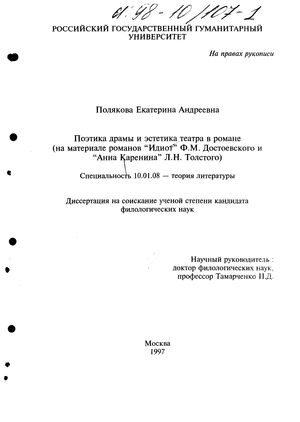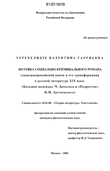Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Роман и драма: теоретические аспекты изучения 7
1. Проблема действия в эпике и драме 8
2. Изображенное событие и точка зрения наблюдателя в романе и драме. Западноевропейская теория романа. 18
3. Роман и драма в русском литературоведении 36
4. Проблема театра и театральности в романе 58
Глава II. Поэтика драматургических жанров и внесценическая позиция героя в романе Ф.М. Достоевского "Идиот" 70
1. Поэтика драмы в романе "Идиот" 71
2. Эстетика театра в романе "Идиот" 102
а) Тема театра 103
б) Тип шута и его сюжетные функции 110
в) Драматургические параллели к сюжету 114
г) Театральность художественного мира и фантастичность действительности 121
3. Роман о "прекрасном человеке/'. Проблема точки зрения и природа комического в романе "Идиот"; 133
Глава III. Проблема театральности в сюжете и повествовании в романе Л.H. Толстого "Анна Каренина" 161
1. Параллелизм двух сюжетных линий и их взаимосвязь. Слово повествователя и слово персонажа 169
2. Тема лжи и тема театра в романе 188
а) Правда и ложь в поведении персонажей: статика характера и динамика точки зрения 188
б) Театр как предмет изображения и театральная стихия в жизни 206
3. Точка зрения персонажа и театральное пространство у Толстого и Достоевского 218
Заключение 233
Примечания 236
- Изображенное событие и точка зрения наблюдателя в романе и драме. Западноевропейская теория романа.
- Проблема театра и театральности в романе
- Тип шута и его сюжетные функции
- Параллелизм двух сюжетных линий и их взаимосвязь. Слово повествователя и слово персонажа
Введение к работе
Изучение особенностей романа как жанра является одной из самых интересных и спорных областей современной теории литературы. Сама природа этого "антижанра", законом которого является постоянная изменчивость, такова, что позволяет применять разнообразные методы анализа, дает простор самым разным интерпретациям.
Сопоставление с другими жанрами нередко оказывается чрезвычайно продуктивным для выявления специфики романа. История его изучения показывает, что большинство исследователей идет по пути сближения романа с разными литературными родами и жанрами: роман сопоставляется либо с эпопеей, либо, в пределах эпического рода, с драмой и, реже, с лирикой. Таким образом делаются попытки проследить пути формирования и закономерности преобразования романа, определить его разновидности. В этом смысле важным этапом в изучении романа стали работы М.М. Бахтина, выявившего не только его истоки, но и черты, выделяющие роман из всех других жанров и составляющие его специфику.
Сближение романа с эпосом и драмой связано с его важными конструктивными особенностями и в то же время позволяет установить некоторую классификацию. В частности, вошедший в научный обиход термин "роман-эпопея"1, постепенно обрел статус обозначения жанровой разновидности романа XIX-XX веков2. Другая тенденция в развитии романа, проявившаяся в частности в романах Ф.М. Достоевского, обозначилась в его сближении с драмой. Здесь используются понятия "роман-трагедия", введенное Вяч. Ивановым3, и "роман-драма", разработанное В. Днепровым4.
Целью настоящего исследования является изучение некоторых особенностей поэтики романа, проявляющихся в его сближении с драмой. Многие важнейшие аспекты этой проблемы все еще остаются малоизученными. Жанровая соотнесенность романа с драмой как одна из сущностных особенностей его поэтики до сих пор не подвергалась тщательному и всестороннему анализу. Между тем, ориентация на драму и театр как особую реальность является одной из важнейших тенденций в
5 развитии романа, который, по выражению Бахтина, постоянно находится "в процессе самоопределения", "вечно ищущий, вечно исследующий себя самого и пересматривающий все свои сложившиеся формы жанр"5.
В связи с этим можно выделить несколько основных задач исследования. Это, прежде всего, анализ функционирования элементов поэтики драмы в романе, их значения для его художественного целого. В свою очередь, вопрос о воздействии на сюжет и композицию романа поэтики драмы ставит проблему его взаимодействия с эстетическим феноменом театра. Таким образом, эстетика театра, ориентация на театральную реальность в романе также подлежат изучению.
В настоящей работе представлена попытка анализа этих тенденций в романе на примере двух классических произведений жанра — романов "Идиот" Ф.М. Достоевского и "Анна Каренина" Л.Н. Толстого.
Само сопоставление двух великих романистов, творивших в одно время, и создавших разные образцы одного и того же жанра, давно стало традицией в исследовательской литературе. Начиная с книги Д. Мережковского "Толстой и Достоевский", противопоставление сделалось наиболее удобной формой анализа особенностей творчества обоих писателей, а затем и характерных черт русского романа6.
Сравнительный анализ романов "Идиот" и "Анна Каренина" также имеет устойчивую традицию. Г.А. Бялый указывает на тематическую и композиционную близость обоих произведений7, хронологически близких друг другу и вызвавших живой интерес и во многом схожие перекрестные отклики обоих писателей8. Кроме того, особенно большое значение драматических элементов в обоих произведениях делает такой анализ действительно плодотворным. "Идиот" признан одним из самых сценических романов Достоевского9. Драматизм же "Анны Карениной" позволил некоторым исследователям утверждать, что здесь Толстой ближе всего подошел к творческой манере Достоевского10. Именно этот роман получил жанровое определение "романа-трагедии"1'.
Анализ важнейших особенностей романа, таким образом, будет произведен на материале произведений традиционно признанных классическими образцами своего жанра, показателями тенденций в его
развитии. "Романы Толстого и Достоевского столь значительны прежде всего потому, что они открывают новую эпоху не только в развитии одного жанра — романа, но и искусства слова вообще", — пишет в своем исследовании В.В. Кожинов12. Специфика присутствия драмы в романах Толстого и Достоевского, таким образом, может быть признана не только особенностью конкретных произведений, но и более общей ориентацией жанра, что, в свою очередь, позволит применить полученные результаты анализа к другим его образцам. В этом отношении нас интересовало не противопоставление двух великих романистов, но, скорее, то, в чем проявились общие для них жанровые черты: прежде всего, движение романа в сторону драмы, но и отталкивание от нее, особое отношение к театральной реальности, а также значение этих процессов для художественного целого романа.
Драма как элемент поэтики и театр как особая художественная реальность являются в равной степени актуальными как для Достоевского, так и для Толстого, хотя и находят в художественном мире их романов разное воплощение. Общие особенности поэтики, как и принципиальные различия этих важнейших разновидностей жанра, позволяют, на наш взгляд, верно оценить значение драмы и театра в романе.
Изложенные задачи исследования определяют структуру работы. В первой главе будет дан анализ основных направлений в изучении поэтики романа на пути его сближения с драмой и в меньшей степени изученной проблемы интерпретации романом театра как особой реальности. Вторая и третья главы будут посвящены анализу романов "Идиот" и "Анна Каренина" в описанных выше аспектах. В заключении мы подведем итоги выявленных нами тенденций влияния, оказываемого драмой и театром на поэтику романа, сопоставим полученные результаты анализа романов Достоевского и Толстого.
Изображенное событие и точка зрения наблюдателя в романе и драме. Западноевропейская теория романа.
В начале XX века вопрос о повествовательной технике, свойственной различным литературным родам и жанрам выходит на первый план. Внимание исследователей все более сосредотачивается на способах изображения событий и персонажей. Особенности повествования в романе в их противопоставленности изобразительной технике драмы привлекли внимание испанского философа X. Ортеги-и-Гассета47. Его "Мысли о романе" представляют собой, на наш взгляд, важный этап развития концепции жанра романа в интересующем нас аспекте. "Проследив эволюцию романа с момента его возникновения, — пишет Ортега-и-Гассет, — убеждаешься: жанр постепенно переходит от повествования, которое только указывало, намекало на что-то, к представлению во плоти... Императив романа — присутствие. Не говорите мне, каков персонаж, — я должен увидеть его воочию"48. Эти слова показывают, что внимание испанского философа сосредоточено уже не на взаимоотношениях мира и индивида, не на мировоззренческом аспекте романа, а прежде всего на писательской технике, на способе изображения событий. Это-то и дает ему возможность противопоставить повествование о героях и событиях и их "представление", чистое присутствие, то есть по сути дела конструктивные принципы эпоса и драмы.
Однако в чем же заключается "представление", "присутствие" героев в романе? Отзыв о "Дон-Кихоте" еще более убеждает нас в тенденции сблизить поэтику романа с драмой: "Сервантес дарит нам чистое присутствие персонажей. Мы слышим живую речь, видим впечатляющие жесты... Двигатель искусства — чудесная жажда видеть"49. "Автор должен поступать как художник-импрессионист", не рассказывать о своих героях, а показывать их50.
И все же, вопреки утверждению о необходимости показа, жеста, присутствия и представления, Ортега-и-Гассет вовсе не склонен сближать роман и драму. Речь идет о принципиально ином "показе". "Стремление характеризовать героя, — говорит он, — есть главная ошибка романиста"51. Самое главное в романе не события, не сюжет, а сами герои, их характеры. "Драматический интерес — только психологическая характеристика романа"52. Это минимум, правда, необходимый, но представляющий собой лишь механическую основу, каркас. Вслед за немецкой философской эстетикой Ортега-и-Гассет утверждает, что "роман — медлительный жанр"53, его суть в создании атмосферы, в изображении характеров: "не сюжеты, а герои, не действия, а лица" — такова формула романа54 и такова же реализация противостояния созерцания и действия, то есть романа и драмы.
Итак, согласно Ортеге-и-Гассету, "драматический интерес не несет в романе никакой эстетической ценности, он вызван чисто механической потребностью"55, он является тем стержнем, на который автор нанизывает свои психологические наблюдения и описания, "...действие, сюжет не субстанция романа", а его чисто механическая основа, внешний каркас"56. Пример Пруста убеждает, однако, что одно созерцание и психологический анализ не могут составить роман. Созерцание должно совершаться во времени, то есть развернутое действие необходимо. И все же драматизм исполняет чисто служебную роль по отношению к замыслу автора, в центре которого оказываются характеры действующих лиц.
Однако в чем же в таком случае заключается принцип показа, непосредственного видения, которое отличает хороший роман? Речь идет не о представлении героев в действии, а о психологически верных зарисовках, о постепенном раскрытии характера героя. Свою мысль Ортега-и-Гассет раскрывает на примере романов Достоевского, которого характеризует как "великого преобразователя техники романа, крупнейшего новатора романной формы". "Сгущение действия во времени и пространстве" в романах Достоевского способствует созданию напряженности "внутри романного тела". Но новаторство Достоевского не в этом, это лишь внешняя черта, не исключающая на более глубоком уровне "неторопливости, присущей этому жанру"57. Виртуозность Достоевского заключается в способах описания персонажей, то есть в том, что превращает роман в описательный жанр. Однако описание не должно быть дано непосредственно. Здесь Ортега-и-Гассет касается самой сути романного сюжета: механизма разворачивания характера героя. "Важно видеть механизм скрытой игры, которую ведет Достоевский с читателем. Незрелый ум решит, пожалуй, что Достоевский характеризует каждого из героев. В самом деле, когда автор кого-либо представляет.., мы пребываем в полной уверенности, что нам дали достаточно полный перечень его характерных черт. Но стоит этому же герою начать действовать: говорить, совершать поступки — и мы в замешательстве. Поведение персонажа не укладывается в рамки, заданные мнимой характеристикой автора"58.
Итак, хотя прямо об этом нигде не сказано, но очевидно, что, с точки зрения Ортеги-и-Гассета, в романе присутствуют два сюжета: внешний, поверхностный и он же собственно драматический, и внутренний, психологический сюжет развертывания характера героя, носящий сугубо описательный характер. Несмотря на то, что этот последний, главный, сюжет охарактеризован как "показ", очевидна его недраматическая сущность. Речь идет об авторской стратегии, заключающейся в стремлении "сбить читателя со следа"59. На этом глубинном уровне поэтики романа вопрос о драматизме как таковом не ставится, и роман оказывается в самой своей основе резко противопоставленным драме. И все же в концепции Ортеги-и-Гассета предметом внимания при разговоре о драматических элементах в романе становится сама техника повествования60, способ подачи фактов, будь то события или, что в данном случае оказалось более существенно, характеры действующих лиц.
В двадцатые-тридцатые годы XX века вопрос о повествовательной технике в романе был поднят западными литературоведами, представителями так называемой "новой критики". Значение этого направления в истории литературоведения является предметом отдельного исследования61. Однако в работах, посвященных этому вопросу уделяется, на наш взгляд, недостаточно внимания значению поднятого представителями "новой критики" вопроса о повествовательной технике для проблемы жанрового взаимодействия романа и драмы. Между тем, важность поставленных ими задач: изучение отдельного произведения в его специфике, внимание к позиции повествователя, наконец, постановка проблемы точки зрения (point of view)62 и в ее свете конкретный анализ классических образцов прозы — все это дало возможность по-новому взглянуть на природу романа и, в особенности, на драматургические элементы в романе, оценить значение драмы для его поэтики.
Проблема театра и театральности в романе
Вопрос о позиции повествователя имеет еще один очень важном аспекте, до сих пор лишь вскользь упомянутый: это проблема саморефлексии героев. Этот вопрос также связан с проблемой точки зрения. Однако, отмечая, что героям Достоевского дана проницательность ничуть не ниже авторской, Днепров затрагивает этот вопрос в его новом качестве. "Благодаря этой сверхпроницательности героев, казалось бы, отдаленные друг от друга действия оказываются общением", отмечает он193. Рефлективности героев отведена, таким образом, особая функция в общем "большом диалоге".
В своей работе "Роман и стиль" А.В. Михайлов указывает на то, что роман прежде всего рефлектирующий жанр, он стремится к преодолению своей собственной "литературности", к переходу своих границ, к "прорыву" в жизнь194. В романах Достоевского рефлективность, подчеркнутая литературность, по наблюдению Днепрова, непосредственно соотнесена с драматизмом195.
Это связь драматизма и рефлексивности, на первый взгляд, совсем не очевидна. Здесь связующим звеном может оказаться сама тема театра в романе. В частности, для Достоевского, безусловно, был важен не только принцип драмы, но и вполне отрефлексированный мотив театра. Причем этот мотив театра и театральности в его романах почти всегда связан и с рефлексивностью самих его героев. "Достоевский постоянно вскрывает во многих своих героях присущий им элемент актерства, — пишет Н.О.Чирков в книге "О стиле Достоевского". — Они постоянно играют какую-нибудь роль, и трудно определить, что в этом актерстве является навязанным извне, что является необходимой самозащитой, что — потребностью в игре и что, наконец, сознательно разыгрываемой ролью"196. Вопрос о точке зрения, таким образом, ставится не только как вопрос о взгляде на события, но и как вопрос о видении себя, своей роли, сцены как таковой, то есть как проблема, с одной стороны, рефлексивности персонажа и, с другой — "литературности" повествования.
В свете проблемы рефлексии в романе особую актуальность приобретает рассмотренная выше проблема пространства и, в частности, драматургического пространства и "театрального хронотопа". Восприятие героями мира как театрального, с одной стороны, и реальность драматического пространства в романе — с другой, ставят вопрос о сущностном отношении художественного целого романа к миру театра как эстетическому феномену. В применении к таким авторам, как Толстой и романе. Между тем, для нашей проблемы театрального как эстетического феномена в романе важнее третье выделенное здесь значение. В этом смысле, отмечается в статье о театральности, "понятие содержит нечто мистическое, слишком общее, даже идеалистическое", оно слишком расплывчато и позволяет установить лишь некоторый исторически сложившийся ассоциативный ряд, связанных с ним представлений204.
Прежде всего очевидно, что речь идет о пространственное и визуальности, о зрелищности как таковой, что имеет непосредственное отношение к способу обрисовки событий. Р. Барт определяет театральность как "театр минус текст", как "насыщенность знаков и впечатлений", возникающих лишь на основании драматургического текста, но невместимых в него, а лишь подразумеваемых им205. "Все, что является специфически театральным.., не содержится в диалоге", — утверждает А. Арто206. Однако следует учесть и другое значение театральной аффектации. Определяя понятие театральности, В.Е. Хализев отмечает его двусторонность: "Это, во-первых, театральность самораскрытия (то есть собственно зрелищность — Е.П.), и, во-вторых, театральность его самоизменения". Последняя форма театральности "связана с тем, что человек преображает себя и демонстрирует окружающим совсем не то, что являет собой на самом деле. Таковы игровая экцентрика, шутовство, клоунада, стихия обмана". Ссылаясь на Бахтина, Хализев утверждает, что "интонационно-жестовыи гротеск наряду с патетикой являет собой исторически первичную разновидность театрального действования"207. Следовательно, речь идет о некотором модусе поведения, о перенесении сценического за пределы театрального пространства, об "актерствовании во внехудожественной реальности"208 или, говоря словами Бахтина, о "театральном хронотопе" вне театра.
Итак, театральное — это сама экспрессия, это движение слова, "визуализированное удвоение субъекта высказывания (персонаж/актер) и результатов высказывания, искусственность представления"209. В этом смысле понятие театральности оказывается гораздо шире, чем жанровая характеристика словесного вида искусства. Оно является результатом эстетического обобщения самого феномена театра, его взаимоотношений с внетеатральной реальностью. Его специфика обнаруживается при оценке его с энциклопедическом словаре, — рассчитана на массовый эффект, потенциально звучна, полноголоса, то есть исполнена театральности..." Театральность же собственно заключается в следующих специфических драматических условностях: "театр и драма нуждаются в ситуациях, где герой высказывается перед публикой.., а также в театрализующей гиперболе", в повышенной зрелищности, "неправдоподобной" насыщенности и стремительности действия (сжатость событий, вместимых в одной сцене, внезапность сюжетных поворотов, повышенная наглядность душевных движений героев). Все это дает право говорить о повышенной неестественности театрального способа изображения действительности. "В 19-20 вв. стремление искусства к жизнеподобию и натуральности, отозвавшись преобладанием романа и снижением роли драмы...", тем самым подтвердило, что восприятие театрального феномена тяготеет к оценке его как неестественного201.
Определение театральности в Театральной энциклопедии строится на разграничении разных значений, вкладываемых в этот термин. Под театральностью могут пониматься специфические средства выразительности, органично присущие сценическому представлению, особенности манеры драматурга, но также "театральностью называют пристрастие режиссера и актеров к обнажению сценической условности представления, нарочитому подчеркиванию используемых в театре игровых и постановочных приемов, сознательный отказ от создания на сцене иллюзии подлинной действительности"202. Это последнее значение, вкладываемое в понятие театральности связано с отсутствием резкой отгороженности сцены от зрителя.
Тип шута и его сюжетные функции
Тип шута мы находим уже в самых ранних произведениях Достоевского — это и герой рассказа "Ползунков", и Ежевикин, и отчасти сам Фома Опискин из "Села Степанчикова". Особенно тщательно разрабатывался образ "добровольного шута" в поздних романах Достоевского: в "Бесах" это Лебядкин и Лямшин, в "Братьях Карамазовых" — Снегирев и сам Федор Павлович Карамазов36. Очень важен этот тип героя и для художественного мира романа "Идиот". Здесь два таких героя: Лебедев и Фердыщенко, причем последний является как бы упрощенным вариантом первого, они имеют примерно одни и те же функции.
Образ Лебедева Достоевский считал своей большой удачей. "Лебедев — гениальная фигура. И предан, и плачет, и молится, и надувает Князя, и смеется над ним", — писал Достоевский в набросках к "Идиоту" (9, 252-253). Некоторые исследователи усматривают в образе Лебедева комическое отражение самого Мышкина, он — его единомышленик, но в комическом воплощении37. Действительно, в уста Лебедева автор вкладывает мысли, близкие не только его главному герою, но и ему самому ("Глубокие замечания Лебедева", — читаем в черновиках (9, 253)). Однако комизм этого персонажа не следует, на наш взгляд, считать чем-то поверхностным, внешним, способом завуалировать ту или иную мысль автора.
Лебедев — персонаж, сопутствующий главному герою на протяжении всего романа и играющий в нем важную роль. Он появляется в самом начале, и именно от него мы узнаем о многих прошедших и предстоящих событиях. Между тем, это, действительно, шут. Его манеры, его поведение, его кривляние направлены на то, чтобы смешить публику. Вот одно из описаний: "Он сел на край стула, с гримасами, с улыбками, со смеющимися и выглядывающими глазками" (8, 404-405). "Что он все кривляется?" — спрашивает Лизавета Прокофьевна, глядя на Лебедева "извивавшегося около стульев" (8, 202). В этом отношении интересна первая сцена второй части романа, где Лебедев нарочно "жмется и кривляется потому только, что предчувствуя его (князя — Е.П.) вопросы, не знает, как на них ответить, и выгадывает время" (8, 161). То, что Лебедев "надувает Князя", составляет как бы стержень их отношений, однако, в нем есть и увлечение, плутовство здесь соединяется с искренностью и глубиной. "Ну, вот вам, одному только вам, объявляю истину, потому что вы проницаете человека: и слово, и дело, и ложь, и правда — все у меня вместе, и совершенно искренно. Правда и дело состоят у меня в истинном раскаянии, верьте, вот поклянусь, а слова и ложь состоят в адской (и всегда присущей) мысли, как бы и тут уловить человека, как бы и чрез слезы раскаяния выиграть! Ей-богу, так!" (8, 259) Самое это признание вполне подтверждает мысль Лебедева — он и тут пытается "уловить" князя. Линия поведения остается неизменной: "Лебедев закривлялся и закоробился... опять закривлялся, начал хихикать, потирал руки..." (8, 259). "Вы в решительное ремесло обратили..." — замечает ему на это князь.
Это "ремесло" шута, воспринимаемое как добровольная обязанность, принадлежит в романе также Фердыщенко. С самого начала этот персонаж характеризуется как "сальный шут", которого почему-то принимает у себя Настасья Филипповна (8, 39). "Князь узнал потом, что этот господин как будто по обязанности взял на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью, но у него как-то никогда не выходило ... отчего он искренно скорбел, но задачу свою все-таки не покидал" (8, 116). У него все выходило "грубо и преднамеренно выделано, но так уж принято было, что Фердыщенку позволялось играть роль шута" (8, 117).
Заметим, что кривляние и шутовство, составляющие самую суть образов этих персонажей, трактуются в ярко выраженном сценическом ключе. В сцене из второй части Лебедев совершенно очевидно ведет себя как актер на сцене: "...посреди комнаты стоял сам господин Лебедев, спиной к входившему князю... и, бия себя в грудь, горько ораторствовал на какую-то тему" (8, 159). "Лебедев оглянулся и, увидев князя, стоял некоторое время как бы пораженный громом" (8, 160). "...крикнул Лебедев и невольно оглянулся на публику" (8, 162). "Лебедев... согнувшись в три погибели, стал заглядывать в письмо чрез плечо Птицына, с видом человека, опасающегося, что ему сейчас дадут за это колотушку" (8, 139). Так, фигуре Лебедева приданы сценические черты, его поведение описывается постоянно со сценической точки зрения, то есть именно как положение на сцене, как поза. (Ср.: "Лебедев бегал вслед за князем взад и вперед, стараясь ступать с ним в ногу" (8, 376)). В свою очередь, именно местонахождение Фердыщенко (в кругу "приличных" гостей) оказывается его характеристикой: "Ну, можно ли меня, такого Фердыщенка, с таким утонченным джентельменом, как Афанасий Иванович, рядом посадить? Поневоле остается одно толкование: для того и сажают, что это вообразить невозможно" (8, 117).
Таким образом, очевидная сценичность этих образов проецирует их на драматургических шутов. Амплуа шута — это дурак, которому одному позволяется говорить правду38, "...у всех остроумие, а у меня нет остроумия, — говорит Фердыщенко. — В вознаграждение я и выпросил позволение говорить правду, так как всем известно, что правду говорят только те, у кого нет остроумия" (8, 117)39. Добровольный шут вполне сознательно играет свою роль. Осознание своего сценического амплуа становится частью самой этой роли.
Однако важность роли шутов не сводится к одной только сценической функции. Им отводится значительное место в кульминационных сценах романа. Рассмотрим с этой точки зрения сцену вечера у Настасьи Филипповны с момента появления князя. Действие здесь нарастает двумя скачками. Первое повышение напряжения связано с идеей "пети-жё", которая ведет к отказу Настасьи Филипповны Гане, второе — с неожиданным предложением князя, сделанным им Настасье Филипповне. Оба эти ключевые момента связаны с Фердыщенко, им организованы. Идея "пети-жё" принадлежит ему, он-то и затевает всю игру, конец которой служит развязкой отношений Гани и Настасьи Филипповны (то есть развязкой всей первой части). Что же касается второй части этого эпизода, то именно Фердыщенко "переключает" всеобщее внимание на князя: "...взгляните-ка на князя!" — говорит он Настасье Филипповне (8, 138). Дело приобретает новый оборот, развязка превращается в завязку нового действия.
Разумеется, Фердыщенко служит в обоих случаях лишь средством, при помощи которого действию дается новый толчок, в движение приводятся новые сценические механизмы. Но именно такова роль шута у Достоевского: он дает толчок развитию сюжета40. В другой сцене — у Иволгиных — Фердыщенко также помогает развитию действия при появлении генерала: "Фердыщенко подхватил генерала и подвел его ... Фердыщенко быстро подставил ему сзади стул" (8, 91). Таким образом, новому обороту дела, в данном случае комическому, шутовскому, способствует именно шут — Фердыщенко. Минута всеобщего смущения является для него апофеозом: "Хохотал по-прежнему один только Фердыщенко" (8, 94).
Подобно Фердыщенко ведет себя и Лебедев. При выходке Лизаветы Прокофьевны, которая вызывает всеобщее изумление, даже испуг, он один находит высшее удовлетворение: "лицо Лебедева изображало последнюю степень восторга" (8, 237). Лебедев вообще еще в большей степени, чем Фердыщенко, оказывается непосредственной причиной нескольких вполне сценичных эпизодов и поворотов событий. Именно Лебедев устраивает переезд князя в Павловск: ""Целое столкновение и целый новый оборот дела" представился вдруг воображению его" (8, 169). Это он "поправлял статью" Келлера о князе и своим признанием: "низок, низок!" — доводит Лизавету Прокофьевну до новой экцентрической выходки (8, 241-242), он же виновник новой "чудовищности" — подстроенному как раз в конце сцены с "сыном Павлищева" появлению "коляски": он "тем только и участвовал, что дал своевременно знать известной особе, что собралась ... такая компания и что присутствуют некоторые лица" (8, 260). Лебедев, таким образом, организует сценическое пространство ("целое столкновение" действующих лиц в Павловске), сценическое время ("дал своевременно знать известной особе", то есть вызвал совпадение двух событий, составляющих кульминационную сцену), сценический конфликт ("целый новый оборот дела").
Параллелизм двух сюжетных линий и их взаимосвязь. Слово повествователя и слово персонажа
В этой части нашего анализа мы коротко остановимся на каждой из частей романа и попробуем увидеть ту "точную графику" двух сходящихся и расходящихся линий, о которой говорил сам Толстой27. Именно она, как уже было сказано, представляет собой внешнее выражение общей сюжетной ситуации и поможет выявить ее суть. Сквозь динамику сюжета необходимо увидеть то равновесие сил, взаимодополнительность которых формально выразилось в двойном сюжете. Только после этого можно будет попытаться понять, каким образом ситуация перерастает в конфликт, то есть увидеть содержательный аспект ситуации. Кроме того, в этой части анализа следует проследить некоторые тендеции в изменении характера повествования (речь повествователя, типы диалогов) при переходе от одной линии к другой.
Первая часть романа начинается, вопреки первоначальному замыслу не со сцены у княгини Тверской (20; 3, 14-20), но с рассуждения рассказчика о счастливых и несчастных семьях и с повествования о семье Облонских и несчастье, ее постигшем, то есть вполне эпически. Сцена в гостиной — драматургическая завязка линии Анны — отнесена к началу второй части.
Пробуждение Степана Аркадьича сопровождается воспоминанием о короткой сцене с женой, которая произошла накануне. Затем развернутая авторская характеристика, перемежающаяся мыслями Степана Аркадьича, подводит к сцене его разговора со слугой. Как показано в статье М.М. Гиршмана и В.В. Федорова, этот разговор с Матвеем является двуплановым. "Функционально Матвей раздваивается на лицо изображаемое и изображающее"28. Матвей "изображает" свою сцену с извозчиком: "Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу" ... "сказал он видимо приготовленную фразу" (18, 6). Но дело не только в этом. Между слугой и барином помимо внешнего диалога, выраженного репликами, идет внутренний монолог сказанных "про себя" и подразумеваемых слов и мыслей: "Это зачем ты говоришь? Разве ты не знаешь?" (Степан Аркадьич), "Попробовать хотите" (Матвей), "сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда", "смеясь только глазами" (18, 7).
Следующая сцена с детьми также несет в себе момент двуплановости, который раскрывается в комментариях повествователя. Дочка Степана Аркадьича не верит притворно легкому тону отца. "И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел" (18, 11). Смысл двупланового диалога, как и внутренние переживания героев не составляют тайны для читателя благодаря всеведению рассказчика. Хотя внешняя точка зрения не менее важна для описания этих чувств. В данном случае это точка зрения ребенка, в сцене с Матвеем это точка зрения самого Степана Аркадьича: "Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание" (18, 6-7).
Затем следует сцена Степана Аркадьича с женой, где внешние реплики также перемежаются внутренними. Эта сцена заканчивается внутренней репликой Облонского, сетующего на тривиальность выкриков своей жены и всей ситуации: "И как тривиально она кричала, — говорил он сам себе, вспоминая ее крик и слова: подлец и любовница. — ...Ужасно тривиально, ужасно" (18, 15). Оценкой Степана Аркадьича подчеркнут сценический и, действительно, очень стандартный характер его сцены с женой. Так, нейтральная линия сюжета вводится Толстым как подчеркнуто тривиальная. Сам Степан Аркадьич охарактеризован как самый обычный человек. И уже здесь Толстой сразу же использует разные планы изображения путем двупланового диалога, комментариев повествователя и при помощи "вынесения" точки зрения одного из героев вовне ситуации: тривиальность сцены, с точки зрения Степана Аркадьича, собственная его роль: "Если б они знали, — думал он, с значительным видом, склонив голову при слушании доклада, — каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель!" (18, 18). Но в отличие от персонажей Достоевского, это знание о своей роли не поднимает героя над действительностью, сочетание разных ролей кажется ему только забавным.
В следующей сцене в присутствии появляется Левин. В отличие от Анны, приезд которой уже намечен в сцене Степана Аркадьича и Матвея, Левин появляется совершенно неожиданно. О любви Левина, его характере и намерениях говорится от автора, причем с нескрываемой симпатией. Внешность Кити в сцене на катке также дана как будто от автора, но, в сущности, с точки зрения Левина (гл.9). В сцене обеда Левина и Облонского ситуация окончательно проясняется, читатель узнает о Вронском. Сцена в гостиной у Щербацких, включающая отказ Кити Левину и знакомство Левина и Вронского, может быть признана кульминацией линии Левина в первой части и одновременно ее развязкой. История Кити и Левина кажется завершенной. О чувствах Кити и ее отношении к Вронскому мы узнаем от автора, и точно так же, благодаря комментарию повествователя, становится известно реальное положение вещей в отношении предполагаемого сватовства Вронского. Если Кити, ее мать и Левин заблуждаются на этот счет, то читатель выведен из заблуждения (гл.16). После этого в действие вступает Анна.