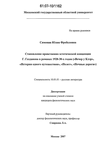Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Пишущий субъект .
Раздел первый. Философия труда и литературное творчество: подходы к проблеме 13
Раздел второй. Проблема метаавтора 27
Раздел третий. Статус писателя в 1920-30-е годы 48
Раздел четвертый. Метаавтор и раздвоение 76
Глава вторая. Литературное производство .
Раздел первый. «Овеществление» и «дематериализация» в постсимволизме 97
Раздел второй. «Дематериализация»: литературная практика 128
Раздел третий. Метафикция и интермедиальность 158
Раздел четвертый. Андрей Платонов: труд как ошибка? 166
Глава третья. Производственный роман .
Раздел первый. Понятие техномагического романа 177
Раздел второй. Роман о производстве и роман о литературе 224
Заключение 245
Библиография
- Философия труда и литературное творчество: подходы к проблеме
- Проблема метаавтора
- «Овеществление» и «дематериализация» в постсимволизме
- Понятие техномагического романа
Введение к работе
Вопрос о писательском труде кажется достаточно своевременным для нынешней ситуации не только в отечественном литературоведении. Это связано с постепенным отказом от постмодерна в современной гуманитарной мысли. «Игровое» понимание литературы в постмодернизме выразилось в гипертрофированном развитии читательской позиции, в переносе внимания с производства литературы на ее потребление.
Роль читателя-со-автора в рецептивной эстетике и в деконструкции состоит в том, что реципиент как бы «разыгрывает» произведение, вчитывая в него любую интерпретацию. Говоря о концептуализации писательского труда, мы берем в расчет не отдельные тексты, которые позволяют интерпретировать себя как угодно, но и референтную реальность, тем самым, возвращая теории литературы утраченный онтологизм.
Актуальность исследования определяется, в первую очередь, отсутствием в современной отечественной науке специальных работ, посвященных писательскому труду. По существу, не выявлен объем рассматриваемого понятия, не эксплицировано своеобразие этой деятельности. Не учитываются подходы к теории литературного труда, намеченные в работах западных ученых в рамках постструктурализма (Ю.Кристева, Р. Барт, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез и Ф. Гваттари), социологии искусства (П. Бурдье), медиальных исследований (Ф. Киллер, М. МакЛюэн) и др.
Понятию писательского труда когда-то посвящались монографии1. О словесном искусстве как о производстве перестали писать с тех пор, как исторический материализм прекратил свое существование в качестве доминанты литературоведения. В результате теория литературного труда в России на уровне современной науки осталась неразработанной . Нахождение
См. разноплановые работы как писателей, так и литературоведов с характерными названиями: О писательском труде. Сборник статей и выступлений советских писателей. М.,1953; Русские писатели о литературном труде. Сборник. В 4-х томах. Л., 1955; Фадеев А.А. О литературном труде. М., 1961; Цейтлин А.Г. Труд писателя. М., 1962; Ленобль Г.М. Писатель и его работа. М., 1966; Вязовский Г.А. Проблемы специфических закономерностей творческого труда писателя. Киев, 1967 и др. 2 В текстологии «творческая история» литературного произведения — «восстановление процесса создания произведения с тем, чтобы судить о труде писателя не только по конечному результату, но и
инварианта творческого труда в литературе связано с обращением к ее истории. Феномен креативности манифестируется неодинаково в каждую конкретную эпоху, то теряя, то вновь обретая свою актуальность для теоретико-литературной парадигмы.
Современная парадигма переключается в толковании литературы с игровых структур на креативно-трудовую3. В новейших коммуникативных исследованиях предложено тройственное понимание природы дискурса, согласно которому его триадическая форма содержит в качестве одной из конституэнт креативную структуру — авторскую форму экзистенции, инобытие авторского «я» в знаковом материале текста4. Таким образом, писательский труд может быть понят как целенаправленная деятельность по выражению «эйдоса», «сверхтекста». Статус креативности в такой концепции не подвергается оценке, заведомо выступая как божественный и сверхценный.
Одним из показателей перефокусйровки современной литературной теории с рецептивной модели на производственную стала популярность социологической теории литературы Пьера Бурдье. «Литературное поле» в учении Пьера Бурдье определяется как место вложения символического капитала, где каждый инвестор борется с другим за «признание» себя в качестве облеченного «властью»5. Однако такой литератор не производит литературные ценности, подчиняясь «эффекту поля», который творит этот
по самому его ходу, и таким образом уточнить социально-психологические предпосылки и биографические условия творческой работы, полнее понять конкретно-исторический смысл произведения в его завершенной форме» (Гришунин А.Л. Творческая история. Краткая литературная энциклопедия. Т. 7. М., 1972. С.430). Изучение творческой истории было выдвинуто и обосновано Н.К.Пиксановым как особая искусствоведческая и, в частности, литературоведческая дисциплина, которая «раскрывает телеологию художественных приемов и внутренний смысл произведения методом телеогенетическим и на материале разновременных текстов-редакций» (Пиксанов Н.К. Творческая история «Горя от ума». М., 1971. С.75).
3 Симптоматично, что понятие «производство» реабилируется для научного дискурса в словаре
эстетических терминов Метцлера за 2003 год: Zill R. Produktion/Poiesis. In: Asthetische Grundbegriffe.
Worterbuch in sieben Banden. Band 5. Stuttgart, 2003. S. 40-86.
4 Тюпа В.И. К новой парадигме литературоведческого знания. // Эстетический дискурс. Семио-
эстетические исследования в области литературы. Межвузовский сборник научн. трудов.
Новосибирск, 1991. С. 4-17.
5 Bourdieu P. Das literarische Feld II Streifziige durch das literarische Feld. ЇЛзегз. von S.Egger. Konstanz,
1997. S. 33-147.
символический труд за писателя. Для Бурдье единицей литературного поля является не текст, а писатель, живой «агент» социальной практики6.
Если Бурдье занимала структура объективных отношений между позициями в поле литературного производства, то нас будет интересовать репрезентация этих «производственных» отношений и их концептуализация, главным образом, в литературных текстах. Вместо того чтобы изучать социологический субстрат литературы в виде института писательства, как это было у Бурдье, планируется сфокусировать внимание на философском и литературно-теоретическом осмыслении писательского труда.
Помимо социологизма, откликом на современный кризис семиотической модели литературы стали медиальные исследования, ориентированные не на символическую игру, а на сугубо техническую сторону трансляции текста. Развитые канадским ученым МакЛюэном теории техники и медиальности заново переосмысляются в работах Поля Вирилио, Фридриха Киттлера, Бориса Гройса, Юрия Мурашова и др. Как социологический интерес к фигуре писателя, так и обращение Medienstudien к материальным носителям знаков, сигнализируют о том, что семиотическая трактовка текста утрачивает в наши дни свою актуальность.
Кроме того, существует богатая традиция теоретического освоения категории писательского труда в русском формализме у В.Шкловского, Ю.Тынянова, Б.Эйхенбаума. Философия эстетического творчества глубоко изучена в работах М. Бахтина. Теория Бурдье напоминает о понятии «литературного быта» в концепциях русских формалистов и странным образом воссоздает социологию медиальных средств советского исследователя И. Иоффе, опубликовавшего книгу «Культура и стиль. Система и принципы социологии искусств» в 1927 г. Теории медиальных средств отсылают к проблеме воспроизводимости искусства, изучение которой зародилось в паратоталитарной эстетике 1930-х гг. у Вальтера Беньямина и Эрнста Юнгера.
6 Впрочем, литературное производство в системе Бурдье по-прежнему концептуализуется как симуляция: понятие «литературного поля» прекрасно иллюстрирует новелла А. Моруа «Карьера», в Которой предлагается жизнеописание писателя, который ничего не написал, но, постоянно «позиционируя» себя в соответствующих кругах, составил себе прочную литературную репутацию.
6 Неоисторизм основывается на идеях Михаила Бахтина. Строго говоря, едва ли
не единственным исходным ориентиром, который остается исследователю,
желающему построить модель литературного производства, остаются 1920-30-
е гг. - период, когда «работа» писателя, как в социальном, так и в философском
ее аспектах была в фокусе литературной теории.
Материал исследования включает как образцы русскоязычной метафикциональной литературы, так и контекстуально значимые произведения, в частности, производственный роман. Помимо художественной литературы, для исследования привлекаются литературно-критические работы эпохи постсимволизма. В соответствии с объектом исследования - писательским трудом, основным материалом диссертации служит т.н. метафикционаиьный роман - понятие, введенное в литературоведческий обиход в 1970 году Гассом (Gass) на материале новейшего американского романа. Гасс понимал под метафикциональным романом повествование, тематизирующее литературный труд; в дальнейшем его термин получил широкое применение в отношении других литературных эпох. В нашей работе анализируются такие романы, как «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Козлиная песнь», а также «Труды и дни Свистонова» К. Вагинова, «Дар» В. Набокова, «Вор» Л. Леонова, «К. и к.» М. Шагинян и др. Повесть «Котлован» А. Платонова рассматривается как образец философской концептуализации труда в литературе.
Второй пласт цитируемых художественных текстов - т.н. производственные романы, нацеленные на репрезентацию действующих механизмов и их операторов - рабочих. Рассматриваются «производственные романы» «Ведущая ось» В. Ильенкова, «Большой конвейер» Я. Ильина, «День второй» И. Эренбурга, «Время, вперед!» В. Катаева.
Основываясь на романах 1920-30-х гг., можно предварительно сформулировать следующий тезис: как отказ поддерживать институции (метароман), так и сотрудничество с ними (соцреалистический роман), сопровождается в литературных текстах абсолютизацией процесса
7 Об аналогах понятия «метафикция» в смежных областях гуманитарного знания см,: Waugh Р. Metafiction: the Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. London, 1984. P. 4.
производства. Если предметом метаромана становится создание литературы и литературного героя, то тема производственного романа - индустриальное производство, труд как необходимость. Этому тезису следует предпослать небольшую историческую справку: роман нового времени возникает как реакция на кризис церкви, потешаясь в случае Рабле над церковными структурами и подчеркивая безумие сакрального поведения в варианте, предложенном Сервантесом.
Еще в XIX веке Толстой и Достоевский негативно тематизируют в своих больших повествовательных формах церковные институции (см. хотя бы «Легенду о великом инквизиторе» и т.п.). После революции сакрализованное государство монополизирует заказ на труд, и литература отвечает на это метафикциональными текстами, которые противостоят такой монополии. Во время НЭПа происходит некоторое разделение власти над трудом, даются концессии западным промышленникам, разрешается частный капитал, которым государство продолжает манипулировать. На этой волне зарождается «Бизнес» конструктивистов. Но в этих же условиях возникает русский метароман. «Мы» Замятина, «Труды и дни Свистонова» Вагинова, «Дар» Набокова и другие многочисленные произведения постсимволистской эпохи, описывающие литературное производство, дополняют друг друга в изображении сбоя государственного заказа и/или автономного от государства и, шире, общества в целом обретения писателем своего статуса. Литература противостоит как огосударствлению литературного заказа, так и частному капиталу, выбирая третью позицию.
Хронологические рамки привлекаемого художественного материала-1920-30-е гг. - заданы исторической спецификой этой эпохи, когда «труд» становится основной категорией концептуализации творческого процесса. При этом специфика концептуализации труда в 1920-30-е гг. состоит в размывании границ понятия «труд», в распространении его на все области человеческой активности. Неслучайно в контексте нашей работы такие выражения, как «творческий труд», «креативный труд», «литературный труд», «писательский
труд» и т.д. часто функционируют как синонимы. Поскольку символистская театрализация поведения онтологизируется в 1920-е гг., художественные практики, в свою очередь, превращаются в способ бытия. Изоморфизм искусства и «жизни страны» отражается, в частности, в ситуации литературного технотопа, организуемого государством. Именно в эпоху тоталитаризма любое действие рассматривается как художественное высказывание, а художественное высказывание интерпретируется как производственный процесс. Кроме того, поскольку все силы государства в этот период брошены на развитие промышленности, все медиальные средства страны призваны изображать, в конечном итоге, одно: гипертрофированное производство. Именно поэтому выбранная эпоха кажется наиболее предпочтительной для анализа «креативного труда».
В качестве аппарата для анализа диахронических аспектов в концептуализации литературного труда нами выбрана концепция мегапериода, разработанная И.П.Смирновым. Не вдаваясь здесь в анализ сложных историко-логических взаимосвязей, которые вскрывает в своих работах Смирнов, будем использовать созданный им понятийный комплекс, в основном, для различения фаз внутри интересующей нас эпохи. Понятие «постсимволизм» было впервые введено в теоретический обиход в книге И. Смирнова «Художественный смысл
и эволюция поэтических систем» (1977) для исследования трансформации модернистских литературных практик первой трети XX века на основе различения между первичными и вторичными стилями культуры. К первичным стилям, придающим художественным знакам референциальный статус, оказываются отнесены романеск, ренессанс, классицизм, реализм, постсимволизм, а к вторичным, сообщающим фактической реальности черты текста, - готика, барокко, романтизм, символизм, постмодернизм. Русский постсимволизм (10-е - конец 30-х годов XX века) распадается в концепции Смирнова на две стадии развития, конституируемых базовой метонимической трансформацией, в случае авангарда переходящей в катахрезу (троп,
Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М., 1977.
обнаруживающий противоречие внутри целого): аналитическую (начиная с 1910-х гг.) и синтетическую (начиная с середины 1920-х гг.)9.
Обе фазы русского постсимволизма характеризуются повышенным интересом к производственному труду. Начало авангарда еще мифопоэтично и quasi-архаично - яркий пример тому творчество Хлебникова. Однако уже в конце первой фазы искусство часто рассматривается как производство. В 1920-х годах в Берлине издается альманах первой волны конструктивистов «Вещь» под редакцией Эренбурга, в Москве печатается «Леф», активны поэты «Пролеткульта», в Твери выходит книга «Конструктивизм» Алексея Гана. Последний, изъясняясь на письме исключительно лозунгами, сформулировал важную для современников оппозицию: «от спекулятивной деятельности искусства к социально-осмысленному художественному труду».
Знаком перехода ко второй стадии постсимволизма становится сборник Литературного Центра Конструктивистов 1926 года «Госплан литературы», который вводит в художественный обиход категорию проекта: в одноименной сборнику статье теоретик конструктивизма Корнелий Зелинский пишет о «врастании Госплана в художественную литературу». В сборнике ЛЦК 1929 года под названием «Бизнес» Зелинский пишет, что бизнес «не только вид отношения к жизни при господстве частной собственности, но и вообще более совершенный технически, по своему эффекту, вид труда современного культурного человека...», что «является... высшим видом труда...»10. Конъюнктивная логика синтетической стадии, не только способствует «врастанию» таких разноплановых категорий, как проект, бизнес и искусство друг в друга, но и выдвигает на первый план процесс текстопорождения, который оказывается зависим от социально-экономических отношений.
Деринг-Смирнова И.Р., Смирнов И.П. Очерки по исторической типологии культуры. Salzburg, 1982. Специальное различение формаций постсимволизма не входит в задачи диссертации. Последние дискуссии на тему о границах постсимволизма см. в сборнике: Постсимволизм как явление культуры. Вып. 4. Материалы международной научной конференции. Москва, 5-7 марта 2003 г. / Отв. ред. И.А.Есаулов. М., 2003.
Зелинский К. Конструктивизм и социализм // Бизнес. М., 1929. С. 52.
ю Целью данного исследования является реконструкция представлений о
литературном труде в прозе 1920-30-х гг. На основе принятой в диссертации
историко-типологической модели постсимволизма, мы формулируем принципы
концептуализации литературного труда в русском формализме и в других
научных и художественных субпарадигмах того времени, а также
обрисовываем некоторые модификации писательского труда, репрезентативные
для общекультурного пространства того времени.
Для достижения перечисленных выше целей в работе решаются
следующие задачи:
1) реконструировать объем понятия «писательский труд» в
постсимволизме и разграничить его терминологические дефиниции,
бытовавшие в философии и литературоведении;
2) поставить проблему «метаавтора»;
3) проанализировать писательский статус, как он понимался в
рассматриваемую эпоху;
исследовать взаимоотношения субъекта литературного творчества с интермедиальным пространством;
сопоставить тенденции «овеществления» и «дематериализации» в теории и литературе 1920-30-х гг.;
установить связь между медиальным романом, сконцентрированным на материальных носителях знаков, и метафикциональным романом, описывающим писательский труд;
7) выявить типологические и интертекстуальные связи между т.н.
«производственным романом» и романом о писательском труде;
8) предложить сюжетную схему романа о (литературном) производстве;
9) определить функции изображения литературного и других видов
творческого труда в литературе.
Из этих задач вытекает структура работы: текст состоит из введения, трех частей, заключения и библиографии.
11 В первой главе диссертации исследуется субъект творческого труда, то
есть проблема автора литературного произведения. В первом разделе главы дан
краткий очерк философии труда и формулируется следущий вывод:
обратившись к философии труда, легко заметить, что разноприродность
литературного и физического труда представлялась многим мыслителям
иллюзорной. Во втором разделе главы («Проблема метаавтора») мы вводим
понятие «метаавтора» (под ним подразумевается автор, ведущий диалог с
собственным Другим), опираясь на теорию автора у М. Бахтина,
рассматривавшего творческий акт как диалог двух сознаний. При анализе
творческого Я для нас было важно отмежеваться от (пост)структуралистского
отрицания интенциональности у пишущего субъекта, от теорий «смерти
автора» у Р. Барта, «исчезновения автора» у М. Фуко и т.п. Здесь же идет речь о
метафикциональном романе, структура которого отражает многоступенчатость
креативного субъекта. В третьем разделе уточняется статус писателя в 1920-30-
е гг. Прояснению конституирующей роли «метаавтора» в постсимволизме
посвящен четвертый раздел «Метаавтор и раздвоение». Ситуация, когда
моделирующая функция литературы оказывается направлена на себя и на
автора, связана с кризисом репрезентации, наступившим в результате
эскалации средств технической воспроизводимости художественного
произведения.
Философия труда и литературное творчество: подходы к проблеме
Обратившись к философии труда, можно заметить, что разноприродность литературной и физической работы представлялась многим мыслителям иллюзорной, и всякое производство интерпретировалось символически еще до включения его продуктов в обмен.
В тоталитарной культуре снимаются оппозиции труд/жизнь, труд/любовь (Ж. Батай), труд/война (Э. Юнгер), труд/искусство (Г. Башляр), причем в сфере искусства не действует также дихотомия труд/праздность11. Даже, казалось бы, столь очевидная антитеза как труд/игра распадается в 1930-е гг. «Игровое» толкование заводских будней демонстрируют сталинские производственные комедии («Девушка с характером» (К. Юдин, 1939), «Светлый путь» (Г. Александров, 1940)) и «колхозные мюзиклы» («Трактористы» (И. Пырьев, 1939) и др). Что касается литературы, то репрезентация стахановского труда строится в производственных романах на игровой форме «agon», что в переводе с греческого означает «соревнование». С другой стороны, сам литературный медиум утрачивает способность к «игровому» подражанию реальности, к мимикрии: в ход идет «литература факта», тексты о производстве рассматриваются как подсобный материал индустриализации.
Распад антитез, соединение противоположных понятий вообще характерно для этой эпохи - скажем, в теории Хейзинга (1938), игра не имеет оппозиции, являясь «абсолютно независимым» понятием. Споря с Энгельсом, считавшим труд активностью, сформировавшей человека, Хейзинга обнаруживает источник человеческой культуры в игре, определяя ее следующим образом: «игра - это свободная активность или занятие, производимое в фиксированных пространственно-временных рамках, согласно правилам, принятым по желанию, но ненарушимым, имеющая цель в себе самой и сопровождающаяся ощущениями расслабления, радости и сознания того, что происходящее «отличается» от «обыденной жизни»» .
Тоталитарный теоретик игры, французский радикальный философ Роже Кайуа выделяет четыре типа игры - agon, alea, mimicry и ilinx14, указывая при этом на экономическое своеобразие этих практик: в ходе игры собственность подлежит обмену, но никаких товаров не производится15. Так игра обособляется от творческого процесса (и производства), на «выходе» которого появляется некое художественное произведение. Таким образом, литературное творчество, с точки зрения Кайуа, является не игрой, а трудом. Игра, как замечает Кайуа, является чистой «тратой»: расходованием времени, энергии или денег. Попытка определить игру как «неполную» разновидность производства, то есть «через труд», характерна для тоталитаризма. В своих поздних работах Жорж Батай рассматривает игру как практику, наследующую принципам труда, который, первоначально, и сформировал человека: «Истинно человеческая игра была прежде трудом, трудом, из которого возникла игра»16.
Традиция рассматривать литературу как мастерство, отсылает к авторефлексивным ведическим текстам и к античной философии. В античности писательский труд часто понимался как «низший» вид труда. Платон различает три вида «пойезиса»17: процесс созидания как таковой, изготовление конечного продукта и, наконец, собственно поэтическое творчество. Соответственно, в диалогах «Государство» и «Тимей» рассматриваются три типа продуцентов: Бог, творящий идеи, ремесленник, изготовляющий вещи, и поэт, который способен создавать лишь копии копий. Три значения пойезиса, описанные Платоном, подхватывает Аристотель в «Никомаховой этике», выделяя три типа человеческой деятельности: теория, пойезис (творчество) и праксис (поступок)18. Если теория обращается к вечному, то пойезис и праксис апеллируют к изменчивым явлениям; искусство при этом относится к пойезису. В «Поэтике» Аристотель концептуализует словесное искусство как «подражание делам» и строит классификацию трех родов литературы в зависимости от действующего субъекта: автор-действователь, герой-действователь и отсутствующий автор.
К ритуальной трактовке литературного производства отсылает ведическое понимание словесного творчества по аналогии с трудовыми телодвижениями. В статье «Древнеиндийская поэтика и ее индоевропейские истоки» Т.Я.Елизаренкова и В.Н.Топоров предполагают, что древнеиндийский грамматик был одним из жрецов, контролировавших правильность речевой части ритуала. В соответствии с этой точкой зрения, вырисовывается двухфазовая структура творческого акта: «Как и жрец, грамматик расчленяет, разъединяет первоначальное единство (текст, ср. жертва), устанавливает природу разъятых частей через установление системы отождествлений ... синтезирует новое единство, уже артикулированное, осознанное и выраженное в слове...»19. «Слово, песню, поэтический текст «куют», «строят», «вытесывают», «плетут», «ткут», «лепят» (элементарные термины производства). Так создается некий первично организованный поэтический текст из непоэтического. Чтобы оживить поэтическую силу, увеличить ее, спасти поэтический текст от шаблонизации, нужно его «перековать», «переплести», «перестроить» и даже «разломать», «разорвать» ..., «рассечь» ... Оказывается, что «поэтическое» возникает и функционирует в некоем пространстве, определяемом такими крайними состояниями (операциями), как создание и разрушение. Только в этом пространстве субстанциональные элементы в полной степени приобретают способность репрезентировать нечто отличное от себя и делать нечто явным» .
В Иенских лекциях 1805-1806 гг. (Георг Вильгельм Фридрих) Гегель вводит в описание труда понятие Другого - субъекта, которому следует признать трудовую собственность данного субъекта, исключив из нее себя. Категория «труда», с первых же страниц определяется как деятельность по формированию Я, основанная на явлении памяти: «Сперва оно (Я) владеет именами, оно должно удерживать их в своей ночи как подчиненных, которые повинуются ему; и так оно должно не только вообще созерцать имена, но созерцать их в своем пространстве как прочный порядок... Это есть, собственно, память... Упражнение памяти есть... первый труд пробудившегося духа как духа.
Проблема метаавтора
В этом разделе мы вводим понятие «метаавтора», опираясь на теорию автора у М.М. Бахтина, рассматривавшего творческий акт как диалог двух сознаний. Отечественные литературоведы неоднократно пытались классифицировать разные уровни «авторства» художественного произведения, начиная с В. В. Виноградова, различавшего между реальным писателем и «образом автора». «Дуальность» фигуры автора подчеркивалась М.М. Бахтиным в разные периоды его творчества. В статье «Формы времени и хронотопа в романе» Бахтин вводит категорию «биографического автора»: «Автора мы находим вне произведения как живущего своею биографической жизнью человека, но мы встречаемся с ним как с творцом и в самом произведении»61. В начале 1970-х гг. Бахтин рассуждает о понятиях первичного и вторичного автора: «Первичный (не созданный) и вторичный автор (образ автора, созданный первичным автором)... Первичный автор не может быть образом: он ускользает из всякого образного представления. Когда мы стараемся образно представить себе первичного автора, то мы сами создаем его образ, то есть сами становимся первичным автором этого образа... Первичный автор облекается в молчание.. .».
В 1970-е гг. литературовед Б. О. Корман предложил разделять два понятия: субъект речи и субъект сознания. Если субъект речи - это тот, кому приписан текст, то субъект сознания - тот, чье сознание выражено в тексте. В соответствии с этим следует отделять «биографического» автора от собственно автора как «носителя концепции, выражением которой является отдельное произведение писателя или совокупность произведении» .
Теория литературы не случайно возвращалась вновь и вновь к анализу авторской «дуальности». Само понятие авторства подразумевает создание оппозиций первичного/вторичного, творящего/творимого: автор противостоит и предсуществует тексту, читателю и герою. Учитывая сложность и многосоставность творческого Я, ведущего диалог с собственным Другим, введем понятие «метаавтор» - композитный автор, включающий в себя более чем одну креативную инстанцию, одна из которых может контролировать другую.
Метаавтор появляется в литературе тогда, когда возникает категория собственного Другого. Можно сказать, что только тогда и становятся автором, когда находят в себе нечто интимно, внутренне противостоящее Я, что требует голоса. Автор берестяных грамот не проблематизировал собственное Другое, потому что обращал свое письмо к конкретному читателю, но когда адресат сообщения становится неопределенным, умножаясь до бесконечности, начинает двоиться сама фигура автора - так возникает потребность в метаавторе: Боге, музе, вдохновении, заказчике, меценате. Таким образом, автор художественного текста является по сути со-автором, обретая свой литературный дар лишь в диалоге с овнешненным собственным Другим -отсюда попытки сравнивать авторство и шизофрению с ее расщеплением Я, авторство и явление шаманизма, когда небесные духи диктуют магу его поведение. Яркий пример делегирования авторства другому лицу - Сократ в диалогах Платона и хор в античных трагедиях. В XX веке поиск соавтора становится авторефлексивным и тем самым умножается: автор пролиферирует, находя себя то в политократе, то в крестьянине, то в рабочем. Характерно, что в метароманах 1920-30-х гг. действует, как правило, не один автор, а несколько разнонаправленных творческих сил, воплощенных в системе авторов-персонажей.
Пролиферация в конечном итоге диалектически устремляет автора к нулю, и в постмодернизме практически одновременно и независимо друг от друга возникают тезисы о «смерти» (Барт) и «исчезновении» (Фуко) автора. Возвращаясь к идее литературы как труда, имеющего конкретный объект, мы восстанавливаем и категорию субъекта для литературной теории.
В советской литературной теории 1920-30-х гг. наиболее близко к пониманию того, что фигура автора подверглась мультиплицированию, подошел Михаил Бахтин, открыв в героях полифонического романа авторов, чьи тексты самосознания комбинирует писатель. Подлинной реальностью для Бахтина обладает лишь процесс порождения романных текстов, героями которых являются авторы других романов64. Отношения автора с героями, которые в свою очередь являются авторами, иерархичны. Как пишет Н.Д.Тамарченко, равноправие двух участников эстетического события у Бахтина относительно, поскольку их роли различаются в связи с категориями пространства и времени иерархически: авторская активность «внежизненна» и принадлежит к другим «ценностным планам» бытия, нежели активность героев65.
Характерно, что ступеньки авторской иерархии связывают отношения, занимающие промежуточное положение между «божественной любовью» и «страшным судом». «Обожествление» автора, стоящего на вершине пирамиды, было характерно для теоретических экспликаций Бахтина (ср. философию С. Булгакова). Неоднократно замечено, что хотя акт «авторства» представляется одной из главных категорий в концепции Бахтина66, проблема автора в его сочинениях относится к числу наименее проясненных по причине неоднозначности терминологии и возможности ее интерпретации, в частности, в теологическом ключе67. Александр Михайлович в диссертации «М.М.Бахтин и теология дискурса» пытается критически разобраться в «божественной» подоплеке бахтинского дискурса68. В книге Катерины Кларк и Майкла Холквиста «Михаил Бахтин» «круг Бахтина» описывается как союз людей, не различающих занятия философией и религиозную деятельность: по свидетельству Л. Пумпянского, собираясь вместе, они пытались переформулировать современную им мысль в терминах русской ортодоксальной традиции. Бахтин предстает в этом освещении в виде ортодоксального церковника, не устающего бороться с ересью и за религиозную деятельность попадающего в тюрьму69.
«Овеществление» и «дематериализация» в постсимволизме
По мере развития техники, труд либо движется вспять - к первобытному магическому действию, которое творит ex nihilo , либо поднимается в сферы Духа: Льюис Мэмфорд предполагал в 1934 г., что техника развивается по направлению к Духу (его технический синоним - «энергия»), и что тридцатые следует, собственно, отнести к третьему этапу технического развития человеческой цивилизации - неотехнике, - периоду, когда деструктивные импульсы машины по отношению к человеку стали менее заметны, нежели на второй фазе палеотехники : «Темный мир слепой машины, мир угольщика был на пути к исчезновению: тепло, электричество и даже материя служили манифестациями энергии, и по мере того, как анализ материи продвигался все глубже, привычные «твердые тела» подвергались истончению».
«Дематериализация», или, выражаясь словами Мэмфорда, «истончение» производственных процессов начинает тематизироваться в искусстве двадцатого века на самых разных семантических уровнях, проявляясь, в частности, в негации эстетического материала и кризисе репрезентации . В книге Кандинского «О духовном в искусстве» (1905-1910) терминологизируются понятия, чьим референтом оказываются имматериальные величины. Развитие искусства Кандинский понимает как прогресс художественных средств от материального к абстрактному, и этот процесс экстраполируется автором на все виды художественной деятельности.
Генетический механизм, запустивший в ход систему постсимволизма, базировался на отождествлении означающей стороны знаков и их референтных смыслов , при этом подсистема «исторического авангарда» включала в себя семантические преобразования по типу катахрезы: «Катахреза: минимальный объем термина - соединение взаимо исключающих лексических (морфологических) значений. Максимальный объем термина - любая конструкция, основанная на противоречии»243.
В постсимволизме были допустимы не только «овеществленный» прием, функционирующий как материал, но и его противоположность - так сказать, прием immaterial. Мой тезис состоит в том, что в авангарде 1920-х годов основой смыслопорождения часто служило диалектическое превращение материального в имматериальное и наборот. Не только катахрестическая семантика 1920-х гг. позволяет сопоставить два таких термина, как овеществление и имматериализация: само понятие «вещь», имевшее широкое хождение в авангарде, с антропологической точки зрения имеет негативный характер, маркируя совершившийся переход из живого в неживое. Идея того, что «овеществление» живого означает его отрицание, отсылает к символистской философии С. Булгакова: «Вещи, так называемая мертвая природа, т. е. все то, в чем по-видимому отсутствуют признаки жизни, есть только минус жизни, отрицательный ее коэффициент, но вне этого, хотя и отрицательного, однако выраженного в терминах жизни, определения они превращаются в призраки, улетучиваются» .
«Имматериальное» в постсимволизме имело глубинные предпосылки. С развитием техники изменяется масштаб объектов, которыми оперирует человек в акте производства. Астрофизика, фонология, микротехника вводят в поле зрения мыслителя начала XX века то, что ранее считалось либо недоступным, либо «потусторонним». Рудименты «человеческой» точки зрения сохраняются в гуманитарных исследованиях того времени, когда деятели искусства говорят об имматериальном и дематериализации, интерпретируя процессы, так называемый «материал» которых перешел на другой, более высокотехничный уровень. Трансформация материала и инструментов его обработки, характеризуемая современниками как «дематериализация», в наши дни вновь обретает терминологический статус. «Нейтрализация материала» служит общим признаком индустриальной культуры, подвергавшейся деформации (развитие больших мощностей на меньшем пространстве) по мере технического усовершенствования «гаджетов»245. В предельной форме процесс дематериализации нашел отражение в проекте революции, которая преследовала цель уничтожения государства и политической власти246. Можно предположить, что после того, как в культуру были инсталлированы «имматериалии», авангардистская катахреза, примененная на фактическом универсуме, стала одной из экспликаций процесса дематериализации в постсимволизме. Следует отметить, что одна и та же имматериалия выполняет неодинаковые функции в системах символизма, постсимволизма и постмодернизма247 на разных фазах их существования. Нами выбраны для анализа литературный дискурс и металитературные высказывания 1920-х годов. Русский формализм и его тезис «искусство как прием» можно расценивать как частный случай глобального процесса дематериализации культурного пространства. Авангардисты 1920-х гг. были так радикальны, что отрицали себя и парадигму, их сформировавшую, предвосхищая постмодернизм, - иначе формализм не был бы реципирован людьми 60-х гг248.
Термин «имматериалии» был введен Жаном-Франсуа Лиотаром при сравнительном анализе культуры модерна и постмодерна249. Лиотар указывает на то, что хотя «имматериальное» не является научным понятием, его терминологическое употребление оправдано постольку, поскольку мы говорим о материале труда и нуждаемся в оппозициях, которые бы объясняли эволюцию материала: материальное/духовное, материальное/логистическое (в компьютере), материя/форма (в культуре), материя/энергия (в классической физике), материя/состояние (в современной физике) и т.д.
Понятие техномагического романа
Известно, что философия первой половины XX века, как правило, отрицательно оценивает так называемый «технический прогресс». Мартин Хайдеггер характеризует технику как «опасность» (die Gefahr), грозящую будущему человечества. Вальтер Беньямин и Эрнст Юнгер пишут о технике как о главной предпосылке военных действий. В качестве примера «техноскепсиса» можно привести теорию Льюиса Мэмфорда. Он предлагает концепцию техники как искусственных органов, которые субституируют homo sapiens и ведут, таким образом, к постепенному его разрушению. Индустриализация начинается с унификации духовной сферы и завершается физическим уничтожением человека. Согласно Мэмфорду, первый период развития самодвижущихся искусственных органов - эотехника - начинается в X в. с изобретения механических часов. Унифицированный отсчет времени становится первой моделью массового производства. Второе по значимости изобретение эотехники - печатный станок - вводит однообразие в человеческую мысль. А следующая фаза машинной цивилизации -палеотехника, которая вступает в силу со второй половины XVIII в., -провоцирует разрушение среды, деградацию рабочего и притупление человеческих чувств.
В какой-то мере позицию философского техноскепсиса можно считать универсальной, а не присущей только лишь 1920-30-м гг. «Третирование инструмента и того, кто им оперирует, доносительство на обоих, заушательская критика в адрес технической цивилизации, - вот одно из самых любимых дел философствования», - считает Игорь Смирнов491. Кажется, что в отрицании техники философский дискурс не столько заботится об охране Духа, сколько пытается избежать конкуренции со стороны техносферы, из пределов которой Дух способен вещать, самоотчуждаясь. Для Эриха Фромма техническая ориентация человека маркирована негативно, составляя так называемый «характер некрофила». В «Анатомии человеческой деструктивности» (1974) Фромм заявляет, что человеку как таковому деструктивность не свойственна, и выделяет три типа первобытных обществ, из которых только третий тип проповедует насилие и практикует каннибализм. Для Фромма биологическую программу человека выражают, скорее, проповеди Будды и Христа, однако именно общество третьего типа оказывается, как он считает, у истоков современной цивилизации, которая с самого начала стала развиваться в ошибочном направлении.
Какие же признаки отличают отрицание техники в постсимволизме? Прежде всего, техноскепсис компенсирует невероятный технический прогресс этой эпохи, который изумляет современников до такой степени, что работающие механизмы получают сверхъестественную, архаическую интерпретацию (ср. «Рабочий» Эрнста Юнгера). Мощь, которой обладают новые машины, требует особого отношения к себе, которое не укладывается в инструкции по безопасности, а принуждает сознание к регрессу на более раннюю стадию развития, когда система запретов функционировала как система табу .
В современной философии распространена точка зрения на примитивный комплекс табу/мана493 как на базис всего механизма человеческой культуры. Борис Гройс в книге «Под подозрением»494 рассматривает эффект полисемии, производимый маной, и выводит из этой семантической амбивалентности всю постструктуралистскую мысль, работающую с категорией «неустойчивого означающего»495 (le signifiant flottant), которую Клод Леви-Стросс ввел в культурологический обиход в «Предисловии к трудам Марселя Мосса».
В формировании трудовых отношений главную роль среди таких «неустойчивых означающих» играет мертвое тело, что отмечают как мыслители постсимволизма, так и принадлежащие современной нам научной парадигме. Игорь Смирнов утверждает, что «инструменты субституируют работающих с ними подобно тому, как мертвое замещает живое»496 и что «погружение в мертвое влечет за собой опутывание общества сетью табу, маркирующих, так сказать, гиблые действия»497. В постсимволизме «интимное», зачастую эротическое, отношение к орудиям труда, является знаком близких отношений работающего с миром мертвых: Фрейд в «Тотем и табу» выводит из амбивалентных чувств к покойнику предписания табу, представления о духах и первые теоретические построения; Жорж Батай в «Слезах Эроса» (Les Larmes d Eros, 1961) относит зарождение рабочих действий к периоду первых захоронений, когда человек и выразил свою обособленность от обезьяны, поведение которой возле мертвого соплеменника выражает безразличие.
В репрезентации работающих механизмов как сакральных и «сверхъественных» часто используется категория «магического». Так, разрабатывая свою концепцию техники и вводя понятие «первопроекта», П.Флоренский отмечает, что в основе органопроекции лежит магия:
«Магия... [ - ] искусство смещать границу тела против обычного ее места. ...Всякое воздействие воли на органы тела следует мыслить по типу магического воздействия. Взятие пищи рукою, поднесение ко рту, положение в рот, разжевывание, глотание, не говоря уже о переваривании пищи, выделении слюны, желудочных соков, усвоения пищи и дальнейшего ее обращения в теле - все эти действия магические и магическими называю их не в общем смысле таинственности или сложности их совершения, а в точном смысле явления силы воли, хотя местами и под-сознательной... Но наряду с этими органическими последствиями инстинкта, есть и другие, технические. Вместо прямого действия, в случае голода - вместо схватывания пищи, мы накопляем в себе мысль о действии... Мысленная проекция голода облекается в вещество, теперь уже во внетелесном пространстве, и таким образом воплощается в технические приспособления»498.
Исследователи эпохи символизма устанавливают эквивалентность между техникой и магией, минуя органику как посредническое звено (интранзитивность). Марсель Мосс в «Наброске общей теории магии» считает, солидаризируясь в этом с Хьюитом, который предоставил данные относительно племени воиворунг, что именно кланы магов играли ведущую роль в изготовлении и совершенствовании орудий труда. «Магический потенциал» мира духов, как считал Мосс, в действительности аналогичен понятию силы в механике. Магия и техника сходятся также в своей телеологии:
«Между ... магией и техникой существует не только внешнее сходство: существует также идентичность функций... Она /магия/ стремится к конкретному, в то время как религия - к абстрактному. Она работает в том же направлении, что и техника, промышленность, медицина, химия, механика и т.д. ... Магия является областью производства в буквальном смысле ex nihilo (из ничего); с помощью слов и жестов она делает то, что в технике достигается работой... Однако можно сказать, что это всегда техника, наиболее простая в осуществлении. Магия избегает усилий, ибо ей удается реальность подменять образами. ... Будучи техникой в самом ее инфантильном состоянии, магия является, возможно, самой древней формой техники»499.
Если техника является позднейшей формой магии, то к чему восходит магия? С точки зрения Мосса, магия питает себя социальностью, дистанцируясь от нее и аппроприируя ману, которая сосредоточена в общественных табу. Марсель Мосс указывает на то, что маг, как правило, ставит себя в исключительное положение по отношению к обществу, и зачастую его магические способности являются функцией от его асоциального положения. Если жрец публично оперирует сакральными понятиями, что даются религиозной общине лишь в форме откровения извне, то маг присваивает себе коллективные силы, якобы проявляющиеся в нем самостоятельно, и манипулирует ими тайно, в изоляции.