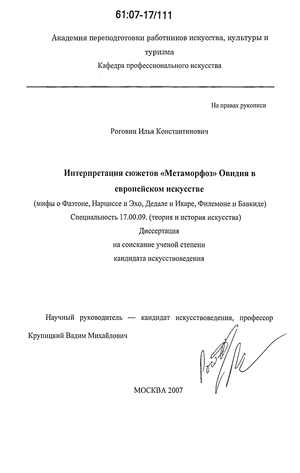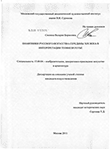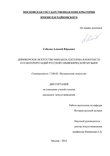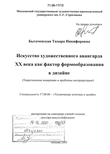Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Миф о Фаэтоне. Трагические и моралистические аспекты интерпретации сюжета в истории европейского искусства 19
Глава II. Нарцисс и Эхо. Самолюбование или саморефлексия . 61
Глава III. Икар - герой или ослушник, культурно-историческая трансформация образа 76
Глава IV. Филемон и Бавкида. Идиллия любви и ее гибель 96
Заключение и Выводы 120
Приложение 1 127
Приложение 2 134
Список использованной литературы 135
- Миф о Фаэтоне. Трагические и моралистические аспекты интерпретации сюжета в истории европейского искусства
- Нарцисс и Эхо. Самолюбование или саморефлексия
- Икар - герой или ослушник, культурно-историческая трансформация образа
- Филемон и Бавкида. Идиллия любви и ее гибель
Введение к работе
Проблема интерпретации классического наследия по сей день остается одной из актуальнейших в современном искусствоведении. Произведения классики с каждым прочтением открываются перед нами все новыми гранями, каждая эпоха отыскивает в них собственный смысл, исходя из своих внутренних потребностей и своего понимания, обусловленных закономерностями развития общества в целом и, в частности, ролью, которую играет в нем искусство. Каждое из произведений, которое становится объектом интерпретаций и реинтерпретаций, изначально укоренено в особой системе идей, представлений и эстетических предпочтений, характерных для той конкретной эпохи, в которую оно было создано. Характер взаимоотношения искусства более поздних исторических периодов с классическим наследием прошлого весьма сложен и многогранен, чреват самыми неожиданными конфликтами — ведь каждая эпоха открывает в классическом наследии свои горизонты. При заимствовании явлений классического искусства они, попадая в совершенно новый исторический и культурный контекст, обнаруживают иные, скрытые либо не акцентированные смыслы, выявляют новые потенции, которые часто, в силу объективных исторических причин, и не могли быть предусмотрены автором оригинала.
Для современного исследователя именно эти эволюционные трансформации классического произведения, обусловленные особенностями его интерпретации в различные исторические периоды, представляются наиболее интересными.
Особое место в проблеме интерпретации классики занимает античное наследие. Зачастую основываясь на мифологическом материале, оно является транслятором универсальных понятий и смыслов, лежащих в основе всякого мифа. Но если мы имеем дело с античным мифом, ключевым для европейского искусства с момента его возникновения и до наших дней, то необходимо постоянно иметь в виду, что «миф» всегда — предмет научной реконструкции, иногда весьма изощренной. В «химически» чистом виде он не существует, и мы всегда имеем дело с той или иной его интерпретацией. Некоторые из этих интерпретаций настолько авторитетны, что смысловое ядро мифа доходит до нас, сохраняя тот отпечаток, который дал ему великий художник (напр., мужественный и преданный своему отечеству Гектор и обидчивый, капризный Ахилл).
Овидий, наряду с Гомером, Еврипидом и Вергилием, — один из тех художников, которые более всего повлияли на то, каким образом миф воспринимался творцами позднеантичной и европейской культуры. «Метаморфозы» по влиятельности, пожалуй, превосходят даже такие общепризнанные шедевры, как «Илиада» и «Энеида». Искусство до сих пор широко использует сюжеты и образы, пришедшие в европейскую культуру через овидиевское наследие, создавая на их основе выдающиеся произведения современности (достаточно назвать серию работ Пабло Пикассо по «Метаморфозам»), Отметим, что искаженный до неузнаваемости Овидий присутствует и в нашей повседневной жизни так, что мы этого не замечаем: например, скульптура бельгийского мастера Оливье Стребеля «Похищение Европы» на площади Европы в Москве не имеет ничего общего с античными канонами искусства. Более того, она их радикально отрицает, но при этом является современной версией мифа, который вошел в культурный обиход человечества во многом благодаря «Метаморфозам» Овидия.
Проблема интерпретации как таковая в современной науке остается одной из самых востребованных и бурно обсуждаемых. В науке XX века сформировался ряд направлений и школ, занимающихся этой проблемой и предлагающих ряд часто взаимоисключающих ее решений. Особую актуальность она приобретает в наши дни. С наступлением эпохи постмодернизма, ставшего влиятельным течением как в искусстве, так и в
науке рубежа XX-XXI столетий, когда интерпретация фактически приравнивается к деконструкции текста и предполагает обнаружение скрытых смыслов, необязательно осознаваемых автором произведения, тексты в глазах современных читателей перестают нести в себе какое-либо однозначное, объективное значение, потенциал «открытий» реципиента в тексте не ограничивается, что рождает знаменитый тезис Ролана Барта о «смерти автора».
Однако наряду с этими тенденциями все больше звучат предупреждения об опасности гиперинтерпретации, о параноидальной интерпретации и так далее. Умберто Эко, много занимавшийся проблемами интерпретации, введший понятие «открытого произведения» (то есть открытого для дальнейших различных интерпретаций), пишет: «Я исследовал диалектику прав текста и интерпретатора и пришел к выводу, что в течение последних десятилетий интерпретаторы получили слишком много прав»1. Эти слова можно смело отнести не только к исследовательским интерпретациям или интерпретациям неискушенных читателей, но и к интерпретациям в искусстве.
Интерпретационные процессы современности настолько сложны, что, помимо очевидных трансформаций, которым подвергаются образцы классического искусства, существуют и такие неявные интерпретации, при которых апелляция к тому или иному произведению завуалирована, и обнаружить ее бывает далеко не просто. Нередко она остается тайной не только для воспринимающего новое произведение субъекта, но и для самого художника, а цитация осуществляется подсознательно, в таких случаях говорят о «неконтролируемом подтексте», «интертекстуальности на уровне бессознательного». Значительно возросшая в XX веке доступность произведений искусства и массовое образование, развитие средств массовой коммуникации и распространение массовой культуры привели к очень
1 Eco U. Interpretation and Overinterpretation. Umberto Eco with Richard Rorty, Jonatan Culler and Christine Brook-Rose. - Cambridge, 1996. цит. по: Широва И. А. Тураева 3. Я. Текст и интерпретация: взгляды, концепции, школы. СПб., 2005, С. 81 сильной цитируемости классических произведений. Искусство становится в значительной степени «интертекстуальным».
Так или иначе, классика, а особенно если в ее основе лежит миф, часто воплощает в себе основополагающие принципы миропорядка и продолжает быть актуальной во все времена. Из века в век она подвергается постоянной интерпретации в других произведениях, что накладывает определенный отпечаток и на ее непосредственное восприятие. В некоторых случаях интерпретирующее произведение затмевает собой оригинальное, как получилось с историей о Ромео и Джульетте, чью основу Шекспир заимствовал из «Метаморфоз» Овидия. На протяжении многих веков ее прототип, миф о Пираме и Тисбе, постоянно использовался различными искусствами (особенно живописью), однако в настоящее время история двух безвременно ушедших из жизни влюбленных, которым родительский запрет не давал возможности сочетаться браком, ассоциируется в глазах публики скорее с трагедией Шекспира.
Вследствие того, что овидиевское наследие на протяжении всей своей истории вдохновляло и продолжает вдохновлять европейское искусство, а также в силу актуализирующейся проблемы интерпретации, имеющей весьма неоднозначный характер, когда речь идет о влиянии первоисточника на интерпретирующее его произведение, рассмотрение характера интерпретаций даже нескольких сюжетов овидиевского эпоса представляется весьма актуальной.
Степень научной разработанности
Овидиевские сюжеты, избранные для анализа, до сих пор не были предметом комплексного рассмотрения при всей их очевидной востребованности искусством. В исследованиях произведений, основанных на некоторых из них, акцент на то, что сюжет был заимствован у Овидия, при анализе не делался — эти произведения не рассматривались как интерпретации. Кроме того, в российском
искусствознании проблематика влияния Овидия и его сюжетов на различные виды искусства (кроме литературы) практически не рассматривалась; зарубежные обзоры любого уровня обычно игнорируют русский материал.
Однако не только в отечественной, но и в мировой науке проблема интерпретаций в искусстве актуальна с точки зрения громадного накопленного искусствоведением материала, который все больше привлекает внимание исследователей, но, тем не менее, до сих пор в должной степени не систематизирован. Практическое же его освоение проводилось явно в недостаточной мере и шло лишь в наиболее общих направлениях.
Классическим трудом в области изучения античной рецепции в последнее время стала работа Михаэля фон Альбрехта «Рим: Зеркало Европы. Тексты и Темы»2. Лучшим из исследований творчества Овидия в целом на настоящий момент является подробный очерк о нем в книге «История римской литературы» того же автора. Среди работ, посвященных наследию Овидия как источнику для живописи и музыки, можно отметить диссертацию Франца Шмита фон Мюленфельса «Пирам и Тисба. Интерпретация некоторых образов Овидия в литературе, искусстве и Музыке»4. Культурологическим исследованием, посвященным вопросу интерпретации классической античности в самой широкой его постановке, является работа Г. С. Кнабе «Русская античность»5. В определенном смысле она послужила методологической основой настоящего исследования. Но если у Кнабе культурологический аспект доминирует над историческим, то в настоящей работе они уравновешены. В основном в искусствоведении преобладают исследования, посвященные рецепции Овидия в изящной словесности; в России они главным образом
2 М. von Albrecht. Rom: Spiegel Europas. Texte und Themen, Heidelberg 1988.
3 Михаэль фон Альбрехт. История римской литературы. Перевод с нем. яз. Т. 2. М., 2004.
4 Franz Shhmitt-von MUhlenfels. Pyramus und Thisbe. Rezeptionstypen eines Ovidischen Stoffes in
Literatur, Kunst und Musik. Heidelberg, 1972.
5 Кнабе Г. С. «Русская античность». М., 2000. затрагивают тему «Пушкин и Овидий»6, которая в работе не рассматривается.
Что касается теоретических разработок проблемы интерпретации художественных произведений через их воплощение в других художественных произведениях, то в настоящее время создана достаточная теоретическая база для исследований в этой области. История развития этого направления в науке начинается с появления герменевтики — гуманитарной науки, определяемой как теория интерпретации, как наука о понимании смысла и как искусство понимания, толкования. История герменевтики прослеживается от толкования произведений античности (классическая герменевтика) до наших времен. В средние века она применялась для толкования текстов священного писания. В середине XVII в. из вспомогательной дисциплины богословия она превращается в универсальный метод толкования текстов. С именем немецкого ученого Шлеермахера (1768 — 1834) связывают придание герменевтике научного статуса.
Дальнейшее развитие наук об интепретации шло в разных, иногда взаимоисключающих, направлениях. Назовем основные из них:
1. Интерпретация как дешифровка авторского смысла (Герменевтика).
2. Интерпретация как конструирование смысла читателем (Рецептивная эстетика).
3. Интерпретация как дешифровка текстового кода (Структурализм).
4. Интерпретация в свете постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистической концепции идей (постструктурализм, деконструктивизм).
Библиография вопроса весьма обширна; отметим лишь несколько последних работ: Формозов А. А. Пушкин и древности. - М., Языки русской культуры, 2000. гл. «Пушкин и легенда о гробнице Овидия». Шапир М. И. Пушкин и Овидий: новые материалы: (Из комментариев к „Евгению Онегину"), Elementa, 2000, vol. 4, N 4. P. 341-349.
5. Интерпретация как «диалектика прав» автора, читателя, текста (семиотические теории интерпретативного сотрудничества).
Перечисленные подходы в определенной степени созвучны основным направлениям, в которых интерпретировались рассматриваемые в работе сюжеты. Основное различие здесь состоит в неравнозначном понимании ключевых составляющих интерпретационного процесса, таких категорий, как Автор, Текст, Читатель (интерпретатор).
Первый из перечисленных подходов (герменевтический), развивая разработанное более ранними эпохами понятие герменевтики, исходит из идеи понимания, которое предполагает различную степень проникновения на уровень авторской интенции. Если в ранней герменевтике формулируется тезис об исходном, аутоэнтичном значении текста (Вильгельм Дильтей, 1833 — 1911), то в поздней (Мартин Хайдеггер, 1889 — 1986, Ханс Георг Гадамер, 1900 — 2002, Поль Рикёр, р. 1913, Эрик Дональд Хирш, р. 1928) текст рассматривается как многозначное образование, открытое новым смыслам. В процессе эволюции герменевтической традиции, таким образом, репродуктивно ориентированная методика интерпретации сменяется продуктивным истолкованием. Надо сказать, что современная герменевтика в основном занимается осмыслением сущности интерпретации с философских позиций, она является как бы исходной для всех дальнейших направлений, стоящих на более практических позициях в исследовании проблемы интерпретации7.
Миф о Фаэтоне. Трагические и моралистические аспекты интерпретации сюжета в истории европейского искусства
Ввиду того, что в работе рассматриваются интерпретации сюжетов, входящих в цикл «Метаморфоз», неразрывно с ним связанных и через него вошедших в европейский культурный оборот, вполне уместно дать краткий анализ этого грандиозного эпоса Овидия, нередко называемого мифологической энциклопедией. Кроме того, для лучшего понимания наследия, порожденного интерпретациями его сюжетов, необходимо оценить значение для европейской культуры как самого эпоса, так и его великого автора.
Публий Овидий Назон (43 г. до Р. Хр., Сульмон — 17 г. по Р. Хр., Томы) — один из крупнейших римских поэтов, однако, вероятно, не самый крупный и во всяком случае не самый влиятельный: он уступает не только Вергилию, монографию о котором один из филологов нашего времени назвал «Вергилий — отец Европы»1 , но и Горацию, который по количеству переводов на русский язык превосходит любого другого античного поэта20. Несмотря на высокую популярность, он не пользуется безоговорочным признанием — прежде всего филологов. Крупнейшее светило антиковедения в Германии рубежа XIX-XX веков Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорфф, очень проницательно сравнивая его с Ариосто, дает поэту чрезвычайно лестную характеристику (важную для наших дальнейших рассуждений), которую приведем с небольшими купюрами21: «Лишь одно бессмертное эпическое произведение возникло еще в эпоху
Августа, сопоставимое с Энеидой по своей эстетической ценности и не слишком сильно уступающее ей по влиянию на позднейший мир, — Метаморфозы Овидия. Меня всегда раздражает, когда это произведение порицают за риторичность. Не остался бесплодным тот факт, что Овидий декламировал у Порция Латрона, и Героиды можно воспринимать как суазории. Он придавал divisiones sententiae colores больше значения, чем нам угодно, однако риторика не владеет полновластно его элегическими стихотворениями... И Метаморфозы не более риторичны, чем это допустимо для нас, поскольку это принадлежность латинского эпоса, не чуждая и Вергилию... То, что он использовал ученые компендиумы и иногда блещет столь изысканной ученостью, то, что мы многого не понимаем, чрезвычайно затрудняет исследование источников. Но основное заключается в том, что оно не имеет решающего значения для оценки его искусства. Ведь ему принадлежит мысль связать интригующие сказания хронологической нитью, имеющей громадные преимущества по сравнению со старым, генеалогическим порядком, тем более что Овидий достаточно разумен, чтобы не бояться анахронизмов. Ему принадлежит выбор, композиция и сочетание, и Каллимах в Причинах не мог сделать это лучше. Ему полностью принадлежит стилизация, где само удовольствие своеобразно, когда мы знакомы с его образцами, как в отрывках, в которых он следует Вергилию, или когда он вновь выводит на сцену Медею, которая присутствовала уже в его Героидах и трагических опытах, — здесь сохранился если не Варрон23, то по крайней мере Аполлоний. Правда, по большей части мы слышим только его и обнаруживаем лишь один стиль, который мы в общем и целом должны охарактеризовать как эллинистический и лучше всего оценить в сравнении с помпейской настенной живописью. Это справедливо для эротических историй, для
Прокриды, Мирры, Библиды. Но и веселое, и плутовское не отсутствует: Мидас, ликийские лягушки, Местра. Однако он может вызвать и высокий пафос — Ниоба, Мелеагр, Цезарь — и сотворение мира во вступлении есть нечто, недоступное даже и для конгениального поэта, которого надо читать рядом с ним, — Ариосто, и, как доказывают и сейчас иллюстрации к его стихам в палаццо Фарнезе, Овидий — не просто подражатель греков, но полнокровный итальянец, который точно так же мог принадлежать эпохе высокого Ренессанса и зарождающегося барокко. Неоправданно то, что происходит с ним, как и с древними сказаниями, когда школа предлагает мальчикам его комический эпос (в том же смысле слова, что и Ариосто), как если бы он мог стоять рядом с Гомером, и затем отказывается от него тогда, когда он по своему праву встал бы рядом с Вергилием и дать в конечном итоге понятие об эллинистической обработке сказаний. Наука, однако, должна быть очень осторожна в использовании его стилизаций, если даже она вынуждена обращаться к каркасу его повествований для знакомства с эллинистической эпохой. Ведь этот поэт — звезда, обладающая собственным светом, которая никогда не померкнет».
Среди отечественных филологов, однако, господствуют совсем другие мнения. Приведем в качестве примера суждение знаменитого полиглота Ф. Е. Корша, одного из крупнейших русских филологов-классиков и востоковедов24: «Как известно, римская поэзия не может похвалиться гениальными представителями: есть представители довольно крупные, есть со значительным дарованием, как, например, Овидий, которого ingenium в самом деле поразителен, но это именно ingenium в том смысле, как его понимали римляне, это — своего рода изобретательность, которая проявляется в нахождении (inventio) известных мыслей и их выражении; это, конечно, необходимо для оратора, важно и для поэта, хотя, впрочем, inventiones оратора и поэта совершенно различны или, по крайней мере, далеко не совпадают друг с другом. Такая ораторская способность нахождения мыслей у римлян была сильно развита. Но что касается того, что мы называем поэзией в строгом смысле слова ... тот элемент, который производит на нас особенное впечатление, так сказать, подымающее нас над впечатлениями обыденной жизни... Этой способностью римские поэты были наделены вообще не обильно ... Овидий, например, не употребляет неприличных слов, но часто бывает решительно безнравственен». М. М. Покровский высказывается еще резче : «При этом, несмотря на очень большую оригинальность своего гибкого, софистического ума, несмотря на удивительную способность предлагать читателю давно знакомые сюжеты в новых, неожиданных комбинациях, со своеобразными нюансами в их освещении, Овидий — может быть, незаметно для самого себя — рабски подчинился усвоенному им александрийскому направлению. Шаблонность в выборе мотивов весьма часто доходит у него до абсурда или, во всяком случае, способна рассмешить внимательного читателя».
Нарцисс и Эхо. Самолюбование или саморефлексия
Миф о Нарциссе и Эхо, изложенный Овидием в третьей книге «Метаморфоз», неоднократно становился основой для самых различных произведений искусства. Если рассматривать его с точки зрения структуры, он содержит в себе две тесно взаимосвязанные сюжетные линии. В первой речь идет о любви Эхо к Нарциссу и о ее гибели, во второй — о любви и гибели Нарцисса. В связи с этим в искусстве наблюдаются различные варианты интерпретации легенды: одни используют любовную линию Эхо, другие акцентируют внимание на любви Нарцисса к самому себе; последнее, пожалуй, является более популярной темой; что же касается отдельно взятой истории Эхо, ее популярность гораздо меньше.
Овидий интерпретирует этот миф следующим образом: при рождении Нарциссу было предсказано прорицателем Тиресием, что если он никогда не увидит своего отражения, то проживет до глубокой старости. Мальчик рос необыкновенно красивым, но безразличным к чувствам влюбленных в него девушек и юношей. Среди отвергнутых была и нимфа Эхо, которая страстно любила юношу, но не могла первой заговорить с ним, так как прежде была наказана Юноной за свою болтливость и теперь могла только повторять концы произнесенных другими фраз. От тоски и обиды она скоро зачахла, и от нее остался лишь голос, который и теперь можно слышать в горах. Другие, также отвергнутые Нарциссом нимфы, взмолились о возмездии: «Пусть же полюбит он сам, но владеть да не сможет любимым!» (Мет. 3, 405). Их мольбы были услышаны богами, и однажды, склонившись к ручью, чтобы напиться, Нарцисс увидел в нем свое отражение, и страсть вспыхнула в его сердце. Поняв, что он любит свое собственное отражение, Нарцисс умирает. Нимфы приходят оплакать своего возлюбленного, но вместо тела находят лишь прекрасный цветок — нарцисс, Эхо вторит их плачу. Попав в Аид, Нарцисс продолжает, склонившись над водами Стикса, смотреть на свое отражение.
Миф о Нарциссе, по всей вероятности, имел догреческие корни66, он относится к этиологическим мифам, объясняющим происхождение этого распространенного цветка. Однако народная этимология связывает его название с греческим глаголом vapK&co — «цепенеть», «столбенеть» (отметим, что от этого корня происходит в современных языках «наркотик»)67, и данное сближение, возможно, служило одним из источников мифа или же повлияло на его дальнейшее развитие. Кроме того, возникновение мифа связывают с характерной для первобытного человека боязнью увидеть свое отражение, являющееся предзнаменованием скорой смерти. Само отражение играло роль двойника человека, связывало его с потусторонним миром, его вторым я. Использование цветка нарцисса как символа связи между этим и потусторонним миром встречается и в мифе о похищении Персефоны, которая непосредственно перед этим событием собирала нарциссы. В античности этот цветок также возлагали на умерших.
Таким образом, сюжет этот предполагает весьма широкий спектр трактовок и таит в себе множество скрытых смыслов, раскрывающихся весьма разнообразно в различные эпохи. Трактовка Овидия в этом ряду занимает особое место, так как ее можно назвать связующей нитью между античностью и новым временем. От античности до нас дошли и другие интерпретации мифа, как литературные, так и живописные, однако, учитывая первостепенное значение «Метаморфоз» для сознания европейских художников, овидиевский текст можно вполне считать за так называемую нулевую точку координат.
По одной из версий, в Нарцисса был влюблен другой юноша, Аминий, но его любовь была отвергнута, из-за чего он покончил с собой, моля богов о возмездии. В скором времени во время охоты Нарцисс склонился над ручьем, чтобы напиться, его взгляд остановился на отражении своего же взгляда, и, увидев его, он закололся.
Другая версия, рассказанная Павсанием, стремится к более рационалистической интерпретации легенды. Сначала он приводит наиболее распространенный вариант, в котором Нарцисс, узнав себя в отражении, постепенно чахнет от любви. Однако эту версию Павсаний называет «сущей чепухой»69, так как человек, находящийся в таком возрасте, что может любить, не может не узнать себя, и приводит еще один вариант, в котором Нарцисс влюбляется в свою сестру-близнеца, после смерти которой он, всякий раз видя свое отражение и понимая это, представлял, будто видит сестру, находя в этом для себя утешение. Что касается цветов, то Павсаний считает, что они росли и до смерти Нарцисса.
Для проведения анализа мифа и его трансакций в искусстве необходимо обратиться к тем временам, когда он только начинал складываться. Древние наделяли взгляд, в том числе и отраженный, мистической силой. Помимо мифа о Нарциссе взгляд играл роковую роль и в других мифах: о Персее и Медузе Горгоне, об Орфее, которому было запрещено оборачиваться, бросать взгляд на Эвридику, пока он ее выводил из Аида, об Амуре и Психее и т. д. Таким образом, согласно представлениям древних, Нарцисса убила скорее не любовь к себе, а свой собственный взгляд; ведь именно так и было предсказано Тиресием, что Нарцисс будет жить, покуда «сам себя не увидит» (Мет., 3, 348). В некоторых мифах, напротив, лишение возможности видеть дает новый ход развития сюжета (мифы о Царе Эдипе, Тиресии). Так или иначе, эта античная боязнь «взгляда» оставляет свой отпечаток на интерпретации мифа в искусстве. Возможно, именно поэтому римская живопись и избегает его фиксации. На античных фресках Нарцисс еще не околдован своим отражением. Он изображается еще не склоненным к ручью, а лишь стоящим перед ним, и его отражение, намеренно нечеткое, едва видно зрителю.
Икар - герой или ослушник, культурно-историческая трансформация образа
Дедал и Икар — герои восьмой книги «Метаморфоз», чьи образы оказали большое влияние на развитие самых различных видов искусства. Сюжет под пером римского поэта в основном повествует о жизненном пути старшего из двух — искуснейшего мастера и изобретателя Дедала. Не только изобразительное искусство, вынужденное выбирать конкретный эпизод для обработки, но и литература предпочитает обращаться к последнему моменту повествования — гибели Икара в волнах моря, которому он дал свое имя. Во многом это объясняется драматичностью самого эпизода, столь подходящего для воплощения в самых различных видах искусства, однако в ряде случаев наблюдается и еще одна интересная тенденция — образ отца уходит на второй план. Для того чтобы исследовать различные интерпретации сюжета, сначала рассмотрим овидиевский первоисточник.
У Овидия действительно на первый план выходит Дедал. О нем рассказывается как о великом мастере, сумевшем построить знаменитый лабиринт царя Миноса, «талантом своим в строительном славен искусстве» (Мет. 8, 159). Однако у Миноса он находится в заключении, поэтому решается бежать с сыном единственно возможным путем — воздухом: «Всем пусть владеет Минос, но воздухом он не владеет!» (Мет. 8, 187). Дедал мастерит себе и сыну Икару крылья из птичьих перьев, которые скрепляет воском. Икар наблюдает за работой отца; когда она закончена, Дедал прикрепляет крылья к спине сына и наставляет его, как нужно лететь, чтобы тот следовал за ним и не поднимался слишком высоко, не спускался слишком низко. Но Икар ослушивается отца, Овидий дает (не свойственное для него, когда речь идет не о любви ) романтическое описание полета:
Начал тут отрок Икар веселиться отважным полетом, От вожака отлетел; стремлением к небу влекомый, Выше все правит свой путь (Мет. 223-225). Это весьма существенный момент овидиевского повествования, давший возможность для дальнейших романтических трактовок образа Икара. Солнечный жар растопил воск его крыльев, и он упал в воду. Дедал увидел в воде перья, нашел тело сына, предал его земле и проклял свое искусство. После этого море стало называться Икарийским, а земля Икарией, именно эта метаморфоза названий, отражающая внимание поэта к научным интересам эллинистической эпохи, и позволяет Овидию включить миф об Икаре в свой эпос.
В науке высказывались различные мнения о том, на какие источники опирался сам Овидий, если таковые вообще были. Называются самые различные авторы, начиная с великих трагиков и заканчивая Каллимахом, но каких-либо точных доказательств этих гипотез найти не удается по причине утраты самих этих текстов. Каллимах, в частности, написал трактат, от которого дошло одно название,86 посвященный основанию городов, названиям островов и их переименованиям. Несомненно, в этом трактате шла речь и об острове Икария. Как бы там ни было, последующим поколениям этот сюжет известен по Овидию, так как это единственное сохранившееся до наших дней его изложение, за исключением античной мифографии. Интересно, что текст «Метаморфоз» — не первое обращение Овидия к данному сюжету. Этот же миф изложен римским поэтом в «Науке любви» (2, 21-98) в том же духе, однако с меньшим числом деталей. В связи с этим можно считать, что именно текст «Метаморфоз» имеет первостепенное значение для потомков, как наиболее полный источник сюжета.
В европейской культуре образы овидиевского мифа подвергались совершенно различным интерпретациям, начиная с нравоучительных трактовок, как предупреждение против человеческого высокомерия, заканчивая символистическими прочтениями, как воплощенная мечта человека о полете в небе подобно птице. Обе эти возможности, безусловно, близки потенциальным направлениям трактовки образа Фаэтона — это родственные сюжеты. Существовала ли какая-либо перекличка между двумя мифами в представлении Овидия и его современников, остается вопросом, однако сходства двух этих сюжетов очевидны. И в том и другом случае речь идет о гибели сына, не внявшего наставлениям отца, в обоих мифах юноши, не рассчитав свои силы, падают с неба в воду. Скорее всего, подобные аналогии объясняются архетипичностью сюжета, что не является уникальным случаем и во всем цикле «Метаморфоз», например, в том или ином виде тема всемирной катастрофы повторяется в эпосе трижды. Так или иначе, в восприятии потомков образы Фаэтона и Икара в некоторых случаях имели схожую трактовку.
Несмотря на значительное сходство, есть и существенные отличия: во-первых, Икар гибнет в одиночку, не создавая угрозы не только существованию Земли, но и вообще чьей бы то ни было чужой жизни, а во-вторых, он не посягает на божественные прерогативы: его грех — скорее дерзновение, нежели дерзость. Возможно, этим обусловлено и различие в трактовке, если рассматривать ее в совокупности: история трансакции образа Фаэтона уравновешивает героический и моралистический элемент, иногда отдавая перевес моралистическому, а в трансакции образа Икара героический элемент преобладает.
Одними миф об Икаре в изложении Овидия и с опорой на него воспринимался как моралистическое наставление о вреде крайностей и о пользе такой добродетели, как умеренность, другими как символ пытливого человеческого интеллекта. Полет благодаря одним лишь мышечным усилиям остается неисполнимой мечтой для человека и по сей день, осуществляемой только во сне. Физиологически это часто объясняется потерей равновесия, а психологически — желанием освободиться от груза земных тягот. Возможно, именно благодаря этому стремлению, так свойственному человеку, сюжет получил такое распространение и во многих случаях подвергся весьма существенной интерпретации в сторону романтизации образа Икара, в сравнении с овидиевским первоисточником (для которого, как было отмечено выше, тот дает определенные основания).
Филемон и Бавкида. Идиллия любви и ее гибель
Филемон и Бавкида — один из сюжетов «Метаморфоз» Овидия, приобретших в Новое время отчетливую символическую окраску, иногда — как будет показано ниже — уходящую весьма далеко от авторского замысла античного поэта. Этот сюжет стал в мировом искусстве символом глубокой и нежной любви до гроба, символом простой человеческой доброты, иногда сопровождаемой философскими обертонами напряженно-трагического звучания.
Герои восьмой книги «Метаморфоз» — состарившаяся супружеская чета, всю жизнь прожившая в своей бедной хижине и довольствовавшаяся тем малым, что у них было. Однажды боги — Юпитер и Меркурий — в обличий простых смертных сошли на землю, чтобы испытать гостеприимство земных обитателей. Но нигде они не находили пристанища, «единственный — принял, / Малый однако же дом» (Мет. 8, 630-631). Престарелые супруги со всем радушием встретили путников. В награду за оказанное гостеприимство боги исполнили желание Филемона и Бавкиды стать служителями в храме, в который была превращена их бедная хижина, и дали им возможность умереть в один день: «Час пусть один унесет нас обоих, чтобы мне не увидеть, / Как сожигают жену, и не быть похороненным ею» (Мет. 8, 710-711). Нерадивых же соседей боги наказали, затопив их жилища водой. После смерти любящие супруги превратились в дуб и липу, растущие из одного корня.
Миф о Филемоне и Бавкиде, весьма любимый в Новое время и давший сюжет для замечательной поэмы Лафонтену, не говоря уже о знаменитых сценах II части «Фауста» Гете, мало знаком античности. Скорее всего, он представляет собой местную храмовую легенду. Источником Овидия традиционно считают «Ликийские рассказы» Менекрата Ксанфского (FGrHist 769) , несмотря на то что в качестве «сценической площадки» Овидий указывает другое место — Фригию, а не Ликию. Интересна композиция повествования. Она, несомненно, воспроизводит мотивы III части «Причин» Каллимаха (сюжет о Геракле и Молорхе), откуда Овидий взял одну из самых ярких деталей своего рассказа: запрет убивать для угощения единственное животное, и поэмы «Гекала», принадлежащей перу того же греческого стихотворца. Именно влиянию крупнейшего поэта эллинизма Каллимаха выдающийся филолог У. фон Виламовиц-Мёллендорфф приписывает успех римского поэта: «Эта сцена получила обработку, сохранившую свое влияние вплоть до „Фауста", так как Овидий рассказал о Филемоне и Бавкиде в тесной состыковке с „Гекалой"»100.
Стоит также отметить некоторую «архетипичность» сюжета: дело в том, что многие элементы овидиевского рассказа повторяются в других литературных источниках, имеющих мифологическую основу, и в первую очередь это, конечно, Библия. Тема потопа, которая, кстати, помимо параллели с Ноевым потопом, повторяет наводнение Девкалиона и Пиры из первой книги самих «Метаморфоз», является, пожалуй, одним из самых ярких таких элементов. Так или иначе, античный миф о любви и богопочитании оказался очень близким христианской культуре и морали, что, очевидно, явилось причиной неугасаемого интереса к нему и, в свою очередь, породило разнообразные его интерпретации. Наиболее часто к сюжету о Филемоне и Бавкиде обращалась живопись, где он находил воплощение, главным образом, как инвариант библейских легенд.
Дело в том, что тема спасения праведников, оказавших гостеприимство божествам и не подозревавших об этом, в европейской культуре весьма распространена, в частности воплощена в библейской легенде о разрушении Содома и Гоморры (Быт., 19: 1-28), в спасении Лота и его семьи. Два ангела, пришедшие к стенам Содома, были приветливо встречены Лотом и приглашены на ночлег, сборище содомонян окружило дом и потребовало, чтобы он выдал своих гостей. Лот не сделал этого, а, напротив, пытался всячески урезонить разбушевавшихся горожан. Вмешался Бог, он поразил содомонян слепотой, ангелы предупредили Лота, что Бог собирается истребить город за грехи, поэтому он должен уйти из города. Одного нельзя было делать — оглядываться назад, но жена Лота обернулась и превратилась в соляной столб. Филемон и Бавкида, уходя из своего дома, также оборачиваются, правда, их превращение будет заключаться в другом101. Обычно Лот и его семья изображаются бегущими из города, неся свои пожитки и иногда ведомые двумя ангелами. Известны подобные изображения и на овидиевский сюжет, где Филемона и Бавкиду ведут олимпийские боги, а за их спинами уже начинает бушевать стихия. Хорошей иллюстрацией к этому является картина Рубенса (рис. 24).
На ней отражен момент, когда боги уводят стариков вверх в горы, в то время как внизу начинает бушевать стихия. Искусство эпохи Ренессанса пересмотрело формулу Горация — «поэзия как живопись», определив гуманистическую теорию живописи как подражание поэзии. Иллюстрацией этого могут служить так называемые «литературные» ландшафты Рубенса, основанные на сюжетах классической поэзии. Это — Одиссей и Навсикая Гомера, кораблекрушение Энея Вергилия и, наконец, пейзаж с Филемоном и Бавкидой Овидия . Собственно самим Филемону и Бавкиде, а также богам отведено в картине совсем мало места. Их фигуры помещены в правый край полотна, а остальное отдано пейзажу. Глаз смотрящего следит за тем, как откуда-то издалека, с гор хлынули потоки воды. Они стремительно несутся вниз, чтобы затопить негостеприимное селение. Его обитатели спасаются кто на дереве, кто на скале; бычья туша застряла в расщелине перегородившего поток дерева, левее — два человеческих тела.
Позади Филемона и Бавкиды художником написаны два прекрасных, переплетенных стволами дерева. Так Рубенс создает прообраз финала овидиевского рассказа, счастливой кончины супругов, собственно самой метаморфозы.