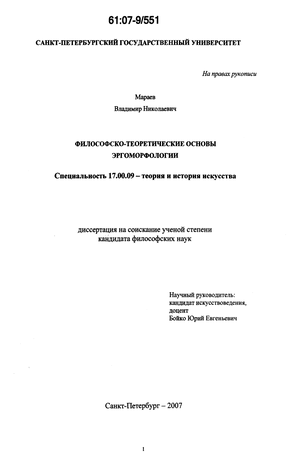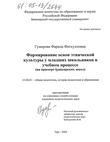Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Типология кантелевидных инструментов 9
Типология в контексте науки 9
Проблемы типологии 17
Кантелевидный инструмент как объект научного исследования 19
Проблемы изучения материальных объектов традиционной культуры 51
Глава 2 Историческая морфология кантелевидных инструментов 58
Материальные источники 59
Письменные источники 98
Иконографические источники 106
Глава 3 Теоретические проблемы эргологии кантелевидных инструментов 117
Технологические основы эргологии 123
Проблемы оформления и декора 152
Проблемы трасологии 170
Заключение 175
Библиография 180
Приложение 189
Введение к работе
В основу научной концепции диссертации положена идея принципиальной возможности культурной и исторической атрибуции, в том числе по локальному признаку, типов традиционных струнных инструментов (в данном случае -кантелевидных), опирающейся на эргологический анализ материальных источников (археологических и этнографических), носящих физически выраженные и определимые лабораторно признаки. Объектом морфологии является внешняя форма некоторого количества атомарных культурных объектов, условно разделенных на типы. Под понятием «тип» подразумевается некий массив объектов, имеющих общие черты и функции, но относящихся к различным локальным традициям. Этнокультурная разница между ними до сих пор являлась проблемой. Результаты эргологического анализа могут дать достаточно четкие критерии для исторической локализации, а также уточнения культурной принадлежности. Физически выраженные в объекте и не учитывавшиеся ранее признаки могут говорить как о культурном родстве морфологически различных инструментов, так и о принадлежности к разным культурам морфологически сходных объектов. В сочетании с достоверной и интерпретируемой информацией, извлекаемой из письменных, иконографических и археологических источников, данные эргологического анализа приобретают решающее значение для культурной идентификации музыкального инструмента. В исследовании морфологии рукотворных материальных объектов традиционной культуры необходимо учитывать корреляцию технологий, орудий труда и результатов, получаемых путем их применения. Огромную роль играют культурные и локальные формы применения и адаптации технологий и орудий труда. Для определения культурного типа музыкальных инструментов большую роль играет также индивидуально обусловленные черты как в морфологии, так и в технологических нюансах музыкального инструмента, превносимые создателями конкретных музыкальных инструментов на основе собственных представлений и традиционных культурных концепций.
Исследование непосредственно инструментов, в отличие от сложившейся ситуации, должно и может дать достаточно точные данные о культурной атрибуции инструмента или целой группы инструментов, исторической периодизации материала, внешних культурных влияниях, устойчивых и неустойчивых признаках инструмента, культурной эргологии (технологических нюансах).
Подробное комплексное изучение материала и конструктивная критика источников (письменных, изобразительных и материальных) дают возможность изменить или уточнить некоторые прежде существовавшие представления о распространении, функции и морфологии кантелевидных инструментов, культурной и географической локализации типов, эргологии и технологических нюансов изготовления инструментов. Кроме этого, предлагается принципиальная схема эргологического анализа морфологии и возможной локализации типов инструментов по технологическому признаку вне связи с их этнокультурной локализацией.
Ранее для того, чтобы выделить культурные (исторические) типы, использовались исключительно письменные и изобразительные источники (А.Фаминцын, К.Вертков), а со второй половины XX в. некоторые археологические данные (А.Рыбаков, А.Колчин, А.Симон, Э.Эмсхаймер, К.Вертков, И.Тынурист, Т.Лейсиё, К.Дальблом, Р.Галайская, В.Поветкин С.Рейнолдс, В.Алянскас , Р.Апанавичюс, В.Муктупавелс, И.Приедите, К.Рахконен, В.Кошелев, А.Мехнецов). В действительности исследуемые инструменты относятся к различным локальным культурам, но яркой морфологической разницы не имеют, то есть не определены точные критерии для отнесения какого-либо деидентифицированного инструмента данного типа к конкретной культуре, для его культурной и исторической атрибуции (И.Тынурист, Р.Галайская, В.Кошелев). Эргология данного вида инструментов до сих пор являлась вторичной по отношению к морфологии и не была достаточно изучена. Помимо зачастую поверхностного описания материалов и изучения источников, к морфологии инструментов данного вида примешивались и некоторые сугубо идеологические тенденции - национал-романтические, политические, мистические и т.п. Вследствие этого сложилась ситуация черезчур формальной типологии данного вида инструментов, усложняющая изучение как уже известного, так и вновь обнаруженного материала..
Целью предлагаемого исследования является определение достоверных критериев культурно-исторической атрибуции струнных инструментов и методов их установления по действительным признакам, то есть физически выраженным в материальных объектах и определяемым лабораторно, а также на основе достоверной информации, извлеченной из письменных и иконографических источников.
В связи с поставленной целью в диссертации решаются следующие задачи:
1. Обосновывается постановка исследовательской проблемы: философско-теоретические основы эргоморфологии.
2. Проводится анализ морфологии (типологии) в сравнительно-историческом сопоставлении.
3. Проводится анализ письменных и изобразительных источников с целью выяснения степени достоверности содержащейся информации, возможности ее комментария и интерпретации.
4. Проводится комплексный эргоморфологический анализ материальных источников для установления отчетливых критериев типологии.
Объектом данного исследования является онтология традиционных струнных инструментов, именуемых в данной работе кантелевидными, как синкретического явления культуры, ее матеральной и духовной составляющих, что имеет конкретное физическое выражение в рукотворных объектах.
Предметом исследования кантелевидных музыкальных инструментов является выявление и определение типов по физически выраженным и лабораторно определимым признакам в соответствии с локализацией культурных традиций, их мировоззрением, технологической историей и индивидуальными чертами несерийных рукотворных объектов традиционной культуры. Методологической основой работы стала совокупность аналитических приемов и подходов, используемых сравнительно- историческим, антропологическим, источниковедческим, философским методами. Анализ источников в данной работе опирается в основном на методы Л.Шлёцера и Л.Ранке, заключающиеся в четкой локализации типа источника (остатки или предание), определении его информативности, установлении этапов извлечения информации. Эти методы применены и в анализе материальных и иконографических источников. Методика исследования эргологических аспектов морфологии кантелевидных инструментов основана на опыте экспериментальной археологии, комплексной технологической истории (А.Лукас), экстраполяции на эргологию системно-этнофонического метода (И.Мациевский), предполагающего изучение музыкального инструмента в неразрывной связи с исполняемой на нем музыкой, и комплексно-апробационного метода (В.Мациевская). Теоретической основой данной работы являются аристотелевская концепция четырех причин (формальной, материальной, динамической и целевой), разработки отчественной школы теоретической археологии (Л.Клейн), структуралистской (Ф.Боас, К.Леви-Стросс) и функционалистской (Э.Эванс-Причард) антропологических школ в отношении анализа рукотворных материальных объектов традиционных культур, как синкретических явлений духовной и матеральной культуры.
Научная новизна исследования заключается в создании методов технической морфологии (эргоморфологии) кантелевидных инструментов и во введении автором в морфологию традиционных инструментов данного типа новых базовых понятий, предлагается комплексный структурный подход к рассмотрению всех доступных исследователю источников. Впервые в научной практике системно-этнофонический и комлексно-апробационный методы применены к эргологии музыкальных инструментов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Весь корпус источников по морфологии кантелевидных инструментов, включая материальные, практически не подвергался критике, в результате чего интерпретирован не вполне корректно.
2. Эргоморфологический анализ не подтверждает сущестование эволюционного типа, но подтверждает наличие технологических типов.
3. Внешний облик рукотворного объекта обусловлен в равной мере эстетическими и технологическими причинами. С традициями изготовления жестко связаны, в большинстве случаев, не сами внешние формы (абрис) инструмента, а способы их получения.
4. Музыкальный инструмент, исполняемая на нем музыка и традиции его изготовления представляют собой единую культурную систему и не могут рассматриваться дискретно. Практическая значимость исследования заключается в создании методики достоверной объективной атрибуции традиционных музыкальных инструментов по физически выраженным в них признакам. Данная методика включает в себя, сверх прочего, знания носителей культуры и акцентирована на индивидуальности создателя инструмента, помимо представляемой им культуры. Результаты исследования могут быть использованы в работе с источниками по морфологии различных классов традиционных инструментов, их эргологии и типологии при работе с музейными коллекциями музыкальных инструментов, при атрибуции полевого и археологического материала. Результаты исследования применимы также в работе с изобразительными, графическими и письменными источниками по инструментоведению.
Типология в контексте науки
«Классификаторские работы всегда в какой-то мере условны. Ведь то, что обычно подлежит упорядочению и систематизации, возникает без системы, растет и изменяется, невзирая на установленную (нами) схему. Предмет классификации (типологии, морфологии - В.М.). - это всегда нечто живущее, динамичное, не знающее резких границ и неизменных форм. Система же статична и оперирует чрезвычайно четкими разграничительными линиями и категориями. Эти обстоятельства, хотя и порождают трудности в работе систематизатора, но придают ей и особую привлекательность. Цель исследования - представить и уточнить определенные понятия так, чтобы они как можно больше соответствовали существу и содержанию классифицируемого объекта и способствовали быстрому и уверенному нахождению порядкового места частного в целом» (85).
Проблема типологии в данной работе поднимается в основном на археологическом материале, так как типология деидентифицированных рукотворных объектов (артефактов) и ее критика наиболее серьезно на данный момент теоретически разработаны и обоснованы археологами. Изначально типология как концепция классификации, или, лучше сказать, группировки, оказалась тесно спаянной с эволюционно-генетическим методом установления последовательности («типологический метод Монтелиуса») (95). Поэтому критика развивалась по двум направлениям: в одном огонь сосредоточился на классификационных аспектах, в другом - на эволюционных и хронологических. Это второе к нашей теме прямого отношения не имеет, хотя под его воздействием Г.Ессинг еще в 1946 г. пришел к выводу, что само слово «типология» «настолько утратило кредит», что лучше заменить его словом «морфология». Общим для обоих направлений критики является осуждение развивавшейся тенденции замкнуть исследование на типологическом уровне (28,1). Это уже ближе к нашей теме, потому что такая критика подрывала веру в солидность и рентабельность интенсивных типологических исследований и заостряла внимание на их слабых сторонах. Первое направление критики развертывалось более широко и многообразно, подтачивая самые основы типологии: понятие типа оказалось чрезвычайно уязвимым. Все это направление развивалось под сильным воздействием идей функциональной интерпретации. В археологии эти идеи имели более разнообразные истоки, чем функционализм в этнографии (или культурной антропологии).
Орудия выделяются то по внешнему облику, то по способу обработки, то по культуре или народности, то по месту первоначального обнаружения, то по предположительному функциональному назначению, определяемому по аналогии или по догадке, и потому шаткому. Один и тот же тип разные авторы называют по-разному. Еще более, однако, возмущала критиков ограниченность критериев выделения чисто внешними морфологическими признаками, из-за чего типология сводилась к топологии. Они видели в этом бесплодный формализм, безразличие к целям глубокого исторического познания, источник грубых ошибок в интерпретации, и требовали принять за основу классификации не внешнюю форму, не топологию, а функцию предмета, определяемое прежде всего по следам употребления. Эта критика, хотя и вызывала разговор о «кризисе типологии», все же не была опасной для типологии. Что же касается ограничения внешними формальными признаками, то резон тут есть. Тип и контекст Типология обобщает. Она основана на сравнении и формальном уподоблении вещей из разных комплексов, разных контекстов, даже разных стран.
Типология опирается на повторяющееся, устойчивое и отвлекается от индивидуального, беглого. Между тем, для понимания функциональных связей необходимо изучать контексты, в которых оказываются вещи. Типология этим не интересуется. Она оставляет это последующим этапам исследования. Но как они справляются с этой задачей, если в материале, полученном ими от предшествующего этапа, то есть от типологии, эти связи не учтены? Ведь тип включает в себя признаки морфологические, но не содержит не только технологических, но и контекстных признаков — территориальных локализаций, характеристик позиции в памятниках, отметок о сочетаемости с другими вещами и т. п. Значит, нужна какая-то иная классификация — узкая (в дополнение к типологической) или широкая (вместо нее)?
В такой постановке вопроса марксистские археологи видели способ приблизиться к материалистическим социально-экономическим реконструкциям и реализовать диалектический принцип конкретности, взаимосвязи. Идеалистически настроенных археологов в такой постановке вопроса привлекала другая сторона: выдвижение индивидуального и случайного на первый план; отход от приоритета закономерностей; восстановление в правах свободной, ничем не детерминированной человеческой воли как творческого фермента культуры.
Традиционная типология занималась почти исключительно артефактами, очень мало интересовалась сооружениями и ситуациями и совершенно не разработала средств для упорядочения неартефактных археологических материалов: отходов производства, заготовок, сырья, пищевых отбросов и т. п.
Параллельно с этим, однако, ряд археологов подверг сомнению само существование в археологическом материале основы для выделения типов и, следовательно, объективность и надежность типологии. Эти исследователи обратили внимание на то, что четких границ между типами на деле нет, что стандарты и идеалы были изменчивы во времени и пространстве, поэтому свойства их реализации в вещах непостоянны, что всегда находятся переходные формы, что признаки не повторяются в одной и той же группировке, а встречаются в самых разнообразных сочетаниях. Откуда же взяты наши типы? Не из материала, а из наших представлений о мире, из нашего стремления к порядку, отчасти из нашей готовности принять случайные разрывы в доступных сведениях за естественные и важные рубежи.
У.Тэйлор разделил типы на два сорта: эмпирические и культурные (28,8). Эмпирические типы складываются из элементарных свойств, присущих материалу и доступных наблюдению и регистрации; в этом смысле они образуют объективную базу исследования. Но поскольку число этих свойств бесконечно, то их выбор и группировка зависят от произвола исследователя, и в этом смысле эмпирические типы как ячейки по необходимости субъективны.
Проблемы типологии
Типология кантелевидных инструментов по внешним ярким морфологическим признакам чаще всего не способна обеспечить задачи культурной (этнической) идентификации. Практически все морфологические культурно-идентифицирующие признаки насильственно назначены самими исследователями и сама эта типология (морфология) нетерпимо относится к «смешанным типам», не имея при этом в арсенале «чистых типов».
Сам по себе «чистый тип» - понятие для кантелевидных инструментов глубоко абстрактное и обязательно назначенное исследователем, а не самой культурой. Исходя из формальной морфологии, все имеющиеся в наличии кантелевидные инструменты представляют из себя «смешанные типы», хотя имеют общие черты, из которых составить «чистый тип» физически невозможно. Такой «среднестатистический» тип существует лишь теоретически. Описать его можно приблизительно так: среднего размера (от 30 см до 80 см), в форме неправильного четырехугольника, корпус изготовлен из цельного куска древесины, полый внутри, струнодержатель - из металлического стержня, линия колков - под углом к струнодержателю на противоположном от него конце инструмента; струны и колки в идеальный «чистый тип» не вписываются, так как тоже могут служить культурно-идентифицирующим признаком или делать тип «смешанным». Как видно из описания «чистого типа», при попытке изготовления «эталонной» модели инструмента неизбежно возникнут непреодолимые технические трудности (напр. «полый изнутри») и музыкальный инструмент из этой модели не получится, даже если эти трудности как-либо удастся преодолеть.
Подчиненные типу морфологические признаки, которыми пользуются исследователи кантелевидных инструментов, часто логически сходны с элементами тройной оппозиции (тремя назначенными равноудаленными полюсами), которыми можно оперировать, но которые при этом не поддаются формулировке и анализу. Специалист, занимающийся определенным типом инструмента, достаточно легко, «на глаз», определяет инструменты хорошо известного ему типа, но зачастую не может сформулировать идентифицирующие морфологические признаки. Так, например, почти как научный факт признается, что угол между длиннейшей стороной и линией колков у каннеля несколько острее, чем у канклеса, но по-видимому никто и никогда не сможет точно установить в градусах тот самый угол, менее величины которого -убедительный признак каннеля, а более этой величины -бесспорный признак канклеса.
Самым четким идентифицирующим признаком инструмента до недавнего прошлого считалась информация, полученная от лица, передавшего (продавшего) этот инструмент, но, к сожалению, и этот признак не обладает достаточной валидностью. Информанты, владеющие не одним языком (ситуация для интересующего нас региона вполне заурядная), могли давать различную, часто противоречивую информацию разным исследователям (П.Аристе, 1940; 52,1).
Группа традиционных хордофонов типа дощечковых цитр (К.Закс), распространенных в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и на Северо-Западе России и именуемых в данной работе кантелевидными инструментами, по названию одного из самых распространенных типов, объединяет несколько достаточно различных конструктивных типов инструментов. Объектом исследования в данной работе является тип долбленого инструмента (Т.Норлинд, А.Вяйсянен, Э.Арро), по отношению к которому Э.Арро употребляет собирательный термин «кандель», а ИЛьшурист - «кантеле», по сию пору считающийся базовым и «архаичным» («первобытным», 53, 2). Конструктивная особенность типа заключается в изготовлении корпуса инструмента из цельного куска древесины (колоды, пластины, бруса, толстой доски), иногда с накладной (верхней или нижней) декой или обечайкой (царгой). Инструменты с выдолбленным снизу корпусом и без нижней деки принято считать наиболее архаичной конструкцией по двум причинам: простота изготовления и наличие самых ранних из сохранившихся кантеле именно такой конструкции (коллекция Nordiska Museet, 53,2).
Представления о морфологии кантелевидных инструментов базируются на внешних, не всегда культурно значимых, признаках, большинство из которых не дают достаточных оснований для культурной (этнической) идентификации и утверждения различий или родства между инструментами. Эргология данного вида инструментов до сих пор являлась вторичной по отношению к морфологии и не была достаточно изучена, в то время как именно эргологические признаки могут говорить о культурном родстве морфологически различных инструментов. Источники по морфологии данных инструментов при вторичном использовании внесли некоторую путаницу в этническую, культурную и географическую типологию этого вида инструментов (М.Гютри, 53, 2). Для изучения морфологии ранее использовались в основном изобразительные и письменные источники, содержащие не всегда достаточно точную информацию. Материальные, в т.ч. археологические, источники используются для этой цели чуть более ста лет, однако информация, полученная благодаря их изучению, тоже не всегда достаточно отчетлива. Помимо поверхностного описания материалов и изучения источников, к созданию типологии инструментов данного вида примешивались и национал-романтические, политические, мистические тенденции.
Так сложилась ситуация несколько формальной типологии данного вида инструментов, усложняющая изучение как уже известного, так и вновь обнаруженного материала.
Между тем, исследование инструментов должно и может дать достаточно точные данные о культурной локализации инструмента или целой группы инструментов, периодизации материала, внешних культурных влияниях, устойчивых и неустойчивых признаках инструмента, эргологии (технологических нюансах).
Подробное комплексное изучение материала и конструктивная критика источников (письменных, изобразительных, материальных) дают возможность уточнить некоторые прежде существовавшие представления.
Морфологическая дефиниция типов долбленых кантелевидных инструментов и их географическая, этническая и темпоральная локализация представляют собой, вот уже на протяжении многих лет, серьезную научную проблему, подвергавшуюся, кроме всего прочего, влиянию ряда вненаучных факторов.
Проблемы изучения исторической морфологии и эргологии кантелевидных инструментов неоднократно рассматривались отечественными и зарубежными исследователями на протяжении более чем ста последних лет. Научный интерес к этому классу инструментов впервые возник на волне национал-романтизма в Финляндии, незадолго до этого, в 1801 году, получившей автономный статус в составе Российской империи. Благодаря трудам Д.Еуропеуса и Э.Леннрота (1830-1884) кругам ученых и интеллигенции стали доступны памятники народной поэзии Карелии, Финляндии и Ингерманландии, в которых одним из сквозных образов был кантеле. Сам Леннрот работал и над модернизацией, и над популяризацией этого инструмента. Из наиболее ранних научных работ в этой области можно назвать вышедшую в 1847 статью Готтхольда о канклесе и народных мелодиях литовцев (70, с. 160).
Материальные источники
Материальные источники, то есть объектная составляющая исторической морфологии и эргологии, условно подразделяются на археологические и этнографические (музейные) источники. Методология исследования археологических источников разработана более основательно, и большинство исследователей отдавало себе отчет в том, что имеет дело с деидентифицированным материалом, извлеченным из несуществующей и немой культуры. Этнографические источники извлекались из живой культуры и имели в ней определенное место и значение. Эти объекты либо восполнялись самой культурой в том же или каком-либо ином виде, либо утрачивались ею навсегда. Материальные объекты в музейных коллекциях имеют много общего с археологическим материалом. Любой объект традиционной культуры становится единицей хранения и экспонатом вследствие стандартных процедур музеизации, вследствие которых объект и становится материальным источником наравне с археологическими источниками. Одним из определяющих шагов данных процедур является деидентификация инструмента в процессе музеизации.
Понятие «археологические источники» принадлежит к числу фундаментальных понятий археологии. Им пользуются и представители смежных дисциплин — историки, искусствоведы, этнографы и др., — когда обращаются за содействием к археологии. Все они в общем и целом понимают друг друга и, очевидно, представляют хотя бы приблизительно, о чем идет речь, когда применяется этот термин. Однако такое понимание неизбежно остается неполным, неточным, неглубоким.
Входят ли такие-то вещи в археологические источники и, следовательно, подпадают ли под действие соответствующих юридических постановлений и методических инструкций? Являются ли археологические источники историческими источниками, и распространяются ли на них соответствующие методологические характеристики исторических (скажем, в оценке познавательных возможностей)? На чем кончается компетенция историка при извлечении информации из археологических источников? Сколько времени должно пройти с момента «гибели вещи», чтобы она стала археологическим источником? Иначе говоря, есть ли хронологический предел у археологических материалов, если прослеживать их от давних времен к современности?
Все эти и подобные вопросы показывают, что мы нуждаемся в продуманных определениях и детальных теоретических разработках.
Понятием «археологические источники» характеризуется главное средство обеспечения археологических исследований базой фактов. Любопытно, что как раз те средства такого обеспечения, которые занимают в археологии, при всей их важности, подчиненное место (эксперимент, лабораторные анализы), подверглись детальной разработке раньше: повлиял пример наук, в которых они преобладают (физика, химия, биология). В археологии же к детальной разработке ее главного средства подошли сначала со стороны не теории, а методики исследований: в научной практике более наглядно и непосредственно ощущается потребность в методических предписаниях, чем в тех теоретических разработках, которые стоят (или должны стоять) за ними, генерируют и обосновывают их. Вообще понятие «археологические источники» появилось в археологии как проекция понятия «исторические источники» на археологический материал, т. е. под несомненным воздействием исторической науки.
Поскольку в данной работе речь идет о музыкальных инструментах исторического периода, а еще точнее - по самым смелым предположениям - относящихся к Средневековью, то и археологический материал, связанный с этими инструментами, следует рассматривать не как самостоятельный и единственный корпус источников того времени, но в корелляции с письменным и иллюстративным материалом, вносящим зачастую существенные поправки в интерпретацию археологических находок.
Однако такое отношение к археологическому материалу продиктовано отнюдь не самим материалом, но новыми веяниями в исторической науке, которую перестали удовлетворять только письменные источники. Природа же археологического материала не так проста и математична, как того желалось бы очень многим исследователям истории материальной культуры.
Во-первых, в руках археологов пока что находится менее тысячной части предполагаемого материала, причиной чего является, например, невозможность проведения систематических раскопок на обширных заселенных и застроенных территориях, а также в промышленных и пограничных районах (включая зоны горных разработок, военных объектов и т.п.).
Во-вторых, огромные методологические проблемы стоят перед археологами, занимающимися классификацией, типологией и хронологией материала.
В-третьих, всеобщих методик по интерпретации и реконструкции археологического материала пока не выработано, а повторной интерпретации ранее обнаруженные и уже однажды интерпретированные памятники также не подвергаются или подвергаются крайне редко.
Историческая информативность памятников материальной культуры зависит не только от них самих, но и, в огромной мере, от теории и методики получения информации.
Археологические данные, используемые для подтверждения или, чаще всего - для создания древней (как минимум, раннесредневековой) истории балтийского псалтериума, до сих пор не дают возможности с уверенностью утверждать, что подобные инструменты широко бытовали, и вообще существовали в балтийском регионе до второй половины XVII века, как бы ни было желаемо и логично, в рамках действующей парадигмы, отнести их к раннесредневековому (для данного региона - дохристианскому) периоду, к самым истокам цивилизованной истории Северной Европы.
Систематические археологические раскопки в интересующем нас регионе проводятся лишь с конца XIX в., и полевые исследования часто серьезно корректируют (вплоть до диаметрально противоположной) атрибуцию и датировку случайных находок.
Действительно, археологическим источником может считаться лишь материальный факт, имеющий свой, а не включающий сходные материальные факты, минимальный контекст, то есть археологический комплекс (дом, погребение и т.п.), и свой, а не насильственно присоединенный из показавшейся сходной, либо выгодной по какой-либо другой причине (название, топография, политика), археологической культуры, максимальный контекст, то есть археологический памятник (городище, поселение, некрополь и т.п.), так как только контекст дает возможность более или менее полно датировать и атрибутировать находку.
Продиктованное господствовавшими в России и Европе школами желание обнаружить «колыбель европейской цивилизации», центры возникновения культуры и ее распространения на некультурные территории, пути миграции носителей культур в эпоху Великого переселения народов, изначальные самобытные признаки различных культур, создавших нынешние государства, привело к весьма своеобразным формам трактовки археологического материала, то есть к заведомо предвзятой интерпретации археологических источников и их контекста.
Технологические основы эргологии
Материалы. Технологический признак, как один из самых важных для атрибуции традиционного музыкального орудия, в исследовании кантелевидных инструментов до сих пор не занимал достойного места. Обычно описание его ограничивалось приблизительным именованием примененных пород древесины, условной формы заготовки и условной технологии формирования резонаторной полости («долбление») (А.Фаминцын, Н.Привалов, К.Вертков, А.Мехнецов). Тем не менее, именно материалы, использованные для изготовления инструмента, могут послужить основой для корректировки атрибуции. Физические и морфологические характеристики этих материалов фиксировались дискретно и никогда не встречались вместе в одном описании. Порода древесины определялась «на глаз», несмотря на то, что существуют справочники-определители пород древесины. Благодаря специальной литературе по заготовке и обработке древесины, реставрации и консервации археологических и этнографических объектов из дерева можно с большой вероятностью определить не только породу, но также и кондицию древесины на момент ее использования в качестве материала, форму (колода, пластина, брус, доска) и параметры заготовки и происхождение материала (местный или импортированный). Определенные этим путем параметры могут откорректировать или даже изменить первичную атрибуцию.
Под различными по форме материалами здесь понимаются две основные группы - материалы, заготавливаемые без использования промышленного оборудования (так называемый «кругляк» и т.п.) и материалы, для заготовки которых необходимо применение промышленного оборудования (радиальная, тангентальная доска с обзолом или без него, брус, пластина, отходы промышленной заготовки - так называемые «торцы») (Прил., таб. 8-11). Следует отметить, что промышленная заготовка леса в конкретной местности непременно влечет за собой технологическую урбанизацию данной местности: появление в определенных форм материала и необходимых для его обработки инструментов.
Например, все без исключения имеющиеся в наличии кантелевидные инструменты с открылком (Прил., таб. 2-3), а также все выдолбленые сбоку (с узкой стороны) (Прил., таб. 6) изготовлены из морфологически сходных и одинаковых по происхождению заготовок. Имеются в виду пиломатериалы из промышленных пород древесины: сосны, ели, ольхи (реже - березы). Использовались следующие виды пиломатериалов: доска, брус, пластина и обязательные отходы их заготовки - торцы (чаще -комлевые). В пользу определения данной формы материала говорят следующие признаки: параллельные плоскости дек, что соответствует условиям производства пиломатериалов, но представляет изрядную (часто - практически непреодолимую) трудность при изготовлении музыкального инструмента из «кругляка»; соответствие толщины инструмента и стандартных размеров промышленно заготовляемых досок и бруса, то есть два или три дюйма (5,2 см, 7,7 см) для инструментов, изготовленных из доски, и четыре дюйма (11 см) для инструментов, изготовленных из бруса; выбор «базы» по краю заготовки, что невозможно при условно цилиндрической заготовке, но вполне оправдано при использовании доски или бруса, имеющих как минимум одну сторону, перпендикулярную плоскостям дек.
Кондиции остаточной влажности материалов, из которых изготовлены инструменты с открылком и (или) долбленые сбоку, на момент использования также соответствует кондициям пиломатериалов. Под кондициями остаточной влажности здесь следует понимать не тонкие процентные градации влажности древесины, а три основных типа этих кондиций: 1) сырая (только что спиленная) и непригодная для промышленного использования древесина; 2) вяленая, то есть прошедшая цикл «холодной» сушки (естественного вентилирования под прессом), характерный для пиломатериалов; 3) сухая, то есть прошедшая цикл «горячей» сушки (принудительное вентилирование при повышенной температуре), характерный исключительно для пиломатериалов, подготавливавшихся для промышленного использования в фабричных условиях. Первый тип кондиции остаточной влажности древесины на момент использования не только не встречается у данных кантелевидных инструментов, но и попросту не позволяет использовать при их изготовлении соответствующие технологии. Второй тип кондиции влажности наиболее распространен среди инструментов такой конструкции. Третий тип как материал для изготовления кантелевидных инструментов практически не встречается, но является самым распространенным среди индустриальных изделий из древесины. Такое распространение типа кондиции остаточной влажности в целом подтверждает связь появления кантелевидных инструментов с открылком и (или) долбленых сбоку с промышленной заготовкой пиломатериалов в сельской местности.
Дополнительно в пользу связи кантелевидных инструментов этого типа с урбанизацией технологий свидетельствует использование для устройства струнодержателя металлических стержней или скоб круглого сечения. Продукты волочения и проката металла в сельской местности представляли большую редкость, но ими обязательно снабжались пункты промышленной заготовки пиломатериалов, в частности - строительными гвоздями и кровельным железом для оборудования навесов и хранилищ. В некоторых случаях фиксируется и применение мездрового и костного клея для крепления колодки струнодержателя. Производство мездрового и костного клея связано с утилизацией отходов промышленного производства пушнины, меха и кож, то есть - с фабричной технологией. Рецептурой подготвки плиточного клея к работе хорошо владели приемущественно только столяры и сапожники, имевшие дело со сложными сборными изделиями и проживавшие в городах. То же относится и к фиксируемому на отдельных образцах использованию декстринового клея.
Промышленная заготовка леса в виде пиломатериалов в России ведет свое начало от появления железных дорог и внедрения технологии массового производства пиломатериалов, то есть - от появления серийных пилорам на базе водяных и паровых машин. Следовательно, появление в России кантелевидных инструментов, изготовленных из пиломатериалов и их отходов (в частности -инструментов с открылком), было практически невозможным до 70-х годов XIX в.. Ареалы распространения инструментов этого типа также совпадают с районами промышленной заготовки леса (впоследствии - пиломатериалов).