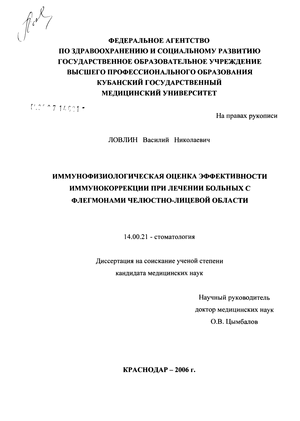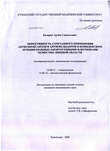Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Флегмоны челюстно-лицевой области как дисрегуляция неироиммунологических взаимоотноше ний и возможности их коррекции (обзор литературы) 12
1.1. Современные взгляды на этиологию и патогенез заболевания 13
1.2. Взаимоотношения нервной и иммунной систем 16
1.3. Механизмы компенсации иммунологических расстройств 30
1.4. Роль нейроиммунных взаимоотношений при ФЧЛО 31
CLASS ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования 3 CLASS 8
2.1. Общая характеристика клинического материала 59
2.3. Оценка состояния сверхмедленных физиологических процессов 47
2.4. Анализ вариабельности сердечного ритма 51
2.5. Иммунологические методы исследования 53
2.5.1. Выделение чистой взвеси нейтрофилов 53
2.5.2. Определение фенотипа лейкоцитов 55
2.6. Статистические методы исследования 56
ГЛАВА З. Клинико-нейро-иммунологическая оценка состояния больных с флегмонами челюстно-лицевой области при традиционной и иммуноориентированной терапии лейкинфероном 56
3.1. Характер сверхмедленных физиологических процессов в оценке функциональной активности головного мозга у больных с ФЧЛО 56
3.2. Оценка состояния вегетативной нервной системы у больных с ФЧЛО 66
3.3. Оценка иммунного статуса больных с ФЧЛО 76
3.3.1. Оценка функционально значимых и активационных рецепторов нейтрофильных гранулоцитов 76
3.3.2. Оценка рецепторного аппарата клеток специфического иммунитета 81
3.4. Клиническая эффективность иммуноориентированной терапии лейкинфероном 89
ГЛАВА 4. Обсуждение полученных результатов 107
Выводы 134
Практические рекомендации 136
Указатель литературы 137
Приложения 166
- Современные взгляды на этиологию и патогенез заболевания
- Взаимоотношения нервной и иммунной систем
- Оценка состояния сверхмедленных физиологических процессов
- Характер сверхмедленных физиологических процессов в оценке функциональной активности головного мозга у больных с ФЧЛО
Введение к работе
Проблема лечения больных с флегмонами челюстно-лицевой области (ФЧЛО) по-прежнему остается высоко актуальной.
Больные с острыми гнойно-воспалительными заболеваниями ЧЛО занимают более половиы коечного фонда специализированных челюстно- лицевых отделений (А.Г. Шаргородский и др., 2002; В.Г. Чантладзе, В.П. Ипполитов, А.В. Алимский, 2004; Н.Э. Петросян, Н.А. Неделько, Л.В. Горбов и др., 2004) и наблюдается тенденция к росту числа больных с данной патологией (A.M. Романов, 2000; В.П. Зуев и др., 2000; B.C. Агапов, И.А. Пиминова, 2004; О.В. Цымбалов, 2005).
Одной из характерных черт современного течения ФЧЛО является атипичная клиническая картина: гипо- или гиперергические варианты (B.C. Агапов и др., 2001; А.И. Воложин и др., 2001; А.В. Сидорук, 2004) с агрессивным распространением на соседние клетчаточные пространства (А.Е. Терещенко, 2000; А.Г. Шаргородский и др., 2002). Закономерным, но, к сожалению, не прогнозируемым следствием, является развитие тяжелых осложнений, таких как контактный одонтогенный медиастенит (М.А. Губин и др., 1998; Е.А. Цеймах и др., 2004), острый одонтогенный сепсис (Ю.М. Харитонов, 1999), вторичные септические внутричерепные процессы (Н.И. Чевардов, 2000; В.А. Козлов, О.А. Егорова, Н.В. Троцюк, 2004) и т.д. В связи с этим, летальность от подобных системных осложнений, в среднем по стране составляет 0,13-0,56% (Б.Т. Килымжанова, 2003; Н.А. Жижина и др., 2003).
В основе срыва противоинфекционных механизмов и развития ФЧЛО лежит развитие вторичной иммунной недостаточности (ВИН), коррекция которой с помощью различных иммунотропных лекарственных средств (ИТЛС) существенно повышает эффективность традиционных методов лече- ния (А.Ю. Дробышев, 1996; B.C. Тимошилова, 1999; О.Ю. Петропавловская, 1999; В.В. Шулаков, 2002; А.А. Тимофеев, 2002).
Однако представленные клинико-иммунологические результаты о проведенных методах иммунокоррекции являются, по крайней мере, неполными и скорее эмпирическими, т.к. при всей своей автономности иммунная система (ИС) находится под перманентным и доминирующим контролем со стороны ЦНС и является важной, но все же только составляющей единого нейро - гуморально-иммунологического структурно- функционального блока (В.В. Абрамов, 2004), объединенного общим гуморальным полем, предназначением которого является поддержание динамического функционального гомео-стаза в целостном организме.
Тем не менее, сведений относительно возможности и характера влияния иммунокоррекции при воспалительных заболеваниях ЧЛО на ЦНС и взаимоотношения последней с ИС в литературе практически не представлено, кроме того, отсутствует само методологическое обоснование необходимости проведения подобного рода исследований. Между тем известно, что ряд ИТЛС (Z. Kronfol, D.G. Remick, 2000), например лейкинферон, рекомендуемые к применению в разгар острого гнойно-воспалительного процесса, способны не только оптимально корригировать дефекты в различных звеньях ИС, но и проникать через гематоэнцефалический барьер, оказывать непосредственное влияние на ЦНС и тем самым на весь многоуровневый и муль-тифакторный комплекс нейроиммунных взаимоотношений.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель работы: повысить эффективность лечения больных с флегмонами челюстно-лицевой области путем иммунокоррекции лейкинфероном и дать ему оценку на основе клинико- иммунофизиологического анализа.
Задачи: 1. Изучить характер сверхмедленных физиологических процессов у больных с ФЧЛО при традиционном лечении и при иммуноориентированной терапии.
Исследовать функциональное состояние вегетативной нервной системы (ВНС) и уровень адаптационных реакций у больных с ФЧЛО при традиционном лечении и с использованием ЛФ.
Изучить состояние клеток врожденного иммунитета у больных с ФЧЛО при традиционном лечении и при иммунокоррекции ЛФ.
Оценить характер специфического клеточного иммунитета у больных с ФЧЛО при традиционном лечении и при иммунокоррекции ЛФ.
Изучить клиническую эффективность включения в схему базисной терапии больных с ФЧЛО лейкинферона (ЛФ).
Разработать алгоритм прогнозирования и терапевтической эффективности нейроиммуномодулирующего механизма иммуноориентированной терапии лейкинфероном при ФЧЛО средней степени тяжести.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ В настоящей работе впервые: для лечения больных с ФЧЛО средней степени тяжести использован в качестве иммунокоррекции отечественный препарат - лейкинферон (ЛФ) и выявлены его позитивные иммуномодулирующие эффекты. проведено исследование интегративного функционального состояния коры головного мозга у больных с ФЧЛО при традиционной и иммуноориентированной терапии. изучено функциональное состояние ВНС у больных с ФЧЛО на основе различных методологических подходов и представлений о симпато- парасимпатическом балансе при традиционном лечении и с использованием ЛФ. исследовано состояние адаптационных механизмов и уровня адекватности к стрессовым воздействиям на основе анализа сверхмедленных физиологических процессов (СМФП) и вариабельности сердечного ритма (ВСР) у больных при традиционном лечении и с использованием лейкинферона (ЛФ). вскрыт нейроиммунорегуляторный механизм воздействия ЛФ. - разработан алгоритм оценки эффективности применения иммунокоррекции при лечении больных с ФЧЛО.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Проведенное исследование расширяет современные представления о терапевтическом механизме иммунокоррекции при лечении больных с ФЧЛО средней степени тяжести. Разработан и апробирован способ иммуно-ориентированной терапии ФЧЛО с включением лейкинферона. Вскрыты некоторые патогенетические эффекты клинической эффективности ЛФ в схеме традиционного лечения и разработана гипотеза о нейроиммунологическом механизме основы их проявления. Изучены и рекомендованы к использованию новые прогностические методы и способы экспресс - диагностики функционального состояния организма на основе показателей омегаметрии и вариабельности сердечного ритма.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
Для больных с ФЧЛО средней степени тяжести при госпитализации характерны существенные расстройства функционального состояния ЦНС, ВНС и ИС в виде выраженной деполяризации коры головного мозга, дисбаланса симпато-парасимпатического взаимодействия, неадекватной гиперактивации системы НГ, депрессии Т-лимфоцитарного звена иммунитета, дестабилизации стресс-реализующих механизмов с тенденцией к декомпенсации на всех клинических этапах лечения при отсутствии восстановления большинства изучаемых показателей даже при окончании традиционного лечения.
Использование ЛФ по разработанной схеме улучшает состояние пациентов и результаты лечения, ускоряет сроки выздоровления, что имеет весомый медико-экономический эффект.
Основой клинической эффективности являются иммуномодули-рующие эффекты ЛФ в виде снижения гиперактивации в системе НГ и восстановление показателей специфического клеточного иммунитета, что обес- печивает вывод больных из состояния ВИН и предотвращает угрозу осложнений.
4. Основным позитивным патогенетическим механизмом иммуно-ориентированной терапии с использованием ЛФ является его нейроиммуно-логическая направленность, заключающаяся в снижении функциональной напряженности коры головного мозга, активации симпатического отдела ВНС в ранние постоперационные сроки, что в целом является адаптационно-трофической формой мобилизации компенсаторных резервов противоинфек-ционной защиты и вполне обоснованно находит отражение в более эффективной нормализации показателей ИС у больных с ФЧЛО и их выздоровлении. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Личное участие автора выразилось в формировании постулата о необходимости нейроиммунологического анализа при иммунокоррекции, поиске адекватных методов исследования и овладении техникой их проведения, разработке способа лечения больных с ФЧЛО с использованием ЛФ, личном оперировании, лечении и комплексном обследовании большинства больных, анализе и статистической обработке полученных результатов.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ. Основные положения диссертационной работы были представлены и обсуждены на следующих научно-практических конференциях: S Российский научный форум с международным участием «Стоматология нового тысячелетия», Москва, февраль, 2002; S II Общероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы амбулаторной хирургической стоматологии», Краснодар, август, 2002; S Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 85-летию кафедры госпитальной хирургии, Краснодар, ноябрь, 2005; S На совместном заседании кафедр хирургической стоматологии и челю-стно-лицевой хирургии, ортопедической, терапевтической, детской, пропедевтической стоматологии, кафедры стоматологии ФПК и ППС, патологической физиологии, клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, сотрудников гнойного отделения челюстно-лицевого стационара ГУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника департамента здравоохранения Краснодарского края - Краснодарский краевой стоматологический центр», Краснодар, 28 марта, 2006г.
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИКУ
Результаты и методы исследования используются в работе гнойного отделения челюстно-лицевого стационара ГУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника департамента здравоохранения Краснодарского края -Краснодарский краевой стоматологический центр»; челюстно-лицевого отделения центральной многопрофильной больницы г. Гулькевичи; в научно-практической деятельности кафедры хирургической стоматологии и челюст-но - лицевой хирургии Кубанского государственного медицинского университета (КГМУ) (См. Приложения).
Современные взгляды на этиологию и патогенез заболевания
Литературные данные свидетельствуют, что в настоящее время наиболее частыми причинами развития ОГВЗ ЧЛО являются условно-патогенные бактерии, которые в 90% случаях вегетируют в гнойной ране в виде ассоциаций (А.Г. Шаргородский, 2002; А.В. Сидорук, 2004). Использование современных газовых сред и оборудования позволило проводить более прецизионную идентификацию микробного «пейзажа» и декларировать, что микрофлора стала полимикробна с преобладанием анаэробных культур (А.А. Никитин, 1998). Тем не менее, работы последних лет указывают, что ни вид возбудителя, ни количество микробных тел не являются основополагающими в развитии ОГВЗ (Г.Г. Думбадзе и др., 1996; А.В. Воленко, 1998).
Полученные факты об идентичности микрофлоры в очагах околочелюстной острой одонтогенной инфекции и «причинных» зубах (А.А. Кунин и др., 1996; А.В. Сидорук, 2004) являются уже не гипотезой, а скорее, концепцией о путях проникновения одонтогенной инфекции. Однако, учитывая хорошо известные эпидемиологические данные о широкой распространенности осложненных форм кариеса, о несоизмеримо низким по сравнению с ними, проценте возникновения ФЧЛО, налицо краеугольный камень проблемы лечения и профилактики ФЧЛО. Почему и при каких условиях в большинстве своем сапрофитные, вегетирующие на слизистой полости рта микроорганизмы, вызывают развитие ОГВЗ? Почему развиваются не абсцессы, а флегмоны, с присущими им свойствам к агрессивному распространению и системным осложнениям? Ответом на него может служить снижение противоинфекционной резистентности (М.А. Карсонова и др., 1999), следствием чего, является превалирование в современной инфекционной патологии оппортунистических микроорганизмов. Они характеризуются малой патогенностью и поэтому могут вызвать инфекционный процесс только при существенном понижении иммунологической реактивности организма, при этом, как правило, являются не контагиозными. Другой возможной причиной, но неразрывно гносеологически связанной с первой, является накопление фактов о том, что ФЧЛО являются не первично острым гнойно - воспалительным процессом, а обострением хронического (К.А. Рогов и др., 1988; Г.П. Тер-Асатуров, 2005), со всеми вытекающими выводами и лечебными мероприятиями.
Изменения иммунологической реактивности при ОГВЗ чаще представлено вторичной иммунной недостаточностью (ВИН). Проявления воздействия повреждающего фактора на иммунную систему (ИС) и на весь организм в целом, зависит не только от силы и продолжительности этого воздействия, но и от общего состояния организма и исходной иммунореактивности. Наиболее частым внешним проявлением любой ВИН является повышенная инфекционная заболеваемость и развитие осложнений, диапазон которых необычайно широк: от простого нагноения до заболеваний, нередко заканчивающихся летально (О.В. Цымбалов, 2005).
Действительно, при исследовании иммунологического статуса у больных с ОГВЗ были выявлены те или иные, в большей или меньшей степени выраженные и чаще комбинированные нарушения в различных звеньях ИС.
У больных с осложненным и неблагоприятным течением заболевания определялась выраженная морфо-функциональная недостаточность иммуно-компетентных клеток (ИКК), воспроизводимая в большинстве исследований в виде снижения общего числа лимфоцитов (Лф) и иммунорегуляторного индекса (ИРИ) (А.Ю. Дробышев, 1996). При этом определялось увеличение количества активных клеток, реагирующих на митоген и возрастание количества В-клеток (Е.А. Афанасьева 1992); снижение функциональной активности Т-Лф (Я.А. Кульбашная, 1990); снижение количества как хелперно-индукторных (CD4+), так и цитотоксических- супрессорных (CD8+) Лф со значительной экспрессией активационного маркера готовности к апоптозу -CD95 (М.Л. Маркина и др., 1999). Показатели гуморального иммунитета носили изменения различной модальности и направленности (Р.В. Ушаков и др., 1997; А.Г. Ушич и др., 1997). На фоне лейкоцитоза и нейтрофилии, непосредственно связанных с остротой и тяжестью процесса (А.И. Воложин, 1996, 2001), достаточно постоянно отмечалось нарушение фагоцитарной функции нейтрофильных гранулоцитов (НГ) в виде снижения фагоцитарного числа и показателя завершенности фагоцитоза (А.И. Воложин, 2001). Также была выявлена депрессия микробицидной как кислород-зависимой (А.И. Воложин, 2001), так и кислород-независимой (О.В. Цымбалов, 2005; Г.П. Тер-Асатуров, 2005) функции НГ.
Выявленные факты ВИН, вне зависимости от того детерминировали ли они развитие ФЧЛО или являлись формой декомпенсации, индуцированной тяжестью воспалительного процесса, послужили для авторов поводом включения в схему традиционного лечения различных иммунокорректоров.
В качестве последних были использованы: тимоген внутримышечно и местно в виде тимоген-новокаиновых блокад и внутрикостно (А.А. Байшула-ков, 1990); миелопид (О.А. Молдогумов, 1990); Т- активин (А.Ю. Дробышев, 1996; А.И. Воложин, 1996); кемантан (М.Л. Маркина, 1999); неовир (И.Б. Нектаревская, 2001); рекомбинантный ИЛ-1р (М.М. Соловьев и др., 2000); ликопид (B.C. Тимошилова, 1999) и др.
При этом, судя по представленным данным, все примененные иммуно-тропные лекарственные средства (ИТЛС) показали высокие клинико - иммунологические результаты. Быстрее нормализовалась температура тела, улучшалось самочувствие и отмечалась активизация репаративных процессов в гнойной ране, сокращались сроки гноетечения, быстрее исчезали инфильтрация и отек в зоне воспаления. Более эффективно и полноценно восстанавливались иммунологические показатели: возрастало количество Т-Лф (в основном за счет Т-хелперов), снижалась Т- супрессорная субпопуляция Лф, снижалось количество клеток, экспрессирующих рецептор апоптоза, увеличивалась экспрессия маркера адгезии CD54; восстанавливался ИРИ; уменьшался гиперлейкоцитоз с тенденцией к нормализации всех классов иммуноглобулинов, ликвидировались дефекты фагоцитарной и микробицидной функции НГ.
Достойны уважения научное предвидение наличия ВИН у больных с ФЧЛО, упорная научно-исследовательская работа по обнаружению подтверждающих фактов и попытки коррекции последних с целью повышения эффективности традиционного лечения. Однако также как о боеспособности армии в целом нельзя судить по состоянию каждого из ее отдельных подразделений, некорректно оценивать функциональную эффективность иммунологического надзора по состоянию отдельных звеньев ИС. Данная посылка основывается на накопленных на сегодняшний день фактах о существовании в целостном организме общего, объединенного единым гуморальным полем, нейро-гуморально-иммунологического структурно-функционального блока -дифферона (В.В. Абрамов, 2004), предназначением которого является поддержание динамического функционального гомеостаза.
Взаимоотношения нервной и иммунной систем
Нервной и ИС присущ ряд общих свойств и функций: и нервная, и ИС обеспечивают взаимодействие организма со средой; только они обладают способностью воспринимать экзо- и эндогенные сигналы, при этом нервная система воспринимает сенсорные сигналы, иммунная — генетически чуждые сигналы. Однако конечная «цель», «задача» для этих систем принципиально сходна — поддержание постоянства внутренней среды организма, сохранение свойственных констант гомеостаза, обеспечение возможности выживания (Е.А. Корнева, 2003). Выполнение этих функций реализуется в обеих системах приблизительно равным количеством клеток (порядка 1012), причем, как известно, при всей разнице в строении, распределении, взаимодействии нейронов и иммуноцитов только эти системы и составляющие их элементы обладают способностью воспринимать информацию, обрабатывать ее и формировать определенный для данной ситуации и системы ответ. Только нервная и ИС могут хранить полученную информацию и использовать ее в последующей жизнедеятельности, то есть обладают свойством памяти (В.В. Абрамов, 2004). В нервной и ИС работают общие белки, химически идентифицированные. Многие регуля-торные пептиды функционально значимы для обеих систем: они не только работают в этих системах, но многие из них продуцируются и в нейроэндок-ринной и в ИС, например интерлейкины, тимические гормоны, адренокорти-котропный гормон, эндорфины и др. Нейроны и иммуноциты снабжены одинаковыми рецепторными аппаратами, то есть эти клетки реагируют на сходные лиганды (Е.Г. Рыбакина, 2003).
Многоуровневая нейрогуморальная регуляция функций ИС осуществляется неспецифически по принципу стратегических регуляторных влияний, направленных на изменение генетических потенциальных возможностей предшественников иммуноцитов, и по принципу тактических регуляторных влияний, оперативно корригирующих активность ИКК в конкретной ситуации (Е.А. Корнева, 1993). Если качественная характеристика ИО определяется свойствами антигена, то интенсивность - не только его качеством и количеством, но и рядом других факторов, в том числе и нейрогуморальными, которые являются неспецифическими компонентам, модулирующими специфические (иммунные) процессы (Е.А. Корнева, 2003).
Согласно современным представлениям, иммунная защита реализуется при сочетанной работе органов ИС, которые имеют хорошо развитую иннервацию и кровоснабжение, что обусловливает возможность экстренного поступления в окружающую лимфоидные клетки среду различных биологически активных веществ - нейромедиаторов, гормонов, продуктов метаболизма (Е.А. Корнева, 2003; В.В. Абрамов, 2004). Таким образом, лимфоидные клетки и органы находятся под массой различных эндогенных (интра- и экстраиммун-ны) влияний, которые в эксперименте и клинической практике изменяют интенсивность ИО (В. В. Абрамов, 2004).
По современным представлениям в структуру центрального аппарата нейроиммуномодуляции входят следующие отделы мозга: гипоталамус, гип-покамп, амигдала, холинергические нейроны базального ядра Мейнерта и септума, норадренергические нейроны голубого пятна, дофаминсинтези-рующие нейроны мезолимбической и нигростриатной систем, ГАМК- ерги-ческие нейроны хвостатого ядра, серотонинергические нейроны ядер шва (Г.Н. Крыжановский и др., 1997; В.В. Абрамов, 2004).
Ключевым звеном аппарата нервной регуляции ИС является гипоталамус. Принимая во внимание ключевое значение гипоталамуса в регуляции функций висцеральных систем, можно полагать, что регуляторные влияния ЦНС на ИС осуществляются именно этим отделом мозга, а влияния других отделов мозга опосредуются гипоталамусом и обеспечивают выполнение его регуляторной функции (Г.Н. Крыжановский, СВ. Магаева, СВ. Макаров, 1997). Данные о нарушении ИО при изменениях состояния негипоталамиче-ских структур, а также их прямых или косвенных связей с гипоталамусом, свидетельствуют о важном значении этих отделов мозга в обеспечении нормальной функции аппарата нейроиммунорегуляции (Е.А. Корнева, 2003). Гипоталамус связан со всеми остальными звеньями центрального аппарата нейроиммуномодуляции и дает начало сложному эфферентному пути передачи центральных нейрорегуляторных влияний на ИКК, которые обладают соответствующими рецепторами или связывающими сайтами по отношению к факторам нервной регуляции (нейротрансмиттерам, нейропептидам), а также к гормонам эндокринных желез (Э.К. Шхинек, 1993; В.В. Абрамов, 2004), функции которых также регулируются нервной системой. Начиная с первых минут после внедрения иммуногена в организм, гипоталамус получает информацию о нарушении антигенного гомеостаза. Наиболее рано изменяется электрическая активность и постоянный потенциал заднегипоталамического ядра, затем в реакцию вовлекаются другие отделы гипоталамуса и таким образом формируется пространственно-временной паттерн биоэлектрической активности, характерный для ответа на иммуно-ген, но не возникающий у толерантных к данному антигену животных (Е.А. Корнева, 1993,2003). Имеются основания полагать, что этот паттерн обеспечивает регуляторные гипоталамические влияния на ИС. Об этом свидетельствует возможность изменения иммунологической реактивности при искусственном его воспроизведении непосредственно перед введением антигена. В этих условиях применение антигена в субиммуногенной дозе приводило к индукции синтеза антител (В.А. Григорьев, 1993; В.М. Клименко, 1993; В.М. Клименко, А.П. Пуговкин, 1993; Е.А. Корнева и др., 1993; И.Д. Столяров, 1996). На продуктивной фазе ИО изменяется импульсная активность переднего гипоталамического поля и вентромедиального ядра (В.В. Абрамов, 2004; U.Ch. Schneider et al, 1986). На стадии завершения выведения антигена из крови происходит кратковременная нормализация нейрональной активности. Однако в период завершения экспоненциальной фазы продуктивной стадии ИО возникает вторая волна изменений нейрональной активности с последующей нормализацией на стадии значительного снижения синтеза антител (В.М. Клименко, 1993; Е.А. Корнева и др., 1993).
Оценка состояния сверхмедленных физиологических процессов
СМКП характеризовались периодом волны и выраженностью колебаний (количество за 10 минут). В зависимости от периода волны различали СМКП секундного (дзета), декасекундного (тау) и минутного (эпсилон) диапазонов (Рис. 2.3.4.).
Применительно к цели исследования выделяли отсутствие (единичные) (0-3/10 минут), умеренные (4-12/10 минут), и выраженные (более 13/10 минут) СМКП дзета и тау диапазонов.
В основу анализа получаемых омегаграмм легла типология динамики СМФП, разработанная В.А. Илюхиной и И.Б. Заболотским (1997).
Низкие негативные значения ОП (от -5 до -20 мВ) характеризуют низкий уровень бодрствования с психологическими и клиническими проявлениями астенических состояний, ограничением приспособительных возможностей основных регуляторных систем, адаптивных функциональных резервов и неспецифической резистентности организма к стрессорным воздействиям.
Средние негативные значения ОП (от -20 до -40 мВ) обнаруживаются при оптимальном уровне бодрствования, адекватных и оптимальных для данного состояния здорового или больного человека реакциях на любые виды эндогенных и экзогенных воздействий.
Высокие негативные значения ОП (от -40 до -60 мВ и выше) указывают на состояние психоэмоционального напряжения. На поведенческом уровне это проявляется парадоксальными реакциями на воздействия любого рода. 2.4. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) проводился на основе функционально обоснованного алгоритма его оценки, предложенного Ю.Р. Шейх-Заде и др. (2001).
1. Стандартизация условий оценки ВСР, то есть проведение исследо вания по возможности утром, в положении лежа, натощак, при температу ре комфорта и отсутствии эмоциональных, сенсорных и других дестабили зирующих факторов (чай, кофе, алкоголь, табак, кардио- и нейротропные препараты). Критерием соблюдения этих требований для здоровых лиц яв лялся уровень испытываемого стресса (УИС, усл.ед.), определяемый по формуле:
УИС = В1/3 х ТЧСС х ПАД х 0,000126, где В - масса тела (кг), ПАД - пульсовое АД (мм рт. ст.). При этом УИС, равный 1,00-1,50 усл.ед., соответствует норме, а 1,51-2,00 и 2,00 - соответственно умеренному и выраженному сердечнососудистому стрессу (Ю.Р. Шейх-Заде и др., 2000).
2. Определение ДЧСС.
Значение ДЧСС определяется, прежде всего, массой тела (М, кг). В самом общем виде эта зависимость описывается уравнением: ДЧСС х М1/3= const (К. Шмидт-Ниельсен, 1987), из чего следует, что у более крупных людей ДЧСС должна быть ниже, чем у небольших людей, и наоборот. Последнее объясняется условиями энергообмена у теплокровных, который зависит также от роста, возраста и пола организма. ДЧСС определялась по формуле: ДЧСС= 48 х (Р / М),/3, где Р -рост (см), М - масса тела (кг) (Ю.Р. Шейх-Заде и др., 2000).
3. Двухминутная запись ЭКГ в условиях полного молчания, спокой ного и равномерного дыхания, а также при исключении глотательных движений. 4. Ранжирование интервалов RR с шагом 40-50 мс.
5. Определение средней ТЧСС (мин1) во время записи.
6. Определение среднего текущего интервала (СТИ мс) RR ЭКГ по формуле: СТИ=60000/ТЧСС.
7. Определение варианта сердечного ритма (тахи-, нормо-, бради-ритмия) по разнице между ТЧСС и ДЧСС, определяемой по формуле: ДЧСС=100(ТЧСС-ДЧСС) / ДЧСС, где АЧСС - искомый показатель в %. О тахи- или брадиритмии можно говорить, если ДЧСС 5%, то есть величины, принятой в медицине в качестве диапазона варьирования нормы.
8. Определение вариационного размаха (ВР, мс) интервала RR по разнице между интервалами RRmax и RRmin.
9. Вариационный размах отражает выраженность синхронизирующего компонента хронотропного эффекта блуждающего нерва (Ю.Р. Шейх-Заде и др., 1990). Однако более надежным коррелятом последнего является среднеквадратическое отклонение (СКО или ±s, мс) интервала RR, составляющее при правильном выполнении методики около 1/6 вариационного размаха (Г.Ф. Лакин, 1980) и отражающее изменчивость 68,27 % кардио-циклов относительно среднего интервала RR (RRcp.) или по P.M. Баевско-му (1979) - уровень активности парасимпатического отдела ВНС.
10. Определение коэффициента вариации (KB, %) интервала RR по формуле: КВ=100хСКО/СТИ. Указанный параметр носит нормированный характер и поэтому является важнейшим индексом ВСР, позволяя сравнивать последнюю у разных людей при различных состояниях организма независимо от фоновой частоты сердечных сокращений и составляет в норме 5,2 - 7,6%. Более наглядным может быть уровень лабильности ритма сердца (УЛР), представляющий собой среднее абсолютное отклонение всех интервалов RR от RRcp.
11. Определение моды (Мо, мс.) интервала RR, близость или совпадение которой со СТИ указывает на отсутствие тонического дрейфа ТЧСС во время записи ЭКГ.
12. Определение амплитуды молы (АМо, %), отражающей частоту поцикловой коррекции сердечного ритма или величину симпатической активации (P.M. Баевский, 1979).
Методика позволяет также оценить эффективность взаимодействия различных контуров регуляции и саморегуляции сердца. Согласно современным представлениям конечной целью этого взаимодействия является адаптация, т.е. экономизация функций организма при одновременном повышении коэффициента полезного действия. Соответственно обратный процесс называется дезадаптацией и описывается эмпирическим уравнением (P.M. Баевский, С.Г. Гуров, 1988):
АП=0,011хЧСС+0,014хСАД+0,08хДАД+0,014хВ+0,009хМ-0,009хН-0,27, где АП - адаптационный потенциал ССС, САД - систолическое АД (мм рт.ст.), ДАД - диастолическое АД (мм рт.ст.), В-возраст в годах, Н-рост (см). Значение показателя ниже 2,10 усл.ед. указывает на удовлетворительное взаимодействие процессов регуляции кровообращения. Увеличение индекса более 2,10 усл.ед. говорит о напряжении механизмов адаптации, которая становится неудовлетворительной в диапазоне 3,21-4,30 усл.ед. Дальнейший рост показателя означает срыв адаптации и необходимость срочных лечебных мероприятий.
В число изучаемых показателей входили антропометрические данные, должные и фактические величины ЧСС и АД, показатели, характеризующие вариабельность сердечного ритма (ВСР): вариационный размах, среднеквадратичное отклонение, коэффициент вариации, уровень лабильности сердечного ритма.
Характер сверхмедленных физиологических процессов в оценке функциональной активности головного мозга у больных с ФЧЛО
В мировой и отечественной научной литературе достаточно неоднозначно трактуется вопрос о генезе сверхмедленных физиологических процессов (СМФП) и их видов: устойчивой составляющей - постоянный омега потенциал (ОП) и динамической составляющей - сверхмедленных колебаний потенциалов (СМКП). Однако более обоснованными и концептуальными являются следующие представления. ОП головного мозга формируется как интегральный показатель степени поляризации нейронов, астроцитов и гемато-энцефалического барьера, особенно в области ствола мозга (А. Лабори, 1974; R. Gummt, 1974; К. Sato, F. Sato, 1982). В качестве основного генератора ОП признаются нейро-глиальные популяции. Вклад поляризации нейронов в суммарную величину ОП головного мозга в норме не превышает 20% (В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева, 1994). СМКП имеют в основе генерируемые гли-альными клетками ритмичные циклы де- и гиперполяризации мембран апикальных дендритов, а в частотной полосе 0,1-0,2 Гц соотносятся с подобной ритмичностью нейронов в ретикулярной формации среднего мозга (А.И. Ройтбак, 1969; J. Sedlacek, 1973). При госпитализации уровень фонового ОП у больных изучаемых групп не имел межгрупповых отличий и составил (- 29,30)±3,79 мВ. При этом его аплитудное значение было достоверно более высоким, чем в контрольной группе здоровых лиц (против (-19,56)±2,17) мВ. В процессе традиционного лечения: на следующие и 5 сутки, в день наложения вторичных швов (НВШ) достоверных изменений величины ОП не определялось ((- 27,53)±3,76 мВ; (-29,65) ±3,93 мВ; (-32,00)±5,11 мВ соответственно), за исключением незначительной его негативизации в день НВШ. При снятии вторичных швов (СВШ) наблюдалась тенденция к снижению его ампли тудного значения (-24,62±3,17 мВ против (-29,30)±3,79 мВ при госпитализации).
При включении в схему традиционного лечения иммуннокоррекции лейкинфероном уровень фонового ОП претерпевал принципиальные отличия (Рис. 3.1.1.). Уже на следующие сутки после применения лейкинферона у больных с ФЧЛО было обнаружено снижение негативизации в виде достоверного уменьшения амплитудного значения ОП: (-18,10)±2,90 мВ против (-29,30)±4,88 мВ при госпитализации (р 0,05) и против (-27,53)±3,76 мВ (р 0,05) у больных 1гр. в этот же срок исследования. На 5 сутки наблюдалась тенденция к увеличению его амплидудного значения по отношению к предыдущему сроку исследования (-22,43 )±3,56 мВ, р 0,05) при этом с достоверной разницей по отношению к больным 1 гр. в этот же срок исследования (-29,65)±3,93; мВ р 0,05). После 5 суток при НВШ и при СВШ, величина ОП оставалась стабильной и, по-прежнему, достоверных изменений ее амплитудного значения у больных 2гр. не определялось - (-22,43)±3,56 мВ, (-23,57)±3,48 мВ, (-21,20)±4,22 мВ соответственно). Динамика выраженности СМКП у больных, находящихся на традиционном лечении и получающих иммунноориентированную терапию представлены в Таблица 3.1.2.
При госпитализации сумма секундных и декасекундных (соответственно дзетта- и тау-волн) у больных изучаемых групп не отличалась и составила 16,3±0,77, при этом статистически достоверно отличаясь от группы контроля (против 8,9±1,75). Величина СМКП у больных 1гр. на первые и пятые сутки имела тенденцию к незначительному снижению, однако при НВШ и в еще большей степени при СВШ вновь резко увеличивалась. При НВШ и при их снятии величина суммы дзетта- и тау-волн превышала значения, выявленные даже при госпитализации, с достоверной разницей как по отношению к предыдущему сроку, так и к уровню при поступлении в стационар.
Иной характер динамики СМКП был обнаружен у больных, в схему традиционного лечения которых был включен лейкинферон (Табл. 3.1.2.).
Так же как и у больных 1 гр. на следующие сутки после вскрытия флегмоны величина СМКП снижалась, однако, более выражено, практически в два раза, что позволило обнаружить достоверную разницу против уровня при госпитализации (9,4±0,45/10 мин против 16,3±0,66/10 мин) и по отношению к больным, получающих базисную терапию в однотипный срок исследования (против 15,4±0,64 /10 мин - р 0,05). Кроме того, на фоне иммуноориентированной терапии в отличие от больных, находящихся на традиционном лечении, градация снижения величины СМКП была столь весомой, что позволило скоррегировать уровень последней до уровня, зарегистрированного в группе здоровых лиц. На пятые сутки и при НВШ также как и у больных 1 гр. прослеживалась тенденция к увеличению изучаемого показателя, однако с недостоверной разницей, что в целом свидетельствовало о стабилизации величины ОП под влиянием иммунокоррекции лейкинфероном уже на следующие сутки после его назначения и вскрытия ФЧЛО вплоть до окончания лечения. При СВШ она вновь имела тенденцию к уменьшению, при этом достоверно отличаясь от величины СМКП при госпитализации и от величины, обнаруженной у больных 1гр. в однотипный срок исследования.
Более полная информация о состоянии СМФП у исследуемых больных была получена путем дифференцирования больных по величине встречаемости ОП и выделения подгрупп в изучаемых группах с учетом типологических характеристик спонтанных СМФП (В.А. Илюхина, И.Б. Заболотских, 1997).
Для более корректной оценки динамики фоновой величины спонтанного ОП больные были разделены на три группы соответственно его уровню. Группа «А» - больные с низкими значениями ОП - (40-(-15) мВ); группа «Б» - со средними значениями ОП (-Іб-(-ЗО) мВ); группа «В» - больные с высокими значения ОП (более (-31) мВ).
При поступлении характер распределения значений устойчивого фонового со- потенциала у больных 1гр., находящихся на традиционном лечении, и у больных 2гр., в схеме базисной терапии которых применялся лейкинфе-рон, был сопоставим и не имел достоверных межгрупповых отличий, что позволило объединить больных при поступлении в единую группу. Полученные данные о характере распределения спонтанного ю- потенциала у больных с ФЧЛО в динамике лечения представлены в Табл. 3.1.3.
Таблица 3.1.3 Когорта больных с низкими значениями ОП составила 50,0±2,78% от всех пациентов, подгруппа со средними амплитудными величинами -31,8±2,44%, а с высокими значениями - 18,2±1,98%. На следующие сутки после вскрытия ФЧЛО контингент больных 1гр. с низкими значениями ОП имел тенденцию к сокращению (45,44±3,64 % против 50,0±2,78% - группа А) за счет увеличения числа больных со средними значениями ОП (36,36±3,22% против 31,8±2,44% - р 0,05). В группе больных с исходно высокими значениями ю- потенциала изменений не было обнаружено.
На 5 сутки постоперационного течения у пациентов, получающих базисную терапию, продолжала расширяться подгруппа со средними значениями фонового ОП - до 40,91 ±4,21%, также имелась тенденция к увеличению числа больных с высокими значениями ш- потенциала (22,73±3,12% против 18,18±1,37%), при этом когорта больных с низкими значениями ОП уменьшилась (36,36±2,57% против 45,44±3,64%).
Тенденция к расширению относительного объема больных со средними значениями ОП сохранялось и в день наложения вторичных швов (до 45,45±3,86% против 31,8±2,44% при госпитализации; р 0,05). Также наблюдалось не существенное увеличение числа больных с высоким уровнем спонтанного ОП (до 27,27±2,94%) за счет достоверного снижения числа больных с низкими значениями ОП (до 27,27±3,57% против 36,36±2,57% в предыдущий срок исследования).
В день снятия вторичных швов, по-прежнему, сохранялась тенденция к расширению когорты больных со средними значениями ОП: они составляли уже около 60% в общей массе больных 1гр. Увеличение числа больных группы «Б» происходило за счет снижения относительного объема больных с низкими значениями ОП. Группа больных с высокими значениями ОП не изменялась (Табл. З.1.З.).
Существенные межгрупповые различия в величине фонового ОП были обнаружены у больных с ФЧЛО при включении в схему традиционного лечения иммуноориентированной терапии ЛФ.