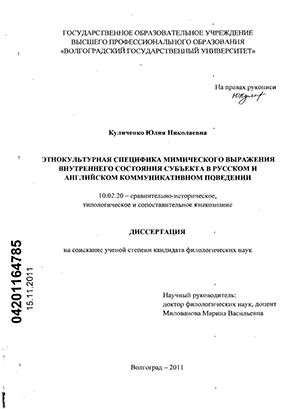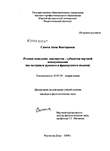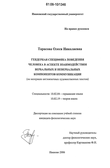Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Проблематика исследований невербальных компонентов коммуникативного поведения 9
1.1. Антропоцентрическое направление в современном языкознании 9
1.2. Понятие коммуникативного поведения и его национально-культурные особенности 19
1.3. Мимика как невербальный компонент коммуникативного поведения 30
1.4. Лингвокогнитивный анализ как способ описания внутреннего состояния субъекта 42
ГЛАВА 2. Когнитивные сценарии мимических проявлений деструктивных эмоциональных состояний 51
2.1. Когнитивный сценарий «Гнев» 51
2.2. Когнитивный сценарий «Страх» 68
2.3. Когнитивный сценарий «Презрение» 77
2.4. Когнитивный сценарий «Отвращение» 87
2.5. Когнитивные сценарии «Смущение» и «Стыд» 92
2.6. Когнитивный сценарий «Печаль» 99
ГЛАВА 3. Когнитивные сценарии мимических проявлений конструктивных эмоциональных состояний 108
3.1. Когнитивный сценарий «Удивление» 108
3.2. Когнитивный сценарий «Интерес» 117
3.3. Когнитивный сценарий «Радость» 131
Заключение 144
Список литературы
- Понятие коммуникативного поведения и его национально-культурные особенности
- Лингвокогнитивный анализ как способ описания внутреннего состояния субъекта
- Когнитивный сценарий «Презрение»
- Когнитивный сценарий «Радость»
Введение к работе
Диссертационное исследование выполнено в русле когнитивной и контрастивной лингвистики, лингвокультурологии и психолингвистики.
Актуальность данной работы обусловлена следующими факторами: 1) интенсивным развитием когнитивных и лингвокультурологических исследований в рамках антропоцентрического подхода; 2) высоким интересом к эмоциональной сфере человека и языковым средствам ее описания; 3) необходимостью изучения невербальных компонентов коммуникации для понимания национально-культурной специфики коммуникативного поведения; 4) отсутствием комплексного описания разноуровневых языковых средств выражения мимических проявлений внутреннего состояния человека, релевантных для национального (русского и английского) коммуникативного поведения.
Языковые средства характеристики человека находятся в сфере научных интересов многих исследователей, но, несмотря на это, данная тема остается недостаточно изученной, что объясняется ее многоаспектностью. Ученых интересуют разные стороны этой проблемы: способы номинации человека и качественной характеристики лица (В.В. Катермина, Е.Р. Ратушная и др.); особенности внешней характеристики и ее связь с внутренним миром человека (В.М. Богуславский, Ю.В. Мещерякова, С.В. Овчинникова и др.); вербальные и невербальные компоненты коммуникативного поведения (И.Н. Горелов, Т.Г. Ренц, Н.И. Формановская и др.); национально-культурная специфика языковых единиц, характеризующих человека (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Д.О. Добровольский и др.), их функционирование в художественном тексте (И.А. Голованова, А.В. Мишин и др.) и сопоставление с аналогичными языковыми явлениями в других языках (Е.Ф. Арсентьева, В.А. Маслова и др.).
Высок интерес к эмоциональной сфере человека, многогранность проявлений которой рассматривают многие исследователи (Л.Е. Антонова, Н.А. Багдасарова, З.Ю. Балакина, Н.В. Дорофеева, Н.В. Кириллова, Н.А. Красавский, С.А. Малахова, Л.Г. Озонова, П.М. Омарова, К.О. Погосова, Е.Е. Стефанский, В.И. Шаховский, D. Goleman, G. Lakoff, W. Miller, C. Tavris, A. Wierzbicka и др.).
Значительное внимание в рамках антропоцентрического подхода исследователи уделяют изучению коммуникативного поведения. Ученые рассматривают различные аспекты данного вопроса, однако в научной литературе отсутствует комплексное описание языковых средств выражения мимических проявлений внутреннего состояния человека, релевантных для национального (русского и английского) коммуникативного поведения.
В основу работы положена гипотеза о том, что внешнее (мимическое) выражение внутреннего состояния субъекта моделируется в виде когнитивного сценария, содержанием которого является динамика эмоциональной сферы, что находит отражение в семантике языковых единиц и в этнокультурной специфике коммуникативного поведения.
Объектом исследования является коммуникативное поведение, предметом – средства выражения внешнего (мимического) проявления внутреннего состояния субъекта как определенного коммуникативного поведения в русском и английском языках.
Цель данной работы – выявить и описать этнокультурную специфику мимических средств выражения внутреннего состояния субъекта в русском и английском коммуникативном поведении. Поставленная цель обусловливает следующие исследовательские задачи:
1) выстроить когнитивные сценарии деструктивных и конструктивных эмоциональных состояний, нашедших отражение в системе языковых средств выражения мимического проявления внутреннего состояния субъекта, и описать их структурные элементы;
2) определить базовые когнитивные сценарии внутреннего состояния субъекта, релевантные для русского и английского коммуникативного поведения;
3) охарактеризовать закономерности репрезентации мимического проявления внутреннего состояния субъекта в рамках выстроенных когнитивных сценариев в семантике языковых единиц (свободные сочетания, устойчивые сочетания);
4) установить определенный набор скринов в рамках эпизода «внешнее проявление (мимика)» и описать их представленность в русском и английском языках;
5) выявить в семантике данных языковых единиц лингвокультурную специфику репрезентации определенного коммуникативного поведения.
Материалом нашего исследования являются тексты произведений русской и английской художественной литературы, из которых методом сплошной выборки извлечены языковые средства выражения мимического проявления внутреннего состояния субъекта (около 3000 случаев употребления). Помимо этого, материалом исследования являются данные Национального корпуса русского языка, British National Corpus, русских и английских фразеологических словарей. В качестве единицы исследования рассматривалось высказывание с обозначением либо описанием мимических средств выражения внутреннего состояния субъекта.
Методологической и теоретической базой диссертации являются работы ведущих отечественных и зарубежных исследователей в области:
– сопоставительного изучения языков и лингвокультур (Е.В. Бабаева, С.Г. Воркачев, В.Г. Гак, Д.О. Добровольский, В.И. Карасик, М.В. Милованова, Н.Л. Шамне, I. Bilkova);
– когнитивной лингвистики (Ю.Д. Апресян, Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, М.В. Пименова, З.Д. Попова, Г.Г. Слышкин, И.А. Стернин, G. Lakoff);
– исследования коммуникативного поведения и межкультурной коммуникации (П.Н. Донец, Г.Е. Крейдлин, Л.В. Куликова, Т.В. Ларина, О.А. Леонтович, С.Г. Тер-Минасова);
– изучения эмоциональной сферы человека (К. Изард, Е.П. Ильин, Н.А. Красавский, Е.Е. Стефанский, В.И. Шаховский, P. Ekman, D. Goleman и др.).
Сопоставительный метод является основным в нашем исследовании, но наряду с ним используются элементы компонентного, контекстуального и когнитивного анализа, описательный метод, элементы стилистического и лингвокультурологического анализа.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что данная работа вносит определенный вклад в развитие лингвокогнитологии, лингвокультурологии, характеризуя репрезентацию установленных когнитивных сценариев выражения внешнего (мимического) проявления внутреннего состояния субъекта в русском и английском языках. На основе лингвистического анализа невербальных средств коммуникации выявлена степень их значимости в коммуникативном поведении представителей неблизкородственных культур. Предложенная методика построения когнитивных сценариев может найти применение в других исследованиях по этнолингвистике и лингвокультурологии.
Научная новизна исследования заключается в том, что различные эмоциональные состояния рассматриваются в виде когнитивных сценариев; уточняется структура данных сценариев с позиций релевантности составляющих их единиц (эпизодов – минимальных этапов сценария – и скринов – статических состояний, фиксирующих отдельный элемент мимики) для русского и английского коммуникативного поведения. Разработана типология средств выражения мимического проявления внутреннего состояния субъекта в русском и английском языках. Установлена этнокультурная специфика мимического выражения деструктивных и конструктивных эмоциональных состояний в коммуникативном поведении представителей неблизкородственных культур.
Практическая значимость работы определяется тем, что материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе: в вузовском курсе лексикологии, в спецкурсах по лингвокультурологии, в практике преподавания русского языка как иностранного (материалы данной работы могут способствовать расширению знаний о лексической сочетаемости языковых единиц, характеризующих внешность человека, и их функционировании в тексте, о невербальных компонентах русского коммуникативного поведения). Применение материалов исследования возможно в школе на уроках русского и английского языков и в вузовском курсе английского языка для студентов-филологов и психологов. Результаты исследования могут быть полезны при лингвистическом анализе художественного текста.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Конститутивными компонентами когнитивного сценария эмоционального состояния являются эпизоды «причина», «внутреннее состояние», «внешнее проявление (мимика)»; эпизод «внешнее проявление (мимика)», в свою очередь, включает определенный набор скринов, последовательность или одновременность которых моделирует динамику эмоциональной сферы субъекта.
2. В качестве базовых когнитивных сценариев внешнего проявления внутреннего состояния субъекта выступают гнев, страх, презрение, отвращение, смущение, стыд, печаль (деструктивные эмоциональные состояния) и радость, интерес, удивление (конструктивные эмоциональные состояния).
3. Наибольшую квалификацию в русской и английской лингвокультурах получает коммуникативное поведение в рамках деструктивных эмоциональных состояний, среди которых когнитивный сценарий «Гнев» характеризуется максимальной представленностью языковых средств выражения мимического проявления внутреннего состояния субъекта. В процессе репрезентации данного сценария преобладающей является квалификация изменения цвета лица: в русском языке как «движение из глубины наружу», в английском языке как «направленность движения вверх».
4. В рамках когнитивных сценариев деструктивных эмоциональных состояний в английской лингвокультуре отмечается разнообразие скринов, отражающих внешнее проявление состояния презрения, в отличие от русской лингвокультуры, для которой более релевантной является репрезентация смущения и стыда.
5. В рамках когнитивных сценариев конструктивных эмоциональных состояний релевантным для коммуникативного поведения в английской лингвокультуре является детальная квалификация внешнего проявления состояния удивления, в русской лингвокультуре – состояния радости (от низкой степени интенсивности до высокой).
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования представлены в виде докладов на международных и межрегиональных научных и научно-практических конференциях «Язык. Культура. Коммуникация» (Волгоград, 2008 г.), «Коммуникативные аспекты современной лингвистики и лингводидактики» (Волгоград, 2008, 2009 гг.), «Интеграционные процессы в коммуникативном пространстве регионов» (Волгоград, 2010 г.), «Лингво-Профи» (Владимир, 2010 г.), «Наука и современность-2011» (Новосибирск, 2011 г.), «Актуальные проблемы теории и методологии науки о языке» (Санкт-Петербург, 2011 г.); на ежегодных внутривузовских конференциях (Волгоград, 2008–2011 гг.). По теме диссертации опубликовано 18 работ (5,7 п.л.), в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
Структура работы. Диссертация включает введение, три главы, заключение и список использованной литературы.
Понятие коммуникативного поведения и его национально-культурные особенности
Познание и отражение реальной действительности в художественном: тексте направлено в. первую очередь на познание и отражение самого . человеками его; внутреннепхмира — в-этом заключается- антропоцентризм как определяющий признак художественного текста. По мнению; С.В: / Овчинниковой,: именно- антропоцентризм обеспечивает связность и) целостность:" художественного текста . [Овчинникова, 2001]; Центральное звено в структуре художественного текста -человек - имеет особую специфику своего изображения: Человек— это не только; объект описания; но ш та; семантическая доминанта, которая обусловливает: принципы организации-текста и» в итоге создает текстовое: единство. Поэтому важно не просто анализировать содержательные и языковые средства создания портрета, характера, действия героя: художественного произведения; но и обращать внимание.на; образ человека как одного из важнейших компонентов текста.
Человек - структурно сложная развивающаяся; динамическая система, представляющая собой; с одной стороны, живое; существо, имеющее материальную оболочку, с другой - высокоорганизованное существо, обладающее нематериальной сущностью; - сознанием. Понимание человека как двустороннего явления связано с его реализацией в окружающем мире:. Как часть природы, человек имеет физическое тело. Внешность, составляет проявление биологической субстанции человека. С другой стороны человек - часть общества, где он реализует свои взаимоотношения с другими людьми как личность. Понятие личности объединяет наличие в человеке индивидуально внутреннего мира - психический аспект, а также его существование в обществе как проявление социального аспекта. Таким образом, бытие человека определяется взаимодействием трех его аспектов: физического, психического и социального. Это переплетение преломляется в описании внешности и внутреннего мира человека.
Внешность и внутренний мир человека, существуя в тесной и сложной взаимосвязи друг с другом, соотносятся с философскими категориями внешнего и внутреннего; явления и сущности. М.М. Бахтин подчеркивает неразрывность внутреннего мира человека и его внешности, включенность внешности во внутренний мир, с одной стороны, и с другой - включенность ее в мир, окружающий человека [Бахтин, 1979]. А. Баранова также подчеркивает, что, «будучи неотъемлемым компонентом (а часто и одним из основных определяющих) бытия человека, его внешность может дать немало информации о мировосприятии представителей определенной национально-культурной общности» [Баранова, 2002, с. 374].
Изучению внешности и ее взаимосвязи с внутренним миром человека посвящены работы многих лингвистов [Демуцкая, 2004; Еримбетова, 2006, Иорданская, 2004; Маслова, 1988; Мещерякова, 2004; Овчинникова, 2001 и др] Лексико-семантическое поле (далее ЛСП) (или шире - тематическое поле) внешности человека имеет сложное строение. С. В. Овчинникова [Овчинникова, 2001], рассматривает четырехуровневую структуру данного поля, в основе которого лежит «когнитивная линия противопоставления внешности и внутреннего мира человека через противопоставление лексем "тело" - "душа"» (I уровень поля). Коституенты поля представляют собой следующую тематическую группу (II уровень): тело: голова, туловгш(е, конечности, кожа голова: лицо, лоб, затылок, виски, уши, волосы лицо: глаза, брови, рот, губы, скулы, щеки туловище: шея, грудь, живот, плечо, спина конечности: руки, ноги В свою очередь, они подразделяются на более частные подгруппы. На III уровне выделяются лексемы, называющие функциональные производные от перечисленных выше частей тела: взгляд, улыбка, смех, голос, крик, шепот, слух, мимика, жесты, походка, движения.
На IV уровне ключевые лексемы — конституенты поля - совмещаются с функциональными производными. Например: глаза - смотреть — взгляд; рот —язык — говорить — голос, тон, крик, шепот; рот — губы —улыбаться — улыбка, смех; уши — слышать — слух; ноги - ходить — походка и т.д.
Наличие в составе ЛСП внешности целого ряда ведущих лексем свидетельствует о полицентричности его структуры.
Ключевые лексемы данного ЛСП образуют два типа сочетаний: свободные и несвободные. Первые из них, в свою очередь, делятся на адъективные и глагольные. В контексте они реализуются как самостоятельно [высокий рост, бросил взгляд), так и во взаимодействии друг с другом {бросил бешеный взгляд, на лице изображалась глубокая грусть).
В некоторых случаях контекст становится более распространенным: в него могут включаться наречия (глаза чудесно сверкали), местоимения (бледные губы его улыбнулись), служебные слова (подмигивала то одним глазом, то другим). Нередки случаи, когда в роли прилагательных выступают причастия (смеющиеся глаза; блуждающий взгляд), а вместо личных форм глаголов - деепричастия (приняв глубоко тронутый вид); последние самодостаточны для краткой, но меткой характеристики (отвечал он, приосанившись).
Лингвокогнитивный анализ как способ описания внутреннего состояния субъекта
В центре нашего внимания- изучение языковых средств описания мимики сточки зрения-выражения: внутреннего.состояния субъекта и ее роли: в процессе коммуникации. Под эмоциональным состоянием мы понимаем не только саму эмоцию (внутреннее переживание субъекта), но № ее внешнее проявление. Соответственно,, при анализе языкового: материала мы .рассматриваем, прежде- всего; симптоматические - мимические проявления; выражающие эмоции, и собственно коммуникативные; как эмблемы; так и иллюстраторы.
Изучение эмоциональных состояний: чело века многоаспектно. ; ведется; уже не- одно; десятилетие-. Первенство- в этой" сфере всегда бесспорно принадлежало психологам, но в последнее время лингвисты также обратили пристальное внимание на этот вопрос, о чем свидетельствует появление: новой науки - эмотиологии, которую определяют как науку о вербализации,. выражении и;коммуникации эмоций:[Шаховский, 1987, 1996, 2008, 2009]:
Любая эмоцияг. сложна, многогранна и неоднозначна.. Она не существует как, некое неделимое целое или неизменная субстанция; возникая.. под . влиянием комплекса причин, она не развивается изолировано,- а. взаимодействует сдругими эмоциями. Проявление ее всегда специфично, так как это зависит от индивидуальных особенностей1 человека и внешних факторов, характерных для; конкретной- ситуации. Эмоции, безусловно,, обладают определенными свойствами; проявляющимися, всегда и позволяющими различать, их друг от друга, в связи с чем исследователями. неоднократно предпринимались попытки систематизировать эмоции, но единство, мнений по-данному вопросу до сих пор не достигнуто. Учеными выделяется разное количество эмоций, не установлены единые: параметры классификации, нет единства относительно базовых эмоций и т.д. Теория эмоций интересна, важна и актуальна, но, ввиду ее сложности, требует еще значительной доработки.
Мир эмоций волнует многих исследователей в области психологии, лингвистики, психолингвистики, лингвопсихологии, когнитивной лингвистики и пр. Эта тема очень актуальна в настоящее время, изучаются разные ее аспекты, но до сих пор не достигнуто единство мнений относительно основных вопросов и, особенно, того, что же считать основными (базовыми, фундаментальными) эмоциями. Ученые приводят множество классификаций, но единой, принятой в мире науки, нет. Об этой ситуации говорят многие исследователи [Изард, 2009; Красавский, 2001; Литвина, 2010; Мягкова, 1990], но данный вопрос по-прежнему остается дискуссионным.
Разногласия имеются не только по поводу количества базовых эмоций, но и по поводу основания их выделения. Для одних главным основанием является их врожденная природа (3. Фрейд, Дж. Уотсон), для других это не обязательно. По У. Макдауэллу, базовые эмоции - это простые, далее неразложимые эмоции. Базовыми эмоциональными реакциями, по мнению М. Арнольд, являются те, которые возникают при оценке трех аспектов ситуации: 1) является ли воздействие добром или злом; 2) является ли оно наличным или отсутствующим; 3) легко ли овладеть им или избежать его.
К. Изард выделяет несколько критериев определения, является ли эмоция базовой: «1. Базовые эмоции имеют отчетливые и специфические нервные субстраты. 2. Базовая эмоция проявляет себя при помощи и специфической конфигурации мышечных движений лица (мимики). 3. Базовая эмоция влечет за собой отчетливое и специфическое переживание, которое осознается человеком. 4. Базовые эмоции возникли в результате эволюционно-биологических процессов. 5. Базовая эмоция оказывает организующее и мотивирующее влияние на человека, служит его адаптации» [Изард, 2009, с. 63 - 64]. Другие исследователи предлагают иные признаки выделения базовых эмоций. Так, Р. Плачик называет следующие пять условий признания эмоций базовыми: «1) они должны быть релевантны базовым биологическим адаптивным процессам; 2) могут быть обнаружены на всех эволюционных уровнях; 3) не зависят от конкретных нейрофизиологических структур; 4) не зависят от интроспекции; 5) могут быть определены первично в поведенческих («стимульно реактивных) терминах» [Цит. по: Ильин, 2008, с.78]. Р. Плачик назвал восемь базисных эмоций, деля их на четыре пары, каждая из которых связана с определенным действием: 1) разрушение (гнев) - защита (страх); 2) принятие (одобрение) - отвержение (отвращение); 3) воспроизведение (радость) - лишение (уныние); 4) исследование (ожидание) - ориентация (удивление) [Цит. по: Ильин, 2008, с. 77]. По мнению К. Изарда, приведенным им критериям соответствуют «эмоции интереса, радости, удивления, печали, гнева, отвращения, презрения и страха. Если интерпретировать как мимические проявления движения глаз и головы, то к этому списку можно добавить и эмоцию стыда. А если в качестве экспрессивного компонента рассматривать также и пантомимические проявления, то к фундаментальным эмоциям можно отнести и такую эмоцию, как смущение (застенчивость)» [Изард, 2009, с. 64]. П. Экман на основе изучения мимических выражений выделяет семь эмоций: гнев, страх, презрение, отвращение, удивление, печаль и радость [Ekman, 1975, 2007].
Другие исследователи выделяют большее количество основных эмоций. А.С. Литвина провела сравнительный анализ разных классификаций и указывает на тот факт, что в этих перечнях совпадают гнев, печаль, страх и радость [Литвина, 2010].
Б.И. Додонов считает, что создать универсальную классификацию базовых эмоций невозможно, а классификация, подходящая для решения одних задач, не способствует решению других [Додонов, 1978].
Когнитивный сценарий «Презрение»
В русском языке для описания данного внешнего проявления страха используется глагол дрожать, который означает «колебаться часто и судорожно от холода, болезненного состояния, нравственного страдания и т.п.» [БТСРГ, с. 61]. Он используется как для описания изменений всего тела человека, так и его частей. Синонимы этого глагола содрогаться и трястись в данном контексте не могут быть использованы, так как означают движение тела в целом и не служат для описания мимики. Английским эквивалентом глагола дрожать является to tremble, который означает "to shake in a way that you cannot control, especially because you are very nervous, excited, frightened, etc." (букв.: «непроизвольно дрожать, особенно если вы нервничаете, взволнованы или напуганы») [OALD, с. 1636]. Следует обратить внимание на различия в дефинициях: в семантике глагола to tremble, в отличие от его русского эквивалента, акцентируются только эмоциональные переживания, без учета внешних факторов, а также подчеркивается, что одной из причин данного действия является испуг.
Локусом страха может являться лицо человека: Все лиі(а вдруг изменились, и на всех выразился ужас (Л.Н. Толстой. Война, и мир). У него глаза остановились на ней с удивлением, и в лицо хлынул испуг (И.А. Гончаров. Обрыв). The look on her face, such as he had never seen there never before, such as she had always hidden from him, was full of secret resentments, and longings, and fears (J. Galsworthy. The Man of Property) (букв.: «Взгляд на ее лице, такой, какого он никогда не видел прежде, который она всегда прятала от него, был полон негодования, тоски и страха»). Однако чаще локусом страха, как и других эмоций, являются глаза: В глазах был испуг и тревога (И.А. Гончаров. Обрыв). При этом возможно не только статичное описание глаз человека, но и взгляда, направленного на другого и выражающего данную эмоцию: Он в страхе глядел на нее (И.А. Гончаров. Обрыв). Иногда в фактическом материале представлено обращение к параллельному описанию внутреннего состояния героя и его внешнего проявления: «Ну, за что они меня?..» — думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника (Л.Н. Толстой. Война и мир). В глазах могут отражаться несколько эмоций одновременно: Her lips were compressed in a thin line; her hair lay in fluffy masses on her bare shoulders, in all its strange golden contrast to her dark eyes — those eyes alive with the emotions of fear, hate, contempt, and odd, haunting triumph (J. Galsworthy. The Man of Property) (букв.: «Ее губы сжались в тонкую полоску; пышная масса золотых волос спадала- на обнаженные плечи, так странно подчеркивая ее темные глаза, - глаза, горевшие страхом, ненавистью, презрением и непонятным торжеством»).
Являясь, местом локализации страха, глаза претерпевают некоторые изменения, прежде всего это связано с их увеличением: Она как будто испугалась, подняла голову и на минуту оцепенела, все слушая. Глаза у ней смотрели широко и неподвижно (И.А. Гончаров. Обрыв). Наташа, оживленная и тревооїсная, широко раскрытыми, испуганными глазами смотрела вокруг себя и казалась веселее, чем обыкновенно (Л.Н. Толстой. Война и мир). Then he caught sight of her face, so white and motionless that it seemed as though the blood must have stopped flowing in her veins, and her eyes, that looked enormous, like the great, wide, startled brown eyes of an owl (J. Galsworthy. The Man of Property) (букв. «Тут он разглядел ее лицо — такое бледное и застывшее, словно кровь остановилась у нее в жилах; глаза, большие, испуганные, как глаза совы, казались огромными»).
Как правило, взгляд человека, которого охватил страх, становится неподвижным: Она смотрит куда-то вдаль немигающими глазами, из которых широко глядит один окаменелый, покорный ужас (И.А. Гончаров. Обрыв). Глаза смотрят в одну точку, перестают мигать, человек словно теряет связь с действительностью и ничего не видит. В русском языке даже есть пословица, основанная на переосмыслении данных признаков: у страха глаза велики, да ничего не видят. Ей соответствуют английские выражения the eyes of fear see danger everywhere и fear closes the ears of the mind. Эти пословицы возникли как метафорическое переосмысление соматических признаков страха.
В отличие от психологов, лингвисты обращают большое внимание на цвет лица как показатель эмоционального состояния человека. Как отмечает М.В. Пименова, признак «цвет лица» важен для понимания эмоционального состояния человека. Бледность она определяет признаком страха и усталости [Пименова, 2009, с. 101]. СВ. Зайкина отмечает, что сам страх воспринимается как черный цвет, но описание его внешнего проявления, как в русском, так и в английском языках, осуществляется через контрастный белый цвет [Зайкина, 2007, с. 232]. Подтверждение этому находим и в нашем фактическом материале: — Andre, deja? — сказала маленькая княгиня, бледнея и со страхом глядя па мужа (Л.Н. Толстой. Война и мир). Для описания цвета лица используются как глаголы и их формы, так и имена прилагательные: Он выгиел в страхе, бледный, сдал все на руки Якову, Василисе и Савелию, и сам из-за угла старался видеть, что делается с бабушкой (И.А. Гончаров. Обрыв). Toby went to the window to look down, then pulled his head back in, his face pale with fear (Ch.Dickens. Oliver Twist) (букв.: «Тоби подошел к окну, чтобы посмотреть вниз, затем откинул голову назад, его лицо было бледным от страха»).
Примеры описания приподнятых бровей как показателя страха в русском языке единичны и практически отсутствуют в английских текстах: Мальчик, засунув свои озябшие руки в карманы и подняв брови, испуганно смотрел на Денисова и, несмотря на видимое желание сказать все, что он знал, путался в своих ответах и только подтверждал то, что спрашивал Денисов (Л.Н. Толстой. Война и мир).
Ни в русских, ни в английских текстах не встречаются описания сведенных к переносице бровей или морщин в центре лба как признаков страха. С учетом этих данных внесены изменения в исходную схему когнитивного сценария «Страх», чтобы показать, какие именно аспекты
Когнитивный сценарий «Радость»
Таким образом, при сопоставительном анализе русских глаголов восприятия и их английских эквивалентов релевантными оказываются две ИС: протяженность во времени и интенсивность . При этом первая сема актуализируется у русских глаголов и в единичных случаях она оказывается важна для английских; и, напротив, особо значимой для английского глагола является сема интенсивность!, в то время как для русского она оказывается менее существенной.
Для описания мимики глаз используются не только свободные, но и устойчивые словосочетания, наличие которых в русском и английском языках, как отмечает О.Г. Прохвачева, свидетельствует о важности зрительного восприятия в обеих культурах [Прохвачева, 1996].
Английские фразеологизмы feast smb s eyes и have /keep one s eyes glued on... передают состояние восхищения, любования кем-, чем-либо, вызывающим интерес. Наибольшей степенью интенсивности обладает шекспировское выражение, ставшее устойчивым словосочетанием - be all eyes - «глядеть во все глаза».
В русском языке значение «пристально смотреть на кого-, что-либо» передают фразеологические единицы не сводить глаз, не отводить глаз, не мочь (не в силах) оторвать глаз (взгляда), пялить глаза, впиваться глазами, есть (поедать, пожирать) глазами, в английском языке им соответствуют выражения not to take (tear) one s eyes from smb, fix (fasten) one s eyes on (upon) smb, smth.; devour smb. with one s eyes; have one s eyes glued; feast one s eyes on (upon) smb, smth. Фразеологизмы данной группы дают внешнюю характеристику человека, однако отражают волнующие его чувства, эмоциональные переживания, которые он далеко не всегда в состоянии контролировать. Большинство из вышеперечисленных лексических единиц отражает бессилие, невозможность субъекта совершить названное действие (не мочь (не в силах) оторвать (отвести) глаз (взгляда), not to take (tear) one s eyes from smb., have one s eyes glued), что в русском языке подчеркивается глаголом мочь или контекстуальными уточнителями (не в сшах). Все русские фразеологизмы передают напряженность действия, в то время как их английские аналоги не всегда отражают эту специфику данной группы. Так, например, выражение feast one s eyes on (upon) smb, smth используется не только в значении «поедать глазами», но и «любоваться кем-л.»., что характеризует добровольное действие субъекта, обладающее положительной оценочностью.
Глаголы, являющиеся ядерными компонентами рассматриваемых фразеологизмов, в прямом значении относятся к разным лексико-семантическим группам: глаголы питания (есть, поедать, пожирать), физического воздействия на объект (разделения) {отрывать), перемещения {отводить).
К глаголам питания относятся лексемы есть, поедать и пожирать, при этом последние две практически тождественны в семантическом плане и различаются в стилистическом. Глаголы есть и поедать относятся к нейтральному стилю, пожирать — к просторечному.
В семантической структуре рассматриваемых глаголов выявляется категориальная сема (далее КС) поглощение объекта и выделяются следующие интегральные семы (далее ИС): характер субъекта , характер объекта , интенсивность , степень полноты действия и протяженность во времени . В силу того, что в роли субъекта в анализируемых нами примерах выступает человек, ИС характер субъекта реализуется в виде постоянных дифференциальных признаков (далее ДП): одушевленный , конкретный , активный . ИС характер объекта представлена ДП конкретный , пассивный , неодушевленный . Все названные глаголы характеризуют процессы, продолжительные во времени. В отличие от лексемы есть, глаголы поедать и поэюирать обладают высокой степенью интенсивности.
В структуре фразеологического оборота глаголы рассматриваемой группы выступают в переносном значении, при этом происходит переосмысление их КС поглощение объекта в КС восприятие . Как отмечалось выше, значение фразеологизма есть (поедать, пожирать) глазами - «пристально смотреть на кого-, что-либо, не отрываясь». Поглощения объекта уже не происходит, и сам его характер меняется: теперь возможен ДП как одушевленный , так и неодушевленный . Неизменной остается протяженность во времени. Степень интенсивности становится высокой у всех фразеологических единиц, в состав которых входят эти глаголы.
Из английских эквивалентов фразеологизму пожирать глазами наиболее близко выражение devour smb. with one s eyes , поскольку семантическая структура глагола devour («пожирать, есть жадно») совпадает с его русским эквивалентом. Как уже упоминалось, значение фразеологизма feast one s eyes on (upon) smb, smth несколько отличается от остальных выражений данной группы, что объясняется многозначностью самого глагола. Feast в своем прямом номинативном значении «пировать» близок к глаголам питания, но его употребление в переносном значении «наслаждаться» привело к переосмыслению не только КС, но и к изменению смысла фразеологического оборота. Выражение feast one s eyes on (upon) smb, smth означает не только «пристально смотреть на кого-, что-либо, не отрываясь», но и «любоваться кем-л.», таким образом, добавилась положительная оценочная коннотация. К фразеологизмам данной группы относятся и выражения не отрывать (не отводить) глаз - be unable to tear one s eyes (take) one s eyes off (away) / not to take (tear) one s eyes from. Отрывать/ tear — глагол физического воздействия на объект. Его КС - удаление объекта . Отводить! take off- глагол объектного перемещения. КС - перемещение . ИС характер субъекта и характер объекта остаются неизменными. По степени интенсивности глаголы различаются: Отводить! take off— нейтральная, отрывать/ tear — высокая. В первом случае действие продолжительно во времени, во втором - нет. Как и в выше рассмотренных примерах, в структуре фразеологизма происходит переосмысление КС данных глаголов. Все ДП, за исключением интенсивности, степень которой высока во всех фразеологических единицах, не меняются.