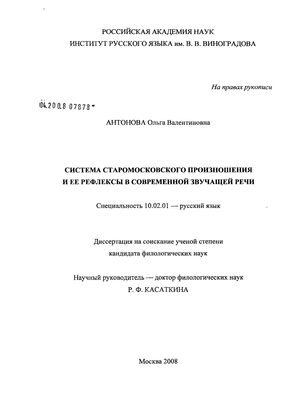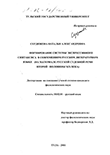Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. ЗВУЧАЩАЯ РЕЧЬ МОСКВИЧЕЙ КОНЦА XIX —НАЧАЛА XX ВЕКА КАК ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6
1.1. Понятие о старомосковском произношении 6
1.2. Орфоэпические особенности старомосковской произносительной системы 19
1.2.1. Система консонантизма 19
1.2.1.1. Позиционная мягкость согласных 19
1.2.1.1.1. Зубные перед мягкими зубными согласными 22
1.2.1.1.1.1. [с'], [з']> [т'], [д'] перед мягкими зубными 23
1.2.1.1.1.2. [н']/[н] перед мягкими зубными 25
1.2.1.1.1.3. Мягкость/твердость зубных согласных перед [л'] 26
1.2.1.1.2. Зубные перед мягкими губными (губно-губными и , губно-зубными) согласными 29
1.2.1.1.3. Губные (губно-губные и губно-зубные) перед мягкими зубными 32
1.2.1.1.4. Губные перед мягкими губными 34
1.2.1.1.4.1. Губно-губные перед губно-губными 34
1.2.1.1.4.2. Губно-зубные перед губно-губными 34
1.2.1.1.4.3. Губно-губные перед губно-зубными 35
1.2.1.1.5. Заднеязычные перед мягкими зубными 35
1.2.1.1.6. Заднеязычные перед мягкими губными (губно-губными и губно-зубными) 36
1.2.1.1.7. Мягкость/твердость согласных перед мягкими заднеязычными согласными 36
1.2.1.1.7.1. Зубные перед заднеязычными 36
1.2.1.1.7.2. Губные (губно-губные и губно-зубные) перед заднеязычными 36
1.2.1.1.7.3. Заднеязычные перед заднеязычными 37
1.2.1.1.8. [р']/[р] перед мягкими согласными 37
1.2.1.1.8.1. [р']/[р] перед мягкими губными и переднеязычными... 37
1.2.1.1.8.2. [р']/[р] перед мягкими заднеязычными 39
1.2.1.1.9. Мягкость/твердость согласных перед [р'] 39
1.2.1.1.9.1. Губные (губно-губные и губно-зубные) перед [р'] 39
1.2.1.1.9.2. Зубные перед [р'] 40
1.2.1.1.9.3. Заднеязычные перед [р'] 41
1.2.1.1.10. Мягкость/твердость согласных перед /j/ 41
1.2.1.1.11. Мягкость групп согласных 42
1.2.1.2. Произношение согласных на месте сочетаний чн, чт 44
1.2.1.3. Произношение согласного на месте щ, а также сочетаний жч, зч, сч, шч, здч, стч
1.2.1.4. Реализация согласных на месте сочетаний зле, лсд, лелс... 48
1.2.1.5. Реализация /j/ перед [и] в начале слова и в интервокальной позиции 49
1.2.1.6. Чередования согласных с нулем звука 49
2.1.7. Произношение согласных на месте сочетаний заднеязычный+взрывной (гк, гт, гч, кт, кч, гд, кк, кг) 50
2.1.7.1. Произношение согласных на месте сочетаний гк, гт, гч, кт, кч 50
1.2.1.7.2. Произношение согласных на месте сочетания гд 51
1.2.1.7.3. Произношение согласных на месте сочетаний кк, кг 52
1.2.1.8. Реализация фонем /у/ и /у'/ 53
1.2.1.9. Произношение [р]/[р'] после /э/ перед губными и заднеязычными согласными 54
1.2.2. Система вокализма 57
1.2.2.1. Реализация фонем /а/, /о/ после твердого согласного (кроме шипящих и [ц]) в первом предударном слоге 57
1.2.2.2. Произношение звуков на месте буквы а после [ж], [ц],[ш] в первом предударном слоге 58
1.2.2.3. Произношение гласных в безударных слогах послемягкого согласного 61
1.2.3. Произношение отдельных грамматических форм 64
1.2.3.1. Безударные окончания имен прилагательных в форме им. п. ед. ч. м. р 64
1.2.3.1.1. Твердость/мягкость заднеязычного согласного в конце основы прилагательных в форме им. п. ед. ч. м. р 64 -
1.2.3.1.2. Окончание -ый прилагательных и причастий в формах именительного и винительного падежей ед. ч. м. р 65
1.2.3.2. Произношение глаголов с основой на заднеязычный согласный, оканчивающихся на -ивать 66
1.2.3.3. Произношение безударных окончаний глаголов II спр. 3 л. мн. ч 67
1.2.3.4. Произношение твердого или мягкого согласного звука в возвратном постфиксе -ся, -съ 68
ВЫВОДЫ 71
ГЛАВА II. РЕФЛЕКСЫ СТАРОМОСКОВСКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ 75
2.1. Произношение безударных флексий глаголов II спр. 3 л. мн. ч 75
2.2. Произношение согласных на месте буквосочетания чн в современном русском литературном языке 86
2.3. Произношение [р]/[р'] перед мягкими согласными (зубными, губными, переднеязычными, заднеязычными) 97
2.4. Произношение твердого/мягкого согласного в исходе основы в форме род. п. мн. ч. у существительных, заканчивающихся в начальной форме на сочетание «согласный + ня» 98
2.5. Особенности произношения возвратного постфикса в русском литературном языке
2.6. Особенности реализации инициальной фонемы /j/ перед [и] в русском языке 134
ВЫВОДЫ 146
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 150
БИБЛИОГРАФИЯ 154
ОГЛАВЛЕНИЕ 164
- Понятие о старомосковском произношении
- Орфоэпические особенности старомосковской произносительной системы
- Произношение безударных флексий глаголов II спр. 3 л. мн. ч
Введение к работе
Описывая любую фонетическую систему, лингвисты стремятся не только детально зафиксировать звуковые факты, но и установить их преемственность с фонетическими явлениями предшествующих эпох. При этом приметой современного языкознания является потребность осветить языковой материал под культурно-историческим и социологическим углом зрения.
Трудно найти- лингвистическую работу, посвященную истории русского литературного произношения, в которой не употреблялись бы термины «старомосковский говор», «старая московская норма», «старомосковское произношение» и под., однако единого мнениям сущности этого явления в науке до сих пор нет, как нет и ни одного труда, специально посвященного изучению черт старого- московского произношения. До. настоящего времени остается неясным ряд вопросов, связанных с различными фактическими составляющими этого явления, начиная от определения хронологических рамок и заканчивая выяснением социальной принадлежности контингента носителей старой московской нормы.. Эти неразрешенные проблемы представляются заслуживающими подробного рассмотрения.
С другой стороны, в научном мире широко распространено мнение о том, что старомосковская произносительная система, явившаяся базой для становления современных орфоэпических норм, во второй половине — конце XX века утратила актуальность. Однако даже поверхностные наблюдения последнего времени над спонтанной речью литературно говорящих коренных москвичей разного возраста, а также анализ массивов звучащей речи теле- и радиопрограмм позволяют усомниться в непреложности такого утверждения.
Эти соображения и обусловили выбор темы данной работы и отражают ее научную новизну, которая заключается, прежде всего, в том, что в рамках диссертации рассмотрены явления, никогда ранее не выступавшие в качестве предметов специальных исследований в русистике.
Актуальность исследования старомосковского произношения диктуется несколькими обстоятельствами: недостаточной исследованностью данного лингвистического факта; неразрешенностью многих теоретических вопросов, связанных с историей русского литературного произношения; необходимостью выявить тенденции развития произносительных явлений; необходимостью определить современный нормативный статус явлений, квалифицирующихся как рефлексы старомосковского произношения.
Целью предпринятого исследования явилось создание комплексного описания старомосковской фонетической системы и выявление ее рефлексов в современной звучащей речи.
Достижение этой цели потребовало решения следующих задач:
1. Изучить лингвистическую литературу, посвященную проблемам старомосковского произношения, и выявить как социологические, так и чисто лингвистические особенности его функционирования; определить круг источников, данные которых можно использовать для построения целостного описания старомосковского произношения.
2. Детально описать характерные черты вокализма и консонантизма старомосковского говора в сопоставлении с современной литературной нормой; выявить закономерности функционирования произносительных норм и факторы, определяющие их эволюцию.
3. Выявить круг явлений, которые можно расценивать как рефлексы старомосковского произношения в современной звучащей речи.
4. Провести серию орфоэпических экспериментов, позволяющих детально описать дистрибуцию; частотность; лексические, фонетические, грамматические и графические факторы, влияющие на функционирование старомосковских вариантов в современной речи.
5. Осуществить комплексный анализ полученных результатов и наметить перспективы дальнейшей работы. Объектом исследования явилась литературная речь москвичей на рубеже XIX-—XX веков и на рубеже XX—XXIs веков.
Материалом для лингвистического анализа послужили: научные труды, посвященные описанию московского говора, содержащие массивы транскрипций и описания произносительных явлений; аудиозаписи лекции Д. Н. Ушакова о коренном московском произношении и лекции С. С. Высотского о московском народном говоре; видео- и аудиоматериалы спектаклей московского Малого театра середины XX в.; стихотворные тексты XIX — начала XX века; записи- звучащей речи носителей современной московской произносительной нормы; данные, полученные в результате социолингвистического анкетирования; массивы звучащей теле- и радиоречи; личные наблюдения автора исследования, зафиксировавшего факты проявления анализировавшихся явлений в бытовой речи москвичей разного возраста.
В качестве информантов к экспериментам были привлечены коренные москвичи не менее чем; во втором поколении, владеющие русским, литературным языком, детство и большую часть сознательной жизни, прожившие-в Москве и не имеющие явных речевых дефектов;. В некоторых случаях информанты были разделены на 3 группы по возрастному критерию: в старшую группу объединялись люди, рожденные в 20—30-е годы XX века; в среднюю группу рожденные в 40-—60-е годы XX века и, соответственно; в третью, младшую группу — рожденные в 70—80-е годы XX века.
Исследование аудиоматериалов проводилось главным, образом; методом аудиторского анализа автором исследования. В спорных для восприятия случаях к прослушиванию звукозаписей привлекались другие аудиторы, профессиональные фонетисты. Материал также обрабатывался при помощи компьютерных программ анализа звучащей речи Speech Analyzer и Praat в Отделе фонетики Института русского языка им. В. В; Виноградова РАН.. Практическое значение исследования старомосковского произношения и его рефлексов в современной звучащей речи состоит в возможности использования полученных данных при составлении программ и материалов орфоэпических курсов, при кодификации произносительной нормы, а также при разработке учебных пособий по истории русского литературного произношения и культуре русской речи.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, включающего более 120 названий, общим объемом 167 страниц машинописи.
Понятие о старомосковском произношении
В современной лингвистике широко известна точка зрения, согласно которой в конце XIX — начале XX столетий московский говор оформился в особую фонетическую систему, ныне называемую старомосковским наречием или старомосковским говором. К этому времени (конец XIX — первая половина XX вв.) относится большинство известных лингвистических описаний старомосковского говора. Ученые на рубеже веков, фиксируя современные им явления, пользовались терминами московский говор или московское наречие (вкладывая в него вполне определенный смысл — имелась в виду только речь образованных людей [Высотский 1984]), а в более поздней научной традиции это явление приобрело «приставку» старо-. В настоящее время термины старомосковское наречие и старомосковский-говор1 широко используются в филологии. Однако до сих пор остается неясным целый ряд вопросов, связанных с различными фактическими составляющими этого явления, начиная от определения временного промежутка его языковой «жизни» и заканчивая выяснением социальной принадлежности относящегося к нему субстрата, т. е. контингента носителей. Эти неразрешенные вопросы представляются заслуживающими подробного рассмотрения.
В первую очередь следует уделить внимание вопросу об истоках старомосковского (а в данном случае — московского) говора. История формирования московского говора освещена подробно во многих научных трудах, см.: [Аванесов 1947; Аванесов 1955; Котков 1974; Соболевский 1897; 1980] и мн. др. Примечательно, что большинство черт, рассматриваемых как собственно старомосковские, при изучении источников, описывающих более ранние периоды становления литературного языка, можно признать не столько старомосковскими, сколько просто старыми (т. е. возникшими задолго до формирования старомосковского говора). Объединяет их в старомосковскую произносительную систему не общее время возникновения, а общий период разрушения. В середине XX столетия многие орфоэпические нормы либо устарели и полностью сменились новыми, либо уступили свои лидирующие позиции, оставшись при этом допустимыми в литературном языке. Именно на это время приходится осознание необходимости формулирования новых орфоэпических правил и сохранения традиционных представлений о хорошем произношении, оплотом которого была речь театра и радио.
Что же касается самого понятия московский говор, то в большинстве своем исследователи приходят к заключению, что «современный русский литературный язык есть не что иное, как язык русского образованного общества и что в основании его — народный московский, следовательно, великорусский говор» [Соболевский 1980: 133]. При этом отличие московского народного говора от собственно литературного языка видится А. И. Соболевскому исключительно в присутствии в последнем церковнославянского элемента и довольно обширного пласта иноязычных заимствований. «Если мы обратимся к московскому простонародному говору и подмосковному говору, то увидим, что никаких звуковых особенностей он не имеет. Главное отличие его от нашего говора — в формах и в словарном материале. Московское и подмосковное простонародье употребляет все формы и огромное большинство слов, которые мы употребляем, но сверх их, имеем еще ряд форм и слов», — пишет исследователь [Соболевский 1897: 12]. Такая точка зрения, признающая практически полное фонетическое тождество между московским просторечием и литературным языком, поддерживалась многими учеными3, в том числе и Д. Н. Ушаковым и А. А. Шахматовым. Д. Н. Ушаков разделяет московское просторечие и литературный язык, указывая, что «с одной стороны, в живом народном московском говоре, в московском просторечье нет, конечно, и доброй половины тех слов, форм, оборотов речи, которыми обладает литературный русский язык, а с другой стороны ... образованные люди не употребляют слов, свойственных просторечью» [Ушаков 1995а: 157]. Разумеется, тут речь идет, прежде всего, о различиях в области лексики, однако это не свидетельствует в пользу того, что между московским просторечием и литературным произношением периода рубежа XIX — XX веков не было никаких фонетических различий. Хотя Д. Н. Ушаков и считает, что отличия в просторечной и литературной фонетике в XIX века были незначительны настолько, что ими можно было бы вовсе пренебречь (в качестве примера ученый приводит знаменитое высказывание А. С. Пушкина о чистоте говора, московских просвирен — фонетической чистоте) [Там же: 156—157], однако неясно, какова-степень этой «незначительности». А. А. Шахматов пишет: «Действительно, и между современным языком образованных классов и языком московского простонародья, в особенности в области произношения; различие незначительно» [Шахматов 1941: 64]. Все вышесказанное свидетельствует, что ученые противопоставляли московский говор и московский народный говор как фонетически идентичные языковые пласты, имеющие различия исключительно в сфере субстрата (первый был принадлежностью образованной части общества, второй же функционировал в простонародной среде).
Орфоэпические особенности старомосковской произносительной системы
Принято считать, что в старомосковской произносительной- системе мягкость согласного перед следующим мягким была обязательной. Подтверждение тому - многочисленные свидетельства исследователей данного периода. В частности, Д. Н. Ушаков неоднократно указывал, что «согласные перед мягкими согласными обыкновенно произносятся мягко», то есть надо произносить: ба\уС\щик, [д ] ?е/?ь, де[н ]и/шс, дё[ф ]ки (девки), е[с ]ли, е[с ]те[с т ]венн0, эюе\уС\щина, [заверь, ко[р ]мить, /с 5[р ]/ш, ко[с ]тъ, ла[ф ]тш (лавки), ны[н ]че, шг[н ]чшюь, пеір венец, пу[с ]тй, раїз бить, /?а[з ]ве, /?а[з ]вшиь, [c ]eem, [с ]мфный, [с ]л е[р ]т72ь, [с ]тих, [т ]бе[р ]дшиь, то\ \чайший, фона\ \щик [Ушаков 1995а: 175]. Однако уже тогда была вполне очевидна относительность прочности явления позиционной мягкости, т. е. уже в конце XIX - начале XX века в определенных случаях были возможны сочетания «твердый + мягкий». Необходимо отметить, что процесс изменения мягкости первого согласного в сочетании «согласный + мягкий согласный» протекал неравномерно в разных позициях [Аванесов 1984: 145], например, важную роль играла позиция после гласного переднего ряда (Р. Ф. Брандт признавал позицию после гласного переднего ряда способной провоцировать или же поддерживать явление позиционной мягкости, ср.: «на смягчаемость предшествующего согласного оказывает влияние и то, стоит ли он после непалатального гласного, или же палатального, срв. C ep r ej її тарг і» [Брандт 1892: 121], однако в работах других исследователей; напр. [Богородицкий 1887], этому фактору уделяется мало внимания), лексическая обусловленность и некоторые другие. В исследованиях последнего времени (например, в работах Л. Л. Касаткина [Касаткин 1993; 2003; 2006]) убедительно доказано, что процесс изживания позиционной мягкости согласных перед следующим мягким протекал по-разному в разных группах слов. Помимо указанных, важнейшую роль в современном течении процесса расшатывания позиционной мягкости играет морфологический фактор, то есть позиция сочетания согласного с последующим мягким согласным внутри- морфемы-или же на границе морфем (о градации степени плотности морфемных стыков см. [Аванесов 1984; Каленчук 1993; Панов 2002]). Собранная ходе исследования информация не позволяет сделать статистически достоверных выводов о влиянии на судьбу звукосочетания «согласный + мягкий согласный» всех условий, учет которых обязателен в современной исследовательской практике [Касаткин 1993], заставляя ограничиться- в-основном лишь двумя факторами: качеством одного из согласных в звукосочетании и морфологической позицией (и реже удавалось учитывать влияние лексического фактора на реализацию сочетаний согласных с последующим мягким).
К концу XIX века сформировалась методика описания позиционной мягкости. Основным критерием выступала артикуляционная характеристика обоих согласных в звукосочетании. Наиболее последовательно смягчались зубные перед мягкими зубными (за исключением только [л]), много реже подвергались позиционному смягчению заднеязычные. Р. Ф. Брандт пишет: «Из всех согласных наибольшую смягчаемость обнаруживают согласные переднеязычные, из которых придувные (т. е. щелевые — прим. О. А.) сиз особенно легко подвергаются такому смягчению, между тем как взрывные в меньшей степени; из плавных р обладает обычно значительной смягчаемостью в противоположность другому плавному л, который ... совсем не поддается влиянию мягкости; носовой н принадлежит к согласным значительной смягчаемости. Дальнейшую ступень по способности смягчаться представляют согласные губные и заднеязычные, причем придувные легче смягчаются, чем взрывные. Нужно заметить, что во всех указанных случаях смягчаемость зависит не только от категории предшествующего согласного, но также и от характера последующего мягкого согласного; так, например, согласный р, обладая большой смягченностью, тем не менее остается обыкновенно твердым например в положении перед к , срв. арк ї, м аерк ї» [Брандт 1892: 120—121].
Произношение безударных флексий глаголов II спр. 3 л. мн. ч
Существует мнение, что у глаголов II спр. 3 л. мн. ч. в безударных флексиях в соответствии с современной нормой произносится [-эт]: [хбд эт] {ходят), [л уб эт] {любят), [мбч эт] {мочат), [в йд эт] {видят), [в эр эт] {верят), в отличие от старомосковского произношения этого окончания, совпадавшего по звучанию с окончаниями глаголов I спр. [-ут]: [ход ут], [л уб ут], [моч ут], [в йд ут], [в эр ут]46.
Р. И. Аванесов отмечал, что произношение в безударных окончаниях второго спряжения звука [у] «для современного русского языка либо представляет собой сознательную стилизацию под старое московское произношение, либо характеризует просторечный, нелитературный язык» [Аванесов 1984: 200]
Несколько иного мнения придерживалсяМ; В. Панов, считавший; что в настоящее время следует рекомендовать произношение [топ эт], [л уб эт], [лбв эт], [кбрм эт], [мут эт], [ход эт], [прбс эт], [вбз эт], [ман эт], [пйл эт], [мбрш эт], [бр эжэт], [л эч эт], [в эр эт], [спор эт] вместо [тбп ут], [л уб ут], [лбв ут], [кбрм ут], [мут ут], [ход ут], [прбс ут], [вбз ут], [ман ут], [пйл ут], [мбрш ут], [бр эжут], [л эч ут], [в эр ут], [спбр ут] {топят, любят; ловят, кормят, мутят, ходят, просят, возят, манят, пилят, морщат, брезжат, лечат, верят, спорят), но старая орфоэпическая норма, по его мнению, по-прежнему остается допустимой, хотя и менее предпочтительной [Панов 1967: 320].
«Орфоэпический словарь русского языка» под редакцией Р. И. Аванесова дает следующую рекомендацию: «На месте безударного окончания 3 л. мн. ч. глаголов 2-го спряжения -ат (-ят) произносится [-ът]: [дъшът] (дышат), [сльйиът] (слышат), [дёржът] (держат), \паълоЪюът\ (положат), \учът\ (учат), [кдньчът] (кончат), [тащът] (тащат), [стройът] (строят)... Так же произносится это окончание, когда за ним следует возвратная частица -ся: [слышътцъ] (слышатся), [д эржътцъ] (держатся), [строиътцъ] (строятся), [варьътцъ\ (варятся), [мол ътцъ] (молятся)...
Произношение этих форм с гласным [у] в окончании -ат (-ят), свойственное русскому литературному языку в прошлом, теперь удерживается по преимуществу в речи старшего поколения, а также в сценической речи: [дышут] (дышат), \кончът\ (кончат), [стрдйът] (строят), \варьут\ (варят), [гоньут] (гонят), [купьут] (купят), [вдзьут] (возят), [носьут] (носят)» [ОС: 678].
Из приведенных орфоэпических рекомендаций очевидно, что старомосковское произношение глаголов II спр. 3 л. мн. ч. со звуком [у] в безударной флексии не является распространенным явлением в современном русском литературном языке. Однако Р. Ф. Касаткина обратила внимание на сохранение некоторых, как принято считать, архаических черт старомосковского произношения в современной речи москвичей разного возраста, в том числе и молодых. Это наблюдение касается и упоминавшихся-выше особенностей произношения глагольных окончаний.
Прежде всего, обращает на себя внимание речь многих ведущих информационных программ телевидения. Например,- в речи Евгения Киселева произношение безударных глагольных флексий II спр. 3 л. мн. ч. в большинстве своем соответствует старой московской норме: [сложут] (сложат), [л уб ут] (любят), [праЪсбд ут] (проходят), [пр иэвбд ут] (приво дят), [аътнбс уцэ] (относятся), [в эр ут] (верят), [суд ут] (судят), [прэиэсхбд ут] (происхоЪят) и пр. Аналогичные произносительные черты приходилось наблюдать и в спонтанной речи многих окружающих людей. Для выяснения вопроса о распространённости этого явления был поставлен специальный орфоэпический эксперимент, цель которого состояла в определении регулярности появления старомосковских вариантов произношения данных глагольных форм в речи современных москвичей и описании факторов, поддерживающих их сохранение в речи.