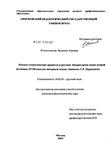Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Теоретические основы изучения орнитонимов 13
1.1. Лексическое значение орнитонима как структура 15
1.2. Структура лексикографического описания значения орнитонимов 20
1.3. Толкование орнитонимов в лексикографических источниках 22
1.4. Проблема разграничения термина и нетермина в орнитологии 31
1.5. Понятия «семантическое поле», «тематическая группа», лексико-семантическая группа» и орнитологическая лексика 36
1.6. Отражение в орнитонимах культурно-национальной специфики 41
Выводы 46
Глава II. Лексикографическая интерпретация семантики орнитонимов 48
2.1. ЛСГ «Домашние птицы» 49
2.2. ЛСГ «Дикие птицы» 60
2.2.1. Птицы отряда воробьиных 61
2.2.2. Птицы отряда соколообразных 87
2.2.3. Птицы отряда совообразных 103
2.2.4. Птицы отряда ржанкообразных 109
2.2.5. Птицы отряда голубеобразных 116
2.2.6. Птицы отряда курообразных / куриных 119
2.2.7. Птицы отряда журавлеобразных 121
2.2.8. Птицы отряда буревестникообразных/ трубконосых 122
2.2.9. Птицы отряда кукушкообразных 124
Выводы 125
Глава III. Лингвокультурологический анализ орнитонимов 134
3.1. Мифологический источник культурной интерпретации орнитонимов русского и немецкого языков 135
3.1.1. Орнитонимы с положительной символикой 139
3.1.2. Орнитонимы с отрицательной символикой 157
3.2. Языковой источник культурной интерпретации орнитонимов русского и немецкого языков 167
3.2.1. Домашние птицы 168
3.2.2. Дикие птицы 173
Выводы 181
Заключение 188
Библиографический список 195
Приложения:
I. Технические пояснения к тексту 216
II. Словоуказатель 218
- Толкование орнитонимов в лексикографических источниках
- Птицы отряда воробьиных
- Мифологический источник культурной интерпретации орнитонимов русского и немецкого языков
- Домашние птицы
Введение к работе
Реферируемое диссертационное исследование посвящено изучению тематической группы «Орнитонимы» (на материале русского и немецкого языков): её семантики, состава и особенностей функционирования, принципов лексикографического описания в толковых словарях, а также лингвокультурологических особенностей, отраженных в мифологии, национальном фольклоре и фразеологии языка.
Естественное стремление ученых реконструировать языковые и культурные связи народов обусловило появление ряда исследований данной тематической группы в славянских и неславянских языках.
Именования птиц в белорусском языке были подвергнуты серьезному анализу Н.П. Антроповым, выделившим генетические и типологические соответствия белорусским названиям птиц в других славянских языках и изучившим принципы номинации орнитонимов. Тщательный анализ номинации украинских орнитонимов осуществила А.И. Богуцкая [Богуцкая, 1985], интересное и глубокое исследование национально-культурной специфики орнитонимов в украинском и немецком языках провела Л.В. Дробаха [Дробаха, 2003].
Система орнитонимов русского языка явилась объектом изучения
М.М. Гинатуллина [Гинатуллин, 1973], Л.Ф. Моисеевой [Моисеева, 1974],
Н.Б. Нероновой [Неронова, 2000], Н.В. Дмитриевой [Дмитриева, 2010]. Важные для познания русского национального языка и русской культуры исследования названий птиц в русских говорах осуществили Г.М. Левина [Левина, 1974] и Е.В. Лысова [Лысова, 2002].
В последнее время появились содержательные, глубокие исследования, в которых русская орнитонимия сопоставляется с неславянской: французской [Симакова, 2004], английской [Костина, 2004] и пр. Так, свет увидели работы,
в которых осуществлено русско-англо-французское сопоставление мотивации орнитонимов [Савенко, 2010], исследованы фразеологические единицы с компонентом-орнитонимом в английском и турецком языках [Пименова, 2002].
Достаточно давно стали подвергаться изучению орнитонимы немецкого языка. Фундаментальный труд, посвященный данной тематике, появился еще в 1909 г. Его автор, Хуго Суолати [Suolathi, 2000], на большом фактическом материале исследовал происхождение и развитие немецких орнитонимов на каждом языковом этапе, начиная с индоевропейского праязыка. Для нас важно, что с целью установления территории бытования того или иного орнитонима ученый привлек диалектные наименования.
Литературные обозначения птиц в германских (немецком, английском) и романских (французском) языках с целью установления способов мотивации и выявления того, какой из языков содержит наименьшее или наибольшее количество мотивированных/немотивированных слов, проанализировал Х. Лайзеринг. При этом автор закономерно связал свое исследование с вопросами этимологии и толкований той или иной лексемы [Leisering 1984: 26].
Изучению семантических процессов в немецких научных наименованиях птиц посвящена работа Виктора Вембера. Важная, на наш взгляд, отличительная особенность данной работы заключается в том, что автор объясняет мотивацию не только немецких, но и латинских орнитонимов, убедительно раскрывая влияние латыни на немецкую терминологию [Wember, 2007].
В современной лингвистике широкое развитие получила антропоцентрическая парадигма, в соответствии с которой человек познает мир через осознание себя и творит в своем сознании антропоцентрический порядок вещей. Вместе с тем развивается и иной, набирающий силу «экологический», «биоцентрический» подход, обращающий нас к новому решению проблемы взаимодействия человека и природы, к пониманию мира как живого целого, осознанию необходимости бережного отношения к этому миру, к живой природе [Глой 1999: 460]. Однако сближение с природой невозможно без ее основательного изучения, и лингвистическая составляющая исследования мира живой природы также имеет важное научно-познавательное значение.
Актуальность темы исследования определяется усиливающимся научным интересом к изучению взаимодействия языка и культуры и особой важностью изучения тех тематических групп, которые характеризуются древностью возникновения и тесными генетическими связями с их народными истоками.
Изучение орнитонимов с использованием всеохватывающих или спорадических сопоставлений изучаемого языка с каким-то близкородственным или восходящим (как, например, русский и немецкий языки) к одному первоисточнику является предпочтительным.
Всякое глубокое познание того или иного лексикона предполагает выход исследователя за пределы изучаемого говора или языка: такая практика обусловлена самой лексической системой, ее интра- и экстралингвистической сутью. Такие сопоставления необходимы для развития теории языка, для уяснения особенностей различных тематических групп в их истории и современном состоянии, для реконструкции адекватной истории изучаемого языка и духовной культуры его носителей.
Лингвистический анализ орнитонимов, их семантики, процессов семантического словообразования, способности быть «производящей основой» для множества паремий, отображающих мировосприятие и культуру народа на разных этапах его развития, уяснение связи птиц и их наименований с мифологическими представлениями народа, изучение роли орнитонимов в расширении изобразительных возможностей языка – все это позволяет внести определенный вклад в познание национальной духовной культуры и ее традиций.
Объектом данного исследования служит орнитологическая лексика русского и немецкого языков, а также фразеологизмы, имеющие в своем составе компоненты-орнитонимы.
Предметом исследования стала семантическая структура орнитонимов, принципы лексикографического описания этой группы, её структурно-функциональные и лингвокультурологические особенности.
Материалом для исследования послужила авторская картотека, созданная на основе сплошной выборки фактического материала из различного рода словарей (толковых, двуязычных, терминологических, фразеологических, диалектных, этимологических, мифологических) и справочников. Используемая в работе картотека составляет: наименований птиц – 560 (370 орнитонимов русского и 190 орнитонимов немецкого языка); фразеологических единиц, содержащих орнитонимы, – 200. Широко использованы тексты мифов, легенд, сказок, различных обрядовых песен и пр., а также языковые источники: фразеологизмы, пословицы, поговорки, устойчивые образы.
Анализ дефиниций наименований птиц проводился нами на основе данных БАС и словаря Дудена, с привлечением других толковых словарей. Дефиниции, взятые из словаря немецкого языка Дудена, представлены в данной диссертации в нашем, авторском, переводе. В тех немногочисленных случаях, когда в последнем словаре нет толкования орнитонима, мы рассматривали семантизацию слова в словаре Г. Варига.
Исходя из сказанного, целью нашей работы является изучение лексико-семантических особенностей тематической группы «Наименования птиц», анализ опытов её семантизации, исследование национально-культурной специфики. Указанной целью определяются конкретные задачи работы:
-
рассмотреть семантику орнитонимов русского и немецкого языков в их системных связях, отношениях и эволюции;
-
исследовать вариативность в системе орнитонимов как отражение универсальной категории языка;
-
раскрыть мотивировочные признаки, положенные в основу наименований птиц;
-
изучить орнитонимы как один из активных источников расширения выразительных возможностей словарного состава языка, прежде всего системы его агентивов;
-
описать национально-культурную специфику орнитонимов, отображенную в мифологических представлениях наших предков, а также в фольклоре и фразеологии языка.
Гипотеза исследования: ТГ «Орнитонимы» в русском и немецком языках характеризуется яркой самобытностью, начавшей проявляться уже в древности и с течением времени усилившейся. Лексическая система русского языка отражает как специфические черты системы русских наименований птиц, так и особенности, общие с иноязычной, в частности, немецкой орнитонимией, что проявляется не только в первичных, прямых значениях орнитонимов, но и в их генетически более поздних, переносных значениях.
Методы исследования определены поставленными в работе задачами и фактическим материалом: использован описательный метод, включающий в себя отбор, первичную обработку фактического материала, аналитический, классификационный, лексико-семантический (дифференциацию лексики по тематическим и лексико-семантическим группам), элементы статистического и компонентного анализа (в частности, дефиниционный анализ), элементы сопоставительного метода.
Научная новизна диссертации определяется тем, что исследование лексико-семантических, лексикографических и лингвокультурологических особенностей орнитонимов на материале русского и немецкого языков проводится в данной диссертационной работе впервые.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что попытка изучения орнитонимии русского языка на фоне учета соответственных лексических явлений немецкого языка вносит определенный вклад в углубление научных представлений об особенностях специальной лексики. Поскольку факторы экстралингвистического порядка в орнитонимах сведены фактически к минимуму, теоретическая значимость работы состоит также в том, что собственно языковые процессы (парадигматические отношения, широкое развитие семантического словообразования, иерархия мотивационных признаков и т.д.) представлены здесь весьма широко и поэтому дают лингвистической науке определенный материал для выявления языковых универсалий. Расширение и систематизация знаний, связанных с ролью птиц и называющих их орнитонимов в формировании и развитии духовной жизни народа, вносит определенный вклад в теорию взаимодействия языка и духовной культуры, демонстрируя в этом процессе у разных народов не только различное, но и общее.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования её результатов в лексикографии, при подготовке терминологических словарей в связи с тем, что в исследовании уточнена семантика определенного числа орнитонимов, представленных в толковых словарях. Материал работы может найти применение также в ходе изучения языков в вузе и школе как иллюстрация образной стороны языка и участия в ее создании народа, а также в качестве одного из познавательных стимулов формирования интереса к изучаемому языку.
Апробация работы. Основные положения диссертации изложены в
11 статьях, четыре из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ для кандидатских исследований, апробированы на различного уровня научных и научно-практических конференциях (см. список публикаций).
На защиту выносятся следующие положения:
-
Тематическая группа «Орнитонимы» в русском и немецком языках отражает как общие, универсальные семантические процессы, так и процессы, специфические для каждого языка.
-
Вариативность орнитонимов в языках и диалектах – одна из наиболее ярких особенностей данной тематической группы.
-
Тенденции к усложнению, дифференциации орнитологической терминологии научной сферы в народной речи противостоит тенденция к конденсации наименований, к их семантической диффузности.
-
В каждом из языков существуют различия не только в характере семантизации орнитонимов в филологических и энциклопедических словарях, но также в подходах к семантизации орнитонимов в филологических словарях двух народов.
-
Исследование семантизации орнитонимов в толковых словарях заставляет по-новому осмыслить соотношение филологических и энциклопедических толкований в словарях.
-
Общеупотребительные орнитонимы, входя в устойчивый фонд лексики, обладают древней символикой и участвуют в формировании «языковых картин мира». Большинство мифологем и архетипов, давших жизнь фразеологизмам и образно-мотивированным словам, стерты, закодированы в языковых единицах, отражающих религиозно-мифические представления народа.
Структура работы обусловлена целями, задачами, проблематикой и методологией исследования. Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Библиографического списка, а также Приложения, включающего в себя Список сокращений и Словоуказатель.
Толкование орнитонимов в лексикографических источниках
Вопросы выделения различных типов словарей и, соответственно, их толкований имеют в языкознании уже сравнительно долгую традицию. В отечественном языкознании научная типология словарей впервые была разработана Л.В. Щербой в работе «Опыт общей теории лексикографии», в которой ученый выделил и обосновал дихотомию «энциклопедический словарь» - «общий словарь» [Щерба 2004: 278]. В соответствии с этой идей в современном языкознании принято дифференцировать «энциклопедические» и «лингвистические» (филологические, или языковые) словари и, соответственно, особые толкования слов. Согласно Л.В. Щербе, филологическая се-мантизация отличается от энциклопедической ровно настолько, насколько обиходные знания противопоставлены научным [Щерба 2004: 280]. Ученый ратовал за четкое разграничение характера толкований в толковых словарях и словарях специальных, терминологических, поскольку специальные термины в общелитературном и специальных языках имеют разные значения. «Не надо, - писал Л.В. Щерба, - навязывать общему языку понятия, которые ему вовсе не свойственны и которые - главное и решающее - не являются какими-либо факторами в процессе речевого общения» [Щерба 2004: 281]. Близкую мысль высказал впоследствии и Ю.Д. Апресян. «Задача лексикографа, если он не хочет покинуть почвы своей науки и превратиться в энциклопедиста, состоит в том, чтобы вскрыть эту наивную картину мира в лексических значениях слов и отразить ее в системе толкований» [Апресян 1974: 58].
Более развернутая картина двух видов семанизации представлена у Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова. По их мнению, противопоставленность двух родов знания и, в связи с этим, двух видов семантизации проявляется в том, что: 1) филологические словари отражают некоторое количество «антинаучных» сведений, потому что язык в своем развитии отстает от прогресса общественного сознания, в частности, фиксируя и тот уровень постижения мира, который сейчас уже отвергнут наукой; 2) в филологических словарях отражаются сведения, которые, по сравнению с научными, сами по себе являются менее строгими. Подобные обиходные знания прямо не противоречат науке, но они все же не отвечают научным требованиям (эксплицитности, непротиворечивости, достаточности исходного основания, нетавтологичности и т.д.) [Верещагин, Костомаров 1980: 236-237]. Данные положения, несомненно, укрепляют представления о разделении понятий на «научное» и «наивное».
Энциклопедия опирается на положение, согласно которому повседневные слова данного языка уже известны читателю, и поэтому её задача сводится к толкованию специальных слов (прежде всего терминов разных наук, собственных имен и фамилий, топонимов, гидронимов и т.д.). Толковый же словарь, напротив, разъясняет, «толкует» повседневные слова, т.е. слова литературного языка и те специальные слова, которые являются достоянием того же литературного языка [Будагов 1989: 19].
Различие словарных и энциклопедических толкований целым рядом исследователей связывается с различением значения слова и понятия: словарные толкования дают общее представление о значении слова, энциклопедические же - истолковывают понятие. А. Вежбицкая, разграничивая филологическую и энциклопедическую информацию, подчеркивает, что знания, которыми обладают в некоторой области только узкие специалисты, - заведомо «энциклопедические» и не должны быть включены в значение слова, поскольку научное знание, по мнению ученого, в языке не отражается и в лингвистическом исследовании не играет никакой роли. «Семантика - это поиски смысла, а не поиски научного или энциклопедического знания», - заключает автор [Вежбицкая 1996: 244].
Словарная статья большинства энциклопедических словарей имеет двойственную структуру; первой её частью является часть семантическая, служащая для характеристики слова, и предметная, в которой в деталях раскрывается денотативная область с её реалиями и отношениями между ними, ставшими базой для образования соответствующего понятия. Толковые же словари избегают ярко выраженных и структурно развернутых предметных описаний [Киселевский 1979; 92]. Так, в БАСе читаем: «сорока - птица сем. вороновых с длинным хвостом и черным с белым оперением, издающая характерные звуки - стрекотание» [БАС 1963: XIV, 326]. В БРЭС находим: «сорока - птица сем. вороновых. Дл. 45-47 см. Распространена в Евразии, Сев. Зап. Африке и на с.-в. Сев. Америки. Истребляет вредных насекомых, разоряет гнезда мелких птиц» [БРЭС 2003; 1472]. Наконец, из БЭС узнаем: «сорока (Picapica) -птица сем. вороновых» [БЭС 1986: 595].
Как видим, филологическое толкование (1-е), в отличие от энциклопедического (2-3), не столь детально. Оно раскрывает лишь наиболее существенные семантические признаки, оставляя без внимания, условно говоря, менее значительную информацию (такую, как территория обитания, особенности питания и гнездования).
Толковый и энциклопедический словари отличаются, как известно, не только качеством семантизации, но и её задачами. Задача словарного определения - прямое и четкое (недвусмысленное) представление денотативной отнесенности слова [Кузнецов 1986: 89]. По мнению В.П. Беркова, толковый словарь, с одной стороны, призван быть справочным пособием читателя, позволяющим определить правильное значение тех или иных слов и словосочетаний. а с другой - быть научным описанием лексики данного языка с ее значениями [Берков 1973: 53], Однако между двумя типами словарей нельзя не видеть точек соприкосновения: оба они имеют дело со взаимодействием слов и вещей, слов и понятий, хотя подходят к подобному взаимодействию, как подчеркивал Р.А. Будагов, с разных позиций и с разными целями, не во всем совпадающими [Будагов 1989: 20].
Нам представляется справедливым мнение В.Г. Гака: «... как бы ни старались некоторые исследователи провести водораздел между лингвистическим и экстралингвистическим, мир слов неотделим от мира вещей, и всякий толковый словарь является инвентарем не только слов, но и понятий, объектов, знаний, составляющих достояние людей, говорящих на данном языке [Гак 1971: 524].
На отсутствие последовательной лексикографической теории еще в 1973 году указывал Д.Н. Шмелев [Шмелев, 1973], об этом же позже писали Ф.П. Сороколетов [Сороколетов, 1986], В.В. Морковкин [Морковкин, 1987] и др. А.Ф. Журавлев, отмечая общий невысокий уровень «лексикографических предприятий», среди типичных просчетов современных диалектных словарей видит невысокое качество семантических толкований, текстуальных иллюстраций. Ученый справедливо сетует на то, что составитель не всегда видит в словаре источник этнографической (культурологической) информации [Журавлев 2006: 60-61].
По вопросу о характере лексикографических толкований (особенно специальных слов) в науке пока нет единства. Его обсуждению посвящены многие десятки научных работ отечественных и зарубежных лексикографов. Часть ученых признает достойными лишь толкования, которые отвечают критериям точности и научности (В.И. Абаев, А.И. Киселевский). Принцип научности в определениях, как справедливо подчеркивает А.И. Киселевский, - это бесспорный принцип, отрицание его бесперспективно в любой науке, в том числе и лингвистической [Киселевский 1979: 96]. Эту же мысль подчеркивал Р.А. Будагов, не занимая в этом вопросе крайней позиции. Он писал: «Толковый словарь не нуждается в принципе «минимизации» определений, хотя нуждается в принципе ясности, точности и краткости» [Будагов 1989: 28]. С точки зрения ученого, все специальные термины в толковом словаре должны определяться с позиции «среднего кругозора», в то время как специальные сведения о терминах должны входить в специальные энциклопедии [Там же: 39].
П.Н. Денисов считает, что при определении слов терминологического характера лексикографы колеблются между двумя полюсами - давать ли энциклопедическое или филологическое определение. Энциклопедическое определение является, строго говоря, не определением, а кратким описанием наших современных знаний о предмете [Денисов 1974: 200-201], то есть ученый также ратует за четкое отграничение энциклопедических словарей по характеру толкований. А.И. Киселевский же занимает более сдержанную позицию в направлении разграничения толкований. В том случае, если речь идет о содержательной стороне знаков, имеющих общефункциональную основу, описания значений слов в толковых словарях и соответствующих им понятий в энциклопедиях должны, в сущности, по его мнению, каким-то образом совмещаться (выделено нами - Л.А.) в главном, поскольку здесь представлены родственные категории в диалектическом взаимодействия языка и мышления [Киселевский 1979: 93].
Поскольку значение слова, как говорилось выше, представляет собой определенный набор сем, толкование слова или определение понятия - это, по сути, поиск и эксплицирование, объективация такого набора сем или существенных признаков понятия. Этот процесс (в силу его сложности, обусловленной объективной сложностью самого «плана содержания), на наш взгляд, во многих случаях неотрывен от тех или иных априорных представлений лексикографа, которые могут становиться основой для описания понятия или значения составителем словаря, создающим или наследующим определенную традицию истолкования значений слов или понятий.
Птицы отряда воробьиных
Семантизация русск. воробей представляет большее количество СП по сравнению с толкованием нем. Sperling. Авторы словаря подчёркивают её размер, цвет оперения, принадлежность к семейству вьюрковых и среду обитания. Дефиниция орнитонима в немецком словаре подчёркивает такие ДП, как размер и внешние особенности. Причем последний признак выражен с помощью большего количества сем. Немецкие лексикографы описывают не только цвет оперения, но и клюв, и крылья птицы. Однако существенным недостатком немецкой дефиниции, на наш взгляд, является отсутствие какой-либо информации о семействе, к которому она принадлежит. Толкование нем. Sperling в словаре Г. Варига, напротив, информирует читателя лишь о её биологическом родстве. Ср.: Sperling - представитель подсемейства ткачиковых: Passerinae [Wahrig 1991: 1200].
В русских толковых словарях дефиниции орнитонима, как правило, подчёркивают цвет оперения и среду обитания птицы. Ср.: воробей - маленькая птичка с серо-черным оперением [СОЖ 1985: 93]; небольшая птичка с коричневато-серым оперением, живущая обычно около жилища человека [СТСРЯ 2006: 92]; маленькая серо-коричневая птичка семейства ткачиковых, живущая обычно вблизи жилых строений [Ефремова 2000: I, 209]. Как видим, в трёх дефинициях одного и того же слова идентификатором выступает деминутив «птичка», что подчёркивает её маленький размер, количество же конкретизаторов варьируется. Самыми актуальными, на наш взгляд, являются конкретизаторы, описывающие размер птицы с помощью сегмента «маленькая/небольшая» и цвет оперения. Последний признак репрезентирован с помощью разных сем: серо-черное оперение, коричневато-серое оперение, серо-коричневая.
В русских, в том числе в брянских, говорах бытует фонетический вариант веребей и целый ряд синонимичных наименований: горобец (видимо, заимствовано из укр.), живец, лупач. шлуд [БОС 2007: 45, 77, 104, 195, 374]. Корень вереб - древний славянский корень. В венгерском языке это слав, заимствование зафиксировано еще в 1350 г. [Kniezsa 1955: 553-554]. В немецком языке слово Spatz является лексическим дублетом орнитонима Sperling. В словаре Дудена эта лексема приводится в значении не только воробья, но и в метафорическом значении: маленький, щуплый ребёнок. Spatz употребляется, кроме того, и с положительной коннотацией - как ласкательное слово для детей: Herzchen, Liebling, кошт her, mein (kleiner) Spatz! [Duden 2003: 1479]. Орнитонимы Sperling и Spatz функционируют в литературном языке, однако выбор того или иного варианта связан в том числе и с территорией. Так, на юге Германии более употребителен вариант Spatz, тогда как Sperling доминирует на востоке и в центральной части страны. [Кпоор 2001: 106-107]. В немецких диалектах бытуют, кроме того, лексемы Liming. Dacklnk. Haus-fink (букв, «домашний вьюрок») (зап.-н.-нем.), Spunzger. Skanziger (сакс), Sperk, Zwlich (тюринг.), Spatzert (гесск.), Msch (рейн.), Gesparn (шваб.) [Кпоор 2001: 106-107]. Слово Msch в южных диалектах означает латунь, в западных же у него есть омонимы: здесь так называют не только воробья, но и растение ясменник душистый (Asperula odorata L.) [БИРС 2000: II, 111]. В словаре они закономерно квалифицируются как омонимы.
В отряд воробьиных входит семейство вороновых. Это самые крупные из певчих птиц. К ним относятся: ворон, ворона, галка, грач, кедровка, кукша, сойка, сорока.
В данном случае в качестве ДП в словарях двух языков выделяются разные признаки. В представлении российских лексикографов ворон не только имеет черное оперение и крупный размер, но и живет в лесах. Для немецких же учёных-лексикографов всё остальное не важно: дифференцирующим для них стал каркающий крик птицы.
В СОЖ дефиниция слова ворон вместо указания на хищную природу птицы говорит о ее всеядности: «большая всеядная птица с блестящим чёрным оперением» [СОЖ 1985: 94]. Этот же признак отмечается и в СТСРЯ, но при этом добавляется дифференцирующая еема «гнездования»: «крупная всеядная птица с блестящим чёрным оперением, гнездящаяся обычно в уединенных местах» [СТСРЯ 2006: 92]. В немецкой лексикографии, наряду с достаточно информативными дефинициями слова Rabe, встречаем и краткий вариант, учитывающий, однако, орнитологическую систематизацию. Так, в словаре Г. Варига находим: Rabe - «крупная сильная птица семейства вороновых; (в узком смысле) Kolkrabe» [Wahrig 1991: 1032]. При этом общеупотребительное нем. Rabe «ворон» носит обобщающий характер и обозначает всех птиц, внешне похожих на ворона. Орнитологическим термином, еоответствующим лат. Corvus corax, является нем. Kolkrabe.
Синонимичные диалектные названия данного орнитонима в русеком языке, вероятнее всего, восходят к звукоподражательному кар-: каркан (новг.), каркун/каркун (беломор., влад., волог., калин.) [СРНГ 1977: XIII, 92]. Наличие в русском языке форм ворон и диал. каркан, каркун подтверждает мысль, высказанную Г.П. Клепиковой, о том, что славянским языкам известно нисколько названий для птицы Corvus corax; наиболее распространенными являются: 1) восходящие к vorn- 2) с kr-. Существует значительное число фонетических и словообразовательных вариантов этих названий [Клепикова 1961: 178]. Ср. названия ворона и вороны в славянских языках: нижнелуж. wron, чеш. wrna - vran, слов, gavran, vran, польск. wrona - wron, kruk, полаб. krot, rovan, болг. гарван, серб.-хорв. врана, вран, укр. ворон, крук, бел. крук, вороннё, ворон. Эти соответствия, с учётом еще лит. vdrna - varns, позволили В.К. Журавлеву реконструировать, пожалуй, древнейшую форму слова, его архетип warna - warnas [Журавлев 1983: 35].
Ворона - лат. Corvus corone Krhe «хищная птица сем. вороновых или врановых, средней величины, с чёрным или серым оперением» [БАС 1951:11,677-678]
В дефинициях слов в обоих языках отражены одинаковые СП: размер, цвет оперения птицы, а также принадлежность к определенному семейству. В русском языке подчеркивается также хищность птицы, кроме того, указывается на возможность и другого, не только черного, оперения. С орнитологической точки зрения последний признак важен для различия двух подвидов: Corvus corone corone - черная ворона и Corvus corone comix - серая ворона В ПСНЖ зафиксирован лишь подвид «черная ворона» {Corvus corone). Латынь также не вполне соответствует наименованию, поскольку Corvus corone называет вид ворона, а не его подвид. Научным термином, соответствующим лат. Corvus corone, является нем. Aaskrahe.
В русских говорах обнаруживаем немало синонимов общенародного слова, возникших как в самих русских говорах, так и заимствованных из других языков. Так, из укр. языка в южнорусск. говоры пришло слово гава, являющееся в украинском словом литературным [СРНГ 1970: VI, 83]. К диал. синонимичным наименованиям относим слова: карповна. каркунья. каркуша, карга/карг. Все они содержат звукоподражательный элемент кар-. Интересно, что в русских говорах карканье приписывается и другим птицам. Так, каркунья - самая большая в стае утка (том.), каркуша - кукушка (киров.) [СРНГ 1977: XIII, 92], карга - золотистая щурка Merops apiaster (астрах.) [СРНГ 1977: XIII, 82]. Следует отметить широкое распространение слова карга в русских говорах. Перечислим лишь некоторые говоры: дон., астрах., тамб., сарат., симб., вят., урал., оренб. и др. [СРНГ 1977: XIII, 82], то есть слово известно в обоих наречиях.
В бытовом сознании немцев (впрочем, как и русских), в том числе и в среде носителя диалектов, наблюдается неразличение птиц «ворон» и «ворона». Так, в южной Германии Rapp- ворон, в Эльзасе и Пфальце Кгарр-ворон, в швейцарском же Базеле Grapp - ворона. В Тюрингии Gake обозначает ворону, а в Гессен и Швейцарии - ворона [Suolahti 2000: 181]. Как было упомянуто выше, орнитологи различают два подвида птицы: Corvus cor one corone - нем. Rabenkrhe (черная ворона) и Corvus corone comix - нем. Ne-belkrhe (серая ворона). Часто эти слова ошибочно указываются в словарях как синонимы.
В некоторых словарях русского языка «ворона» представлена как многозначное слово. Так, СОЖ приводит следующее переносное значение: зевака, ротозей (разг.) [СОЖ 1985: 94], в СТСРЯ зафиксировано также значение «рассеянный, невнимательный человек, ротозей» [СТСРЯ 2006: 92], в словаре В.И. Даля в качестве оттенка значения слова ворона приводится «нерасторопный, вялый человек, разиня, рохля, зевака» [Даль 1955:1, 244].
Диал, каркунья, каркуша, карга также являются многозначными словами. В переносном значении каркунья обозначает женщину, которая брюзжит, бранится и предвещает недоброе [СРНГ 1977: XIII, 92]; слово каркуша употребляют, характеризуя женщину, любящую поговорить (твер., пск., яросл.). Карга обычно говорят о несообразительном, неумелом (перм., вят, самар.) или о нерачительном в хозяйстве, нерасторопном человеке (волог.) [СРНГ 1977: XIII, 82]. Все метафорические переносы построены по типу модели «наименование птицы наименование человека». Ю.Д. Апресян относит эту модель к типу регулярной многозначности, т.е. «для любого слова. имеющего значение типа «А», верно, что оно может быть употреблено и в значении типа «В» [Апресян 1971: 517]. Это положение подтверждается и данными выше примерами.
Мифологический источник культурной интерпретации орнитонимов русского и немецкого языков
Мифическое представление о птицах возникло как результат неуклонного расширения связи мира древнего человека с миром природы. Как пишет С.Н. Крамер, мифы древних представляют собою одно из глубочайших достижений человеческого духа, вдохновенное творение талантливых умов, не испорченных научным подходом аналитического мышления и потому открытых для глубоких космических прозрений [Мифологии древнего мира 1977: 5]. Поэтому мифологический потенциал лексики, в том числе орнитологической, у каждого этноса издавна занимал видное место. Как отмечает С.А. Кошарная, употребляясь в символической функции, слово «оказывается как бы двунаправленным»: то или иное символическое значение, приобретаемое предметом, усваивается и словом - наименованием» [Кошарная 2002: 24-25].
Как пишет СВ. Перевезенцев, «нынешнее знание славянской мифологии еще далеко от завершения... И прежде всего потому, что мифология славян известна нам лишь фрагментарно» [Перевезенцев 2001: 5-6]. Основной спектр мифологических знаний (слов-понятий), лежащих в основе русской наивной картины мира, существовал уже в древности праславянского языка [Кошарная 2002: 37]. Однако, как подчеркивают В.В. Иванов и В.Н. Топоров, по мере расселения славян возникали локальные мифологические новообразования [Иванов, Топоров 1965: 5]. Таким образом, русская мифологическая орнитологическая символика должна а priori предстать перед исследователем хронологически и содержательно сложной.
Большой вклад в развитие теории мифа внесли в России такие ученые, как Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев, А.А. Потебня, в Германии в XIX в. - братья Гримм, В. Маннгардт, X. Вольф, А. Кун и др.
Я. Гримм, положивший начало сравнительному изучению мифологии, в «Немецкой мифологии» приходит к выводу о существовании сходства в мифологии различных народов, причем это сходство обнаруживается прежде всего в языке. «Я полагаю - писал Я. Гримм, - что миф есть общее достояние многих народов..., миф соответствует глубинной сути народа, чьих богов он соединяет в строгую систему, - так и слово в языке, общее с другими языками, как правило, можно принять во внимание, если отыскать корни этого языка» [Зарубежная эстетика 1987: 64]. Сравнивая славянскую и германскую мифологии, я. Гримм отмечал, что в целом мифология славян гораздо более необузданная и чувственная, чем германская, и всё-таки кое-что при её изучении можно извлечь и для германской мифологии, поскольку славянские народные предания и сказки записаны ближе к источникам и собрания их богаче» [Там же 1987: 62]. Ф.И. Буслаев полагал, что индоевропейские народы родственны не только по языкам, но и по сказочным преданиям [Буслаев 2003: 44]. Е.Е. Левкиевская отмечает, что влияние германской мифологии на славянскую, а в особенности на западнославянскую, подчеркивается всеми исследователями, хотя конкретные формы и результаты этого влияния до сих пор не изучены [Левкиевская 1999: 77]. Сравнительное изучение мифологии привело исследователей народной словесности к убеждению, что в основе большей части мифов лежит взгляд человека на природу как его первая умственная попытка дать себе отчет об окружающем мире, природе, самом себе в ней.
Сведения по мифологии древних германцев крайне отрывочны ввиду сравнительно ранней и глубокой христианизации западногерманских племён. Поэтому для исследования мифологии древних германцев привлекаются и исландские литературные памятники, как несравнимо более полные литературные источники («Старшая Эдда» и «Младшая Эдда») [Кононова 2001: 62]. В связи с этим нами привлекались не только германские мифы и сказания, но также и скандинавские источники как часть германо-скандинавской мифологии.
Повествования о животных и птицах - самая обширная и самая древняя группа мифов. В одних из них мы обнаруживаем представления человека о тотемных зверях, то есть таких, которые, в представлении древних, были предками человека; в других, наоборот, идет речь о том, как люди превращались в животных.
А.А. Потебня понимал миф широко. «Под мифом, - говорил он, - разумеются, между прочим, такие простые поэтические объяснения явлений, как «облако - это камень, гора», «душа - это дыхание, пар, дым, ветер». В то же время к области мифов относятся и те, предметом коих служат деяния высших человека существ, управляющих миром и человеком и во всех мифологиях относимых преимущественно к небу. Очевидно, последние мифы, - полагал ученый, - должны быть позднее по времени образования, так как они предполагают более-менее значительную степень широты и единства миросозерцания [Потебня 1989: 274]. С теорией мифа непосредственно связаны и разыскания ученого в области символики фольклора. Происхождение символов, с его точки зрения, вызвано самим ходом эволюции языка и мышления. Слова постепенно утрачивают свою внутреннюю форму, свое ближайшее этимологическое значение. На его восстановление и ориентированы символы, используемые в народной поэзии.
В различных мифопоэтических традициях птицы выступают как непременный элемент религиозно-мифологической системы и ритуала, обладающий разнообразными функциями. Птицы могут быть божествами, героями, превращенными людьми и т.п. Они выступают как особые мифопоэтические классификаторы и символы божественной сущности, верха, неба, духа неба, солнца, грома, ветра, свободы, жизни, вдохновения, пророчества, связи между космическими зонами и т.д. Типология птичьих образов в мифах охватывает не только реально существующие виды птиц, но и птиц фантастических. У древних германцев птицы считалась вместилищем душ умерших. И сама птица могла «переселяться» в человека, воплощая злого духа, которым мог быть одержим душевнобольной или просто человек странного поведения [Кононова 2001: 194].
В основе мифологического мышления лежат бинарные оппозиции, типа «верх - низ», «внешний - внутренний» и т.п. По Т.В. Топоровой, ключевые понятия древнегерманской модели мира (и их семантические мотивировки) также организованы в бинарные оппозиции [Топорова, 1994]. В частности, оппозиция «верх - низ» характеризует пространственно-временные условия жизни, а оппозиция «внешнее - внутреннее» лежит в основе концепции социального деления общества. С точки зрения автора, основополагающие оппозиции «верх - низ», «внешний - внутренний» соотносятся с оппозицией «хорошо - плохо» по стандартному образцу: хорошо: верх / внутренний - плохо: низ / внешний». По мнению Е.И. Карпенко, современные зооморфные метафоры и архаические зооморфные мифологемы могут быть соотнесены на общей для тех и других основе - базовой архетипической культурной оппозиции «хорошо - плохо» [Карпенко 2006: 113]. Рассмотрим, какие же птицы могут воплощать положительный и отрицательный полюсы оппозиции.
Домашние птицы
Гусь. ФЕ с компонентом гусь, характеризуя человека, как в русском, так и в немецком языках имеют отрицательную коннотацию. Так, в русском языке о ловкаче или мошеннике говорят: каков гусь, хорош гусь [СОЖ 1985: 146], о нерасторопном, недальновидном и заносчивом человеке - гусь порядочный, пройдоху и плута называют гусем лапчатым [ФСРЛЯ 1995: I, 166]. Ср. в нем. ein feiner Vogel - «хорош гусь» (букв, «хорошая птица») [БИРС 2000: II, 546]. Гусь в нем. используется для характеристики глупого человека: ein Gesicht machen wie eine Gam, wenn es donnert - иметь глупый вид (букв. «сделать такое выражение лица как гусь, когда гремит гром»), er ist so dumm, dass ihn die Game beifien - он непроходимо глуп (букв, «он такой глупый, что его кусают гуси») [НРФС 1956: 267]. Eine dumme Gans, являясь бранным выражением, употреблется по отношению к лицам женского пола [Duden 2003: 597]. Вообще гусь в немецком языковом сознании является глупой птицей: es flog eine Gans bers Meer, кат eine Gans wieder her ворона за море летала, а ума и не достала [ЕРФС 1956: 267].
Эквивалентными можно было бы признать русск. ФЕ как с гуся вода -нем. anj-m ablaufen wie das Wasser an der Gans (букв, «стекать как вода с гуся»). В русском языке находим неоднозначные толкования данного ФЕ. В словаре СИ. Ожегова: как с гуся вода - о том, кому всё проходит безнаказанно, всё сходит с рук [СОЖ 1985: 146]. А.И. Молотков выделяет два значения данного ФЕ: 1. Кому-л. Нипочем, безразлично; не производит никакого впечатления 2. С кого-л. Легко, быстро, бесследно исчезает, забывается и т. п. [ФСРЯ 1968: 73]. Немецкий же вариант трактуется как «не впечатлять, не волновать кого-л.» [Duden 1996: 22].
Курица. В русском, как и в немецком, языковом сознании курицу считают птицей глупой: куриные мозги (ум) (ср. в нем. языке Spatzenhirn — ко-роткий, куриный ум), ein blindes Huhn, ein dummes Huhn - дурак, дура. В основе ФЕ «куриные мозги» лежит метафора, уподобляющая интеллект человека интеллекту курицы. Образ данного ФЕ отображает стереотипное представление о женщине как о человеке с низким интеллектуальным уровнем, чьи умственные способности ниже способностей мужчины [БФСРЯ 2007: 344-345]. Ср. в русск. пословицы не петь курице петухом, не быть бабе мужиком; курица - не птица, баба - не человек [Даль 1995: II, 95]. Таким образом, для русского языкового сознания, как мы считаем, характерно интеллектуальное противопоставление «курица - петух», «женщина» - «мужчина». Кроме глупости, образ курицы связывают и с другими недостатками человека. В русском языке называют мокрой курицей безвольного, бесхарактерного человека, а также человека, имеющего жалкий вид, [ФСРЛЯ 1995:1, 340]. В немецком видим нечто подобное: ein verregnetes Huhn (букв, «испорченная дождем курица») [БИРС 2000: I, 650]. Близорукого или недальновидного человека в русском языке именуют слепой курицей. В нем. находим близкое: ein blindes Huhn - дурак, дура (букв, «слепая курица»), ein blindes Huhnfindet auch einmal ein Кот - бывает, что и дурак метким словом обмолвится (букв, «слепая курица тоже иногда зерно находит») [НРФС 1956: 382-383].
Образ ФЕ курам на смех также связан с представлением о курице как о глупой птице, где она является символом скудоумия. Так говорят о чем-то нелепом, глупом, смехотворном [БАС 1956: V, 1867-1868]. Сходный образ находим и в нем.: da lachenja die Hhner [Duden 1996: 168].
C точки зрения русского человека курица может не только смеяться, но и писать, правда, делает она это неряшливо и некрасиво. Когда курица топчется на одном месте, выискивая корм, то разобрать отдельных следов лап практически невозможно; вероятно, отсюда и пошло сравнение с неразборчивым почерком. В немецком языке подобный фразеологизм с компонентом Huhn «курица» отсутствует. О человеке, который пишет, как курица лапой, говорят: er hat eine schreckliche Pfote - букв, «у него ужасная лапа» [БИРС 2000: II, 193].
Немцы считают, что даже если бы курицу обучали, положительных качеств ей это вряд ли прибавило: ein gelehrtes Huhn - синий чулок (букв, «ученая курица») [БИРС 2000:1, 650].
Даже забота у курицы носит чрезмерный характер. Ср. в русск. носится как курица с яйцом - уделяет излишнее внимание тому, кто или что такого внимания не заслуживает [ФСРЯ 1968: 208].
Однако курица хоть и глупа, но может нести золотые яйца. Ср. в русск. резать курицу, несущую золотые яйца, в нем. das Huhn, das goldene Eier legt, schlachten. Это выражение взято из басни Жана Лафонтена, в которой кто-то убивает курицу, несущую золотые яйца, так как он думает, что внутри курицы спрятано сокровище [Duden 1996: 168].
Образ ФЕ денег куры не клюют (очень много денег, в избытке) отталкивается от реальных бытовых наблюдений над курами, которые отличаются большой прожорливостью и постоянно клюют хотя бы по зернышку. Если даже куры оказываются пресьщенными какой-либо пищей, значит, ее имеется в избытке [БФСРЯ 2007: 345-346].
Национально-специфичными для немецкого языка являются фразеологизмы: alle seine Htihner und Game herzhlen - перемывать кому-либо все косточки (букв, «пересчитать всех своих кур и гусей»), als htten ihm die Htihner das Brot genommen - он надулся как мышь на крупу (букв, «у него словно куры забрали хлеб»), wie die Htihner, so die Kchlein - каков батька, таковы и детки (букв, «какие курицы, такие и цыплята») [НРФС 1956: 383], das Ei ипerm Huhn verkaufen mtissen - нуждаться в деньгах (букв, «быть вынужден-ным продавать яйцо среди кур»), mit den Hhnern zu Bett gehen очень рано ложиться спать, mit den Htihnern aufstehen очень рано вставать [Duden 1996: 168]. В русском языке во фразеологизмах со значением «очень рано вставать или ложиться спать» употребляется «петух»: с петухами вставать, с петухами ложиться [БАС 1958: IX, 1114].
Петух. Как в русском, так и в немецком языковом сознании образ петуха связан с такими качествами, как задиристость, драчливость: задиристый как петух, петухом налететь на кого-л. [ФСРЯ 1968: 506], wie ein Hahn hochgehen - разойтись, распетушиться [Duden 1996: 327]. Петух - «натура гордая», это заметили и русские и немцы: ходить петухом [СОЖ 1985: 506], einherstolzieren wie der Hahn aufdem Mist - важничать как петух на навозной куче [Duden 1996: 327].
В обеих культурах петух является символом пожара. ФЕ пустить красного петуха (поджечь что-л., устроить пожар) в нем. также строится с помощью орнитонима Hahn «петух»: j-m den roten Hahn aufs Dach setzen (букв, «посадить кому-либо красного петуха на крышу)» - пустить (красного) петуха [НРФС 1956: 327]. Данный фразеологизм восходит к древней языческой символике огня и культу Перуна. Красный петух и у славянских, и германских племен был символом божества огня и солнца, разница лишь в том, что германцы приносили такую жертву громовержцу Тору, а славяне - Перуну [Мокиенко 2007: 240].
В старину время отмерялось пением петуха. По его пению ночь делили на три части: первые петухи (полночь), вторые петухи (до зари), третьи петухи (заря): встать до петухов, встать с петухами, до поздних петухов (до глубокой ночи) [БАС 1958: IX, 1114]. В русском языке петух несомненно является певцом: поп да петух и не евши поют, петушиный голос - крикливый, резкий, пускать(давать) петуха - издавать пискливые звуки, сорвавшись на высокой ноте во время пения, речи [ФСРЯ 1968: 370]. Однако главенствующая роль певца в русском языке принадлежит соловью. Ср. русск. мал соловей, да голос велик [Даль 1955: IV, 266].
В немецком языке петух не наделен певческим талантом. Немцы замечали особенности его поведения: der Hahn ist ktihn aufseinem Mist всяк кулик в своем болоте велик (букв, «петух - смелый на своем помёте»), ein та-gerer Hahn krht gut - худой петух кричит хорошо, wenn der Hahn krhen will, fliegt er aufeinen Pfahl - о тщеславии петуха, который любит выставлять себя напоказ (букв, «когда петух хочет кричать, он садится на столб»), zwei Hhne aufeinem Mist vertragen sich nicht два медведя в одной берлоге не уживутся (букв, «два петуха на одной навозной куче не уживутся») [Beyer 1988: 242].
Выражение Hahn im Korb sein (букв, «быть петухом в корзине») употребляют, говоря о единственном мужчине в женском обществе или же об общем баловне. Возможно, возникновение данного фразеологизма связано с народной игрой. Во время игры собравшиеся в круг молодые девушки должны были с завязанными глазами достать палкой корзину со спрятанным в ней петухом. Та, которая задевала корзину, получала буквально «петуха в корзине», что означало скорое замужество [Raab 1995: 66-67]. Однако находим и другое объяснение. Петух ценится больше, чем окружающие его куры. Под корзиной, вероятно, подразумевается такая, в которой птиц носили на рынок [Duden 1996: 291]. ФЕ kein Hahn krht danach — никому до этого и дела нет (букв, «ни один петух об этом не кричит») основан на представлении немцев о том, что петух своим криком обращает на себя внимание кур. Петух ничего не понимает в высиживании яиц: von etwas so viel verstehen wie der Hahn vom Eierlegen - совсем ничего не понимать, не разбираться (букв, «так много понимать, как петух в высиживании яиц»). Он может свести человека с ума; vom Hahn beflattert, betrampelt sein - быть не в своем уме (букв, «быть затоптанным петухом») [Там же: 291]. Последнее в немецком языке относится не только к петуху, а вообще к птицам: ср. Spatzen im Kopfhaben - быть с придурью [НРФС 1956: 1198]. Хотя у О.И. Москальской встречаем: er hat Spatzen im Kopf- он задается, высокомерен; но du hast wohl einen Vogel (im Kopf) - у тебя видно не все дома [БИРС 2000: II, 546].