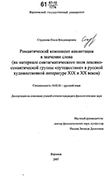Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Образное поле в художественной речи: понятие, структура и функции 22
1.1. Категория поля в современной лингвистике 22
1.2. Понятие образного поля в художественной речи 35
1.2.1. Проблема систематизации художественных единиц в современных лингвопоэтических исследованиях 35
1.2.2. Взаимосвязь образного и семантического полей: интегральные и дифференциальные признаки 40
1.3. Иерархия отношений в структуре образного поля и классификация образов 46
1.4. Вариативность и взаимообратимость образов 52
1.5. Функции образного поля 56
Выводы по главе 1 68
ГЛАВА 2. Образные поля с левым компонентом человек в текстах русской орнаментальной прозы первой трети XX века 70
2.1. Образное поле и эстетическая концепция русской орнаментальной прозы 70
2.2. Образное поле «Человек – живая природа» 77
2.2.1. Образное поле «Человек – животный мир» 78
2.2.2. Образное поле «Человек – растительный мир» 98
2.3.Образное поле «Человек – неживая природа» 110
2.3.1. Образное поле «Человек – вода» 111
2.3.2. Образное поле «Человек – земля» 117
2.3.3. Образное поле «Человек – воздух» 122
2.3.4. Образное поле «Человек – небесные тела». 124
Выводы по главе 2 129
ГЛАВА 3. Образные поля с левым компонентом природа в текстах русской орнаментальной прозы первой трети XX века 133
3.1. Образное поле «Живая природа – человек» 133
3.2. Образное поле «Неживая природа – человек» 141
Выводы по главе 3 151
Заключение 153
Список сокращений и условных обозначений 160
Список литературы 1
- Проблема систематизации художественных единиц в современных лингвопоэтических исследованиях
- Иерархия отношений в структуре образного поля и классификация образов
- Образное поле «Человек – животный мир»
- Образное поле «Неживая природа – человек»
Проблема систематизации художественных единиц в современных лингвопоэтических исследованиях
Структурно-системные отношения в лексике на протяжении многих десятилетий остаются значимым объектом лингвистических исследований. Зарождение и развитие в отечественном языкознании идеи системности лексики традиционно связывают с трудами выдающихся учёных В. В. Виноградова, М. М. Покровского, А. А. Потебни, Л. В. Щербы [247, с. 60]. Так, например, говоря о детерминированности языкового значения, В. В. Виноградов указывал на то, что «в языковой системе смысловая сущность слова не исчерпывается свойственными ему значениями. Слово по большей части заключает в себе указание на смежные ряды слов и значений. Оно насыщено отражениями других звеньев языковой системы, выражая отношение к другим словам, соотносительным или связанным с его значениями» [53, с. 33]. Как семантически связанное в пределах «различных смысловых групп и рядов слов», а также «на уровне всей системы языка» рассматривает слово А. А. Уфимцева [247, с. 10]. Ю. Д. Апресян описывает устройство лексико-семантического аппарата языка как «классификационно-операционную систему, иерархически организованную из многократно пересекающихся классов и подклассов, единицы которых подчиняются определённым правилам взаимодействия значений в тексте» [12, с. 57–58].
Немаловажное место в научной литературе, посвящённой лексико-семантической стороне языка, занимает проблема моделирования языковой системы. С исторической точки зрения одним из первых подходов к установлению системно-структурных отношений в языке наряду с уровневым методом был метод поля, дискуссии о сущности которого не утихают до сих пор [169, с. 14–18 ].
Вопросы, касающиеся возникновения и развития метода семантического поля, а также критический обзор концепций, посвящённых данной проблеме, представлены в известных работах Л. М. Васильева [47], А. А. Уфимцевой [247], Г. С. Щура [268]. Рассматривая генезис проблемы поля, исследователи обращаются к трудам Л. Вейсгербера, Й. Трира, Г. Ипсена, В. Порцига, Ф. Дорнзейфа, В. Вартбурга, А. Йоллеса, возродивших в первой трети XX в. учение В. Гумбольдта о «внутренней форме языка» и положивших начало системному изучению лексики по «семантическим», или «понятийным полям» [47, с. 106; 247, с. 20; 268, с. 22]. Согласно концепции Й. Трира, язык самопроизвольно делится на «понятийные поля» – структуры определенной понятийной сферы или круга понятий, как они присутствуют в сознании данной языковой общности [218, с. 32]. Параллельно с понятийными полями существуют словесные поля, которые полностью покрывают сферу соответствующего понятийного поля: «индивидуальные слова, проводя границы в понятийных полях, делают последние более определёнными, очерченными» [Там же]. Таким образом происходит соединение двух планов – содержания и выражения. А. А. Уфимцева приводит различные определения полевых структур, представленные в работах «неогумбольдтианцев». Так, под «понятийным полем» Л. Вейсгербер понимал «часть понятийного содержания языка», В. Порциг – «сущностные связи значений». Г. Ипсен использует термин «смысловое поле», трактуя последнее как группу этимологически связанных слов, объединённых смысловой и грамматической общностью. А. Йоллес исследует «смысловые сращения, то есть антонимичные пары слов». «Ф. Дорнзейф и В. Вартбург видят своеобразное проявление “внутренней формы языка” в членении словарного состава языка на “предметные и понятийные группы”» [Там же, с. 20–21].
Идеи представителей «неогумбольдтианского» направления получили широкое распространение в лингвистике, обусловили появление различных точек зрения на полевые структуры в языке и формирование общих подходов к их изучению. Так, например, всё многообразие существовавших до 70-х годов XX в. «лингвистических полей» Л. М. Васильев объединил в три класса – «парадигматические», «синтагматические» и «комплексные» поля. В соответствии с логикой деления к первой группе были отнесены «самые разнообразные классы лексических единиц» по наличию тех или иных тождественных семантических признаков: лексико-семантические группы слов, синонимические и антонимические парадигмы, совокупность значений полисемантов и другие [47, с. 108]. Основоположниками парадигматического подхода выступили, по мнению Л. М. Васильева, Й. Трир, Л. Вейсгербер, К. Ройнинг. В отличие от парадигматических, синтагматические поля представляют собой «классы слов, тесно связанных друг с другом по употреблению, но никогда не встречающихся в одной синтаксической позиции» [Там же]. Такова, например, синтаксическая парадигма Мне холодно – Я мёрзну – Меня знобит или Ветер сорвал крышу – Ветром сорвало крышу. Начало изучения данных полей было положено В. Порцигом. Специфика комплексных полей – в заполнении «позиции абстрактной семантической синтагмы … не отдельными конкретными семемами, а их парадигматическими классами (= парадигматическими полями)» [Там же, с. 113], как в моделях: деятель – действие – субъект, субъект (лицо или предмет) – его состояние, лицо – его поведение – оценка поведения. В более поздней работе Л. М. Васильев дополнил эту классификацию ассоциативными, характеризующими субъект, воспринимающий действительность, и понятийными, тяготеющими к тому, «чтобы быть отражением, характеристикой самой действительности», полями [46, с. 138].
Иерархия отношений в структуре образного поля и классификация образов
Специфика создания орнаментального образа, который всегда – на пересечении предметного, внешнего по отношению к герою мира и его внутренних посылок, психологических черт, особенностей облика, ярко отразилась в женских «растительных» образах «Рассказа о самом главном» Е. Замятина. Так, за голубыми некогда ставнями заткнуты березки – вчера, на Троицу, перед обедней, заткнула мать Дорды – это отправная точка в развитии интенсивного инварианта мать Дорды – берёза, это объективный мир, который по принципу импликации переходит в портретную зарисовку: коричневые губы чуть заметно шевелятся – берестой на огне. И, что самое интересное, – во внутренний мир Дорды, когда он вспоминает мать: внутри у Дорды что-то полощется секунду, как на ветру спалённый солнцем березовый лист. Формально образ меняет денотат (мать Дорды / Дорда) и приобретает партитативную сему часть растения, но сохраняет верность своей смысловой заданности, так как в этом образе всё ещё активна латентная модель мать Дорды – берёза. Образная аллюзия должна быть установлена реципиентом текста на основе предыдущего «текстового» опыта.
«Березовая» тема матери Дорды идет параллельно с «сиреневым» мотивом главной героини повести Тали. Показательна взаимосвязь в тексте произведения семантических комплексов «Сирень» и «Человек», продуцирующих интенсивный образный ряд «Таля – сирень». Упоминание сирени всегда возникает вместе с появлением возлюбленной Куковерова Тали. В повествовании отсутствует портрет девушки, но ярко высвечивается одна – единственная деталь, замещающая героиню, – ее ресницы, описание которых всегда соотносится с лексемами сирень, цветок в метафорической спаянности, и, как и ранее, подтекст повтора и текстовые сближения имеют огромное эстетическое значение.
Густые, пригнутые вниз тяжестью каких-то цветов сиреневые ветки. Под ними – вышитая кое-где солнцем тень, в тени – Таля. Ее густые, пригнутые вниз тяжестью каких-то цветов, ресницы. У Куковерова уже нет слов, и неизвестно почему – нужно согнуть, сломать сиреневую ветку. Ветка вздрагивает.
Авторский взгляд, сужаясь, постепенно концентрируется на художественно значимой черте облика (сиреневые ветки – тень – Таля – ресницы). В этом образе задействованы не просто значения исходных понятийных сфер, а ситуация, рождённая текстом. Незначительно варьируясь, данное устойчивое для рассматриваемого речевого произведения сочетание будет появляться на протяжении всего «Рассказа» (согнутые тяжестью цветения, ресницы опущены вниз; не поднимая ресниц, согнутых тяжестью цветов; тяжелые, согнутые тяжестью цветов ресницы и тень), при этом визуальный признак может уступать место температурному, сохраняя вспомогательный компонент тропа (чуть холодные, как сирень в сумерках, девичьи губы). Для описания девушки характерно также контекстуальное метафорическое совмещение в одном синтагматическом ряду неравноправных в сочетаемостном отношении номинаций ресницы и сирень, например, и Таля снова у себя, в тени ресниц, сирени. Такое построение метафорического ряда предоставляет читателю широкие возможности для воображения, так как остается неясным, относится ли лексема сирень к метафоре Таля снова у себя, в тени ресниц, либо она обозначает реальный предмет действительности – куст сирени. Репрезентанты образной линии могут не иметь тропеического характера: ветви согнулись от тяжести цветов: цвести тяжело, и самое главное – цвести. Таля сгибается – лицом в холодные цветы, лицо у ней мокрое, и мокрая сирень в росе. Значимая взаимосвязь лексем-конституентов образа в данном случае выходит на уровень онтологический: цвести тяжело, и самое главное – цвести – эта фраза звучит как авторский призыв к продолжению прекрасного и вечного.
Это продолжение описывается как ближайшее будущее в похожих смысловых координатах, то есть с помощью языковых единиц микрополя «Человек – цветок как отдельное растение» и интенсивного образного ряда «Новые люди – цветы»: и в багровом пламени – новые, огненные я, и потом в белом теплом тумане – ещё новые, цветоподобные, тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы…
«Перекрёсток» повествовательных смыслов, отражение авторской фантастической концепции бытия, этот фрагмент – развёрнутая метафора, вызванная представлениями о генетическом перерождении живого организма после энтропийного существования. В тропе высвечиваются семы прекрасный, новый, рождение, созревание18.
Представляется возможным выделить некоторые изобразительно-выразительные тенденции, характерные для того или иного объединения внутри поля или всего поля, в их отвлечённости от конкретных образных рядов. Эти особенности художественных построений могут лежать в разных, содержательных или структурных, плоскостях. Например, в рамках субполя «Человек – части и плоды растений» наблюдаются регулярные переносы значения по моделям: часть тела человека – плод (были Индриковы глаза, как ягода-голубень (А); глаза, похожие на подсолнечные семечки; губы Оленьки, в плаче, сжались кокетливо, точно вишенки (ГГ); расправлял складочки на груди, поглаживал, сквозь ситец зацепил: как молоденькая еловая шишечка; Марей греет губами прохладную, бледно-розовую морошку (С); тыквенная лысинка (М)); ноги – корни (он стоял возле стола широкий, коротконогий, будто по щиколотку вросши ногами в землю; с корнем выдернул свои ноги из земли и ушёл в комнату (Н); корневища-ноги (Ё); и белые корни – босые ноги – крепко в земле (С); ступни с пальцами как можжевеловое корьё (ГГ)); опавший / жухлый лист – человек в социально-исторических условиях (Маша встала и, покачиваясь от невидимого ветра, причесалась по-старому: на уши, посередине пробор. И это было – как последний, болтающийся на голом дереве, жухлый лист (П); в буйной стихии человеческой был он листком (ГГ); люди на земле – липкие блестящие листья (ЦВ)).
Образное поле «Человек – животный мир»
Нередкое в литературно-художественной истории объективное представление о насекомом как о чём-то маленьком и в этом смысле ничтожном воспроизводится в экстенсивной образной параллели человек – муравей (РоСГ). Тем не менее образ претерпевает приращение смысла за счёт специфики исторического и философского контекста: перед Куковеровым – двое оттуда, от советских: один серый, всякий, тысячный, муравей; а тот – серый, тысячный, муравей покачавшись немного, валится навзничь, и уже никто никогда не узнает, как было его имя; выходит на крыльцо другой в глиняной рубахе – тысячный, муравей, винтовка. Благодаря структуре фразы номинативная метафора муравей подытоживает адъективный ряд (серый, всякий, тысячный), в котором эксплицирован смысл тропа. Этот эпизодический в сущности образ обращен к осмыслению революции, где человеческая жизнь – всего лишь мелочь на пути грандиозных социально-исторических перемен, вероятно, поэтому в «Рассказе о самом главном» не названы имена тех, кто «оттуда, от советских».
На другом внешнем признаке строится в повести экстенсивная модель человек – шмель, посредством неё изображены крестьяне: сердитые, добродушные, мохнатые, как шмели; у дверей крепко стоит мохнатый мужик (РоСГ). Одно из значении полисеманта мохнатый в узусе – это «покрытый, обросший шерстью, волосами» [276], определяться с его помощью может как животное, так и человек. Тем не менее автор вводит компаратив с зоонимом, который усиливает анималистическую образную линию в описании людей и, кроме того, продуцирует семантические ответвления: признак мохнатый связывается по смежности с конкретными наименованиями частей тела человека – грудь, лицо (с шмелиным волосом грудь, мохнатые лица) и абстрактными понятиями улыбка, кряк, круг: потная, рябая, мохнатая улыбка; чей-то мохнатый кряк; древлянское вече: круг – мохнатый, топоры, винтовки… (РоСГ). В отличие от безликих, похожих на шмелей крестьян и подобных муравьям сторонников советской власти, их предводители изображены достаточно чётко. Среди них – «кожаный красавец» революционер Дорда. В лексике, объединённой инвариантом человек – бабочка, автор находит необходимые интенции для создания психологических деталей. Для того чтобы осознать смысл данной параллели, необходимо проследить развитие всего мотива.
Мир: куст сирени – вечный, огромный, необъятный. В этом мире я: желто-розовый червь Rhopalocera с рогом на хвосте. Сегодня мне умереть в куколку, тело изорвано болью, выгнуто мостом – тугим, вздрагивающим. И если бы я умел кричать – если бы я умел! – все услыхали бы. Я – нем.
Эти начальные строки «Рассказа» пропитаны эстетикой декаданса: червь Rhopalocera, или гусеница дневной бабочки, – символ гармонии природного мира, который пытается выжить в революционной неизбежности бытия. Эта тема вариативно отражается в изобразительно-выразительных средствах языка, которые уже не связаны с образом реального Rhopalocera. Так, лирическое «Я» автора отождествляется с гусеницей через метафоры: сегодня мне умереть в куколку, мучительно-тугим кольцом сгибается тело. При драматическом разговоре бывших соратников, а теперь врагов Куковерова и Дорды у последнего под скулой то мечется, то вздрагивает какой-то червяк. Метафора червяк вызвана визуальными ассоциациями и в узком смысле мотивирована прямономинативным словооупотреблением в контактной позиции (ранее читаем слова Куковерова: «Понимаешь – вот я смотрел на неё (кружку. – Ю.С.) и думал: она завтра будет совершенно такая же… Там, может быть – совершеннейшая пустота, пустыня, ничего – и, понимаешь, думаю: вдруг увидеть там вот эту самую кружку … это такая невероятная радость, такая… Или увидеть: ползёт червяк – больше ничего: червяк»).
В аспекте семантической трансформации репрезентантов ряда человек – бабочка интересен также образ плакала старуха, широко раскрыв бельма мокрых глаз, похожих на бабочек на тонком, замшелом пне. Образ внутренне противоречив: в нём противостоят, с одной стороны, представление о бабочке как о хрупком и прекрасном существе, с другой – семантика коннотативно сниженного опорного компонента бельма и распространителя замшелый пень.
За счёт звуковых ассоциации сближаются образы человека / людей и пчелиного роя в микрополе «Человек – пчела»: поезд гудит, как улей (ГГ). Интенсивен в своих вариациях образный ряд «Поп Исидор – пчела» (ЦВ), так как связан со страстным увлечением героя пасекой, и прямые номинации пчела, пасека, мёд частотны в романе: точно две пчелы, копошились в лохматом зелёном волосе маленькие, чужие, ясные глаза; голос у него был как у поднявшегося роя пчёл; укоризненно прогудел поп; дыша медом в бешмет, спросил; говорил шумно. Семантическая цельность образа Исидора нарушается компаративным тропом заходили проворные, как блохи, глазёнки, запрыгали. Поскольку блоха имеет негативные коннотации, её выбор в качестве вспомогательного компонента, вероятно, обусловлен желанием снизить весь образ. Пейоративно окрашенные образы также создаются с помощью языковой метафоры гнида: я бы этого Обёртышева, как гниду (П); – Молчать, гниды … (БП).
Оценочные расширения семантики характеризуют лексему комар, чья роль в создании образа человека сводится к двум устойчивым смыслам, которые определяются не просто спецификой авторской языковой картины мира, но и в целом носителей языка. Во-первых, в номинации комар имплицитна сема назойливый: актуализируя её, писатель прорисовывает «повадки» персонажа в образном ряде «Пимен – комар» (А): стал Пимен за Фёдором виться, как комар; вился и вился Пимен; ласковым комаром пел Пимен. Во-вторых, семантическая дефиниция комара – это кровососущее насекомое [276], поэтому Пимен «впивается» «в самое ухо».
Образное поле «Неживая природа – человек»
Инварианты небо-человек, небо-девушка реализуются и в «Рассказе о самом главном» Е. Замятина: зеленое в красных рубцах небо; оно (небо. – Ю.С.) вспыхивает красным – как девушка, которая в первый раз увидела, почувствовала – щёки у ней всё горячее, и сердце, жужжа кровью, мчится навстречу – чтобы сгореть, сжечь.
Образы небесных светил устойчиво соотносятся в орнаментальной прозе с лексикой, называющей части тела человека, его физические действия и состояния. Например, лексема солнце сочетается с глаголами перемещения в пространстве (микрополе «Солнце – физические действия и деятельность») лететь, нестись, падать, метаться, останавливаться 23 – ассоциирование образа связано, во-первых, с представлениями о движении солнца по небосклону и, во-вторых, с необходимостью создания напряжённого или, наоборот, спокойного тона повествования (например, кружась падает солнце (РоСГ); солнце останавливалось в небе; неслось солнце (Ё)). Образное значение может углубляться за счёт лексики с семантикой эмоций: солнце мечется в последней тоске (РоСГ), фразеологизма: но солнце взодрало вверх, сломя голову летело всё выше (Ё). Частотны образные единицы, связанные с мотивами бодрствования, сна и усталости (микрополе «Солнце – физиологические реакции и состояния человека»): был тот самый час, когда ночное солнце ненадолго останавливалось в небе и с открытым глазом дремало … (Ё); белое бессонное солнце (С); стало солнце приуставать (А); днём над степью поднимается сонное солнце (ГГ); солнце – усталый борец (ЦВ).
Водная стихия описывается при помощи лексических единиц со значением «Части тела человека и его внутренняя среда» (и реки, зажмурив глаза, несутся с гор – рвут зубами пенными землю; розоватые и тёплые, как тело ребёнка, лежали снега; рвётся там кверху голубым телом ручей (ЦВ); вода напруживала синие невские жилы (Н); по хребту сугроба (ЦВ); водяные вихры (Ё)), а также через семантику глаголов движения и речевых действий (микрополе «Вода
Здесь и далее полисемантичные глаголы рассматриваются нами как относящиеся к сфере человека только в контексте антропоморфизации природных образов, наблюдающейся в произведении. физические действия и деятельность», «Вода – речь»): Тунежма баюкала, старинки сказывала; шепчет Тунежма (С); реки несутся; обнимите дожди поля (ЦВ); вода шелестела, точно дышала (ГГ).
Олицетворенный образ реки Тунежмы перекликается с образом главного героя повести «Север» рыбака Марея и его лайки. С лексемами Марей, лайка Тунежма в повести соотносятся определения, в семантической структуре которых есть сема белый: белокипенная Тунежма, белоголовый Марей, белокипенная лайка. Использование колоратива обусловливает мотивное «сцепление» нескольких образов и, соответственно, нескольких образных полей («Человек – живая природа», «Человек – неживая природа», «Живая природа – неживая природа» и обратных им).
В данном микрополе обращает на себя внимание интенсивный образный ряд «Туман – физические действия и деятельность» (по лугу пополз туман; туманы заползли вверх; ползли по улице сырые туманы и т. д. – всего около 15 репрезентантов ряда), функционирующий в тексте романа Б. Пильняка «Голый год». Это один из примеров того явления, когда многочисленный повтор художественной единицы в орнаментальной прозе задает её концептуальную нагрузку: образ тумана в романе символичен, он идёт «сплетая и путая пути и расстояния», обозначая новое «смутное время» в истории страны. Образность единицы не является очевидной, поскольку одно из значений глагола ползти – это «медленно двигаться, продвигаться, занимая собой какое-либо пространство (обычно о тучах, тумане, дыме и т. п.)» [240]. Однако в тексте присутствует распространитель с семантикой отсутствия речи (безмолвно полз туман), который позволяет нам отнести все данные синтагмы к образным единицам.
В аспекте рассмотрения структурно-видового разнообразия образов внутри данного поля заметим, что доминируют по числу единицы, выраженные глагольными (распространёнными и нераспространёнными) метафорами, другие виды тропов представлены меньшим количеством репрезентантов. Образные единицы могут задействовать как один, так и несколько признаков объекта из сферы-донора.
Своеобразие лексического материала, вошедшего в образное поле «Неживая природа – человек», обусловливает наличие двух противоречивых тенденций. С одной стороны, глубина и яркость художественного осмысления реалий неживой природы не оставляет сомнений: это значимые художественные единицы, которые широко используются в создании подтекста (к примеру, образы ветра и земли в «Цветных ветрах», тумана в «Голом годе»). С другой стороны, образные ряды данного объединения за редким исключением немногочисленны (в основном состоят из двух репрезентантов), поле дискретно, насыщено периферийными образами и в этом смысле сходно по характеристикам с образным полем «Живая природа – человек». Доминирующее число образов несёт детально-описательную нагрузку, но их функция не исчерпывается созданием колоритных картин, на фоне которых разворачиваются сюжетные перипетии. Обилие оригинальных глагольных метафор, поддерживающих общую психологическую канву повествования, – свидетельство того, что авторская интенция направлена на создание образа природы, импонирующей или противостоящей человеку в общем сюжетно-временном континууме.