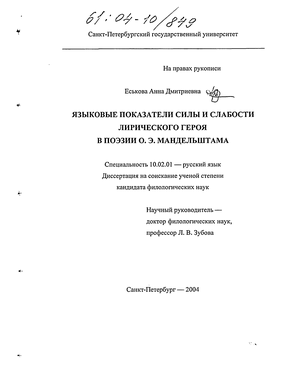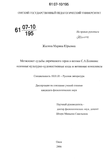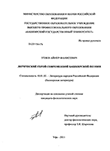Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. ЯЗЫКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИЛЫ И СЛАБОСТИ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В ФИЗИЧЕСКОМ МИРЕ 28
1. Обозначения физической и психической силы и слабости лирического героя 28
Обозначения физической и психической силы лирического героя...29
Обозначения физической и психической слабости лирического героя 35
2. Обозначения интенсивного физического действия лирического героя и интенсивного физического воздействия на него 42
Обозначения интенсивного физического действия лирического героя 43
Обозначения интенсивного физического воздействия на лирического
героя 51
3. Языковые средства, характеризующие движение лирического
героя 64
Обозначения движения и неподвижности лирического героя 65
Обозначения неконтролируемого передвижения лирического героя 71
Обозначения каузированного передвижения лирического героя 77
Выводы по первой главе 79
ГЛАВА 2. ЯЗЫКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИЛЫ И СЛАБОСТИ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В СОЦИАЛЬНОМ МИРЕ 81
1. Прямые показатели статуса лирического героя 82
Автохарактеристики лирического героя 83
Прямые показатели подчиненности, относящиеся к лирическому герою 92
Прямые показатели превосходства, относящиеся к лирическому герою 101
2. Обозначения высоких и низких реалий в зоне лирического героя 105
Обозначения высоких реалий в зоне лирического героя 106
Обозначения низких реалий в зоне лирического героя 118
3. Показатели крупномасштабности лирического героя 125
4. Стилистически окрашенная лексика в зоне лирического героя 130
Высокая лексика в зоне лирического героя 132
Сниженная лексика в зоне лирического героя 135
5. Показатели статуса лирического мы 137
Выводы по второй главе 155
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 156
БИБЛИОГРАФИЯ 160
ПРИЛОЖЕНИЯ 177
Приложение 1. Тексты стихотворений О. Э. Мандельштама... 177
Тексты стихотворений, в которых представлена автокоммуникация 177
- Обозначения физической и психической силы и слабости лирического героя
- Обозначения движения и неподвижности лирического героя
- Автохарактеристики лирического героя
Введение к работе
Объектом данного исследования является образ лирического героя в поэзии Мандельштама.
Цель диссертации— рассмотреть языковые единицы, передающие силу и слабость мандельштамовского лирического героя. Этот герой сопоставляется с другими персонажами поэзии Мандельштама, а также с обычным человеком. Другие персонажи в этой работе рассматриваются именно как фон для лирического героя, показатели их силы и слабости специально не изучаются.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 1. Выявить и описать языковые показатели силы и слабости лирического героя в физическом мире. 2. Сопоставить силу и слабость лирического героя в физическом мире с аналогичными характеристиками других персонажей и обычного человека. 3. Выявить и описать языковые показатели силы и слабости лирического героя в социальном мире. 4. Сопоставить силу и слабость лирического героя в социальном мире с аналогичными характеристиками других персонажей и обычного человека.
Актуальность работы определяется прежде всего тем, что в ней рассматривается воплощенная в конкретном идиостиле языковая личность. Обращение к этой категории позволяет выявить важные свойства, характерные для поэтической системы Мандельштама в целом. Актуально для современной филологии также изучение языковых единиц, маркирующих ситуацию социального неравенства.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в конкретном идиостиле рассматриваются проявления активности лирического героя и его социальное положение в их единстве и взаимодействии. Структура работы определяется изложенными выше задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав основной части, заключения, библиографии и двух приложений. Во введении дается общая характеристика мі работы, описываются предпосылки исследования, раскрывается значение основных терминов, используемых в диссертации. В первой главе анализируются показатели силы и слабости лирического героя в физическом мире. В ней рассматриваются обозначения физической и психической силы и слабости лирического героя, обозначения его интенсивных физических действий и интенсивного воздействия на него, а также языковые средства, характеризующие его передвижение. Во второй главе рассматриваются показатели силы и слабости лирического героя в социальном мире. • Информацию о социальном статусе лирического героя передают его автохарактеристики, а также относящиеся к нему показатели подчиненности и превосходства. Кроме того, в этой главе анализируются обозначения высоких и низких реалий, входящих в зону лирического героя, и относящаяся к нему лексика высокого и низкого стиля. Своего рода дополнением к главе служит ее последний параграф, посвященный статусу лирического мы. В заключении подводятся итоги работы, формулируются основные выводы и намечаются перспективы дальнейших исследований. Библиография включает 167 позиций, не считая словарей и справочников. В приложениях приводятся некоторые стихотворения Мандельштама, фрагментарно цитируемые в работе, а также статистические таблицы. Материалом исследования служит вся поэзия Мандельштама, кроме переводов, детских и шуточных стихов. Не рассматриваются также два стихотворения 1906 г.: «Среди лесов унылых и заброшенных...» и «Тянется лесом дороженька пыльная...». Тексты произведений О. Э. Мандельштама цитируются по изданию: О. Мандельштам. Полное собрание стихотворений. Новая библиотека поэта. СПб., 1997. Это издание «отличается наиболее полным учетом автографов поэта и авторитетных копий» [Мандельштам 1997: 719]. Кроме того, «раздел "Другие редакции и варианты" дает наиболее полный, в сравнении с предшествующими изданиями, свод текстов» [там же]. Все варианты, приведенные «Полным собранием стихотворений», также учитываются в работе. В скобках после цитаты указывается номер страницы. Методы исследования. Поскольку работа ведется на материале лексики, основным методом является метод контекстного анализа лексической единицы, заключающийся в определении значения исследуемой лексической единицы в контексте. При этом используются данные толковых словарей. Основным лексикографическим источником для нас является «Толковый словарь русского языка» в 4 т. под ред. проф. Д. Н. Ушакова. Этот словарь ближе всего по времени к Мандельштаму, кроме того, в нем наиболее полно разработана стилистическая характеристика слова. Также используется «Словарь современного русского литературного языка» в 17 т., в котором описание слова дается в широкой исторической перспективе. В отдельных случаях привлекается «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля. Помимо этого используется «Новый объяснительный словарь синонимов русского языка», авторы которого уделяют большое внимание социальному компоненту в значении слова. Также привлекается «Толковый словарь русских глаголов» под редакцией Л. Г. Бабенко. В скобках после отсылки на словарь указываются том и столбец, том и страница или только страница. Однако очевидно, что поэтическому слову далеко не всегда можно приписать какое-либо из значений, выделяемых словарем. Поэтому для выявления интересующего нас элемента значения используется также метод эксперимента. Лексическая единица проверяется на сочетаемость с другими единицами, содержащими предполагаемый семантический компонент, а также с единицами, содержащими противоположный семантический компонент. Для сопоставления лирического героя с другими персонажами используется статистический метод. Однако количественные данные могут иметь лишь вспомогательное значение, поскольку число переходных случаев очень велико.
Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что в ней проводится исследование позиции лирического героя в физическом и V социальном мире и показывается значимость языковых единиц для выражения этой позиции. Полученные в ней результаты могут быть использованы при характеристике лирического героя других поэтов, при описании литературных направлений, а также при социолингвистическом изучении художественных произведений.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее результаты могут быть использованы при чтении курсов «поэтика и стилистика» и «практическая стилистика русского языка», при подготовке специальных курсов по языку русской поэзии.
Проблема субъекта в современной филологии
Проблема субъекта в современной филологической науке является одной из центральных. Эта проблема имеет несколько аспектов. Прежде всего субъект— это создатель текста (понимаемого в широком смысле этого слова), автор сообщения. Категория автора традиционно рассматривается в литературоведении. Однако еще в первой трети прошлого столетия сформировалась особая отрасль науки о языке — прагмалингвистика, изучающая язык в его отношении к пользователю (см., например, [Арутюнова, Падучева, 1985]). В нынешнее время языкознание переживает настоящий антропоцентрический бум. По замечанию Г. А. Золотовой, рассуждения об антропоцентризме в лингвистике стали чуть ли не общим местом в конце XX века [Золотова 2001: 108]. Как пишет Т. А. Трипольская, «в последнее время ... в центре внимания лингвистов оказывается говорящий субъект, его отношение к действительности, к используемым языковым средствам, его речевые установки, языковая картина мира» [Трипольская 1992: 27].
В современной науке о языке актуально понятие языковой личности. По словам Ю. Н. Караулова, «...языковая личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств» [Караулов 1987:38]. Под термином «языковая личность» может пониматься индивидуальный носитель языка, языковой коллектив, автор текста и персонаж художественного произведения [Караулов 1995]. Важно, что персонаж может быть рассмотрен с тех же позиций, что и реальный носитель языка. 3. Я. Тураева пишет о том, что в современных исследованиях текста произошло «выдвижение на первый план изучения языковой личности как Ego, определяющего семантическое пространство языка, как медиума, для проникновения во внутренний мир персонажей художественных произведений» [Тураева 1994:105]. Безусловно, автор текста— это тоже языковая личность. Описание некоторых психологических особенностей языковой личности на материале писем М. И. Цветаевой проводится в работе [Ляпон 1995].
При изучении человека в языке неизбежно расширяется сам предмет лингвистики. Теснее всего лингвистика взаимодействует с психологией и социологией. Как указывает А. Н. Баранов, к числу основных понятий, получивших развитие в других областях знания и активно разрабатываемых в лингвистике, относится социальный статус человека [Баранов 1992: 47]. Социальный статус в широком смысле — это «отражение связей человека с другими людьми» [Карасик 1989: 3]. Эти связи так или иначе отражаются в любом типе сообщения. По словам К. А. Долинина, выступая как носители того или иного статуса и играя роль, мы говорим (пишем) приблизительно так, как от нас этого ждут [Долинин 1985:52]. Как утверждает Н. И. Формановская, «в речевом поведении человека происходит постоянная демонстрация присущих ему психических и социальных признаков и проигрывание переменных ситуативных ролей...» [Формановская 1998:94]. Социальный статус человека включает в себя субстанциональные характеристики (пол, возраст, национальность, образование, социальное происхождение) и реляционные характеристики — показатели социального и ситуативного неравенства [Баранов 1992:48]. Такие показатели все шире исследуются на уровне лексики [Крысин 1986; Карасик 1989; Апресян 1995 а].
Субъект в широком смысле этого слова становится главным героем также и грамматических исследований. В настоящее время бурно развивается коммуникативная грамматика— см., в частности, [Золотова и др. 1998]. Однако субъект рассматривается в грамматике еще и в другом аспекте— как исполнитель действия. Именно свойства деятеля исследуются, например, в падежной грамматике Ч. Филлмора [Филлмор 1981а, б]. Способности человека и других субъектов к действию рассматривают также У. Фоли и Р. Ван Валин, в трудах которых была описана объективно существующая в естественном языке иерархия активности [Foley, Van Valin 1977; Ван Валин, Фоли 1982]. Социальная иерархия и иерархия активности прямо связаны между собой — чем выше общественный статус человека, тем больше его способность к действию [Карасик 1989].
Таким образом, современная лингвистика активно изучает человека в языке, и прежде всего человека как создателя текста. При этом в арсенале лингвистики оказываются некоторые психологические и социологические понятия, в частности— понятие социального статуса. Это понятие используется и в настоящей работе.
Если весь язык как средство человеческого общения глубоко антропоцентричен, то тем более это можно сказать о языке литературных произведений. Художественный текст наиболее полно среди всех типов текста отражает свойства его создателя. Для стилистики художественной к, речи категория говорящего субъекта всегда была центральной. По словам В. В. Виноградова, «в образе автора, как в фокусе, сходятся все структурные качества словесно-художественного целого» [Виноградов 1971: 211]. Любой анализ литературного произведения в конечном счете направлен на выявление стоящего за ним образа автора, на раскрытие авторской позиции. Художественный текст антропоцентричен еще и потому, что «человек — магистральная и почти единственная тема литературы» [Долинин 1985: 79]. Несомненно, субъектная структура является важнейшим элементом любого
4} литературного произведения. Точка зрения как основной элемент композиции художественного текста рассматривается в книге Б.А.Успенского «Поэтика композиции» [Успенский 1995]. Разрабатываемые исследователем понятия о разных видах точки зрения, например фразеологической и пространственной, также используются в нашей работе.
Литературное произведение— это «своеобразная модель тех или ft ) иных социальных структур и происходящих в них процессов...» [Семенов 1988: 21]. Следовательно, не только реальные люди, но и герои книг могут быть охарактеризованы с точки зрения их статуса. Однако любой литературный мир воспринимается в сопоставлении с реальным. Еще Аристотель писал о том, что все подражающие представляют [в своих произведениях — А. Е.] либо людей, лучших, чем мы, либо таких же, как мы, либо людей хуже нас [Аристотель 1983:647 и след.]. Аристотель характеризует людей по нравственным качествам, по степени добродетельности. Несколько иначе подходит к понятию среднего человека Н. Фрай, предложивший классификацию литературных героев по их способности к действию [Frye 1971:33]. Для нас сейчас существенна именно значимость категории «обычный человек» при анализе художественного текста. Иными словами, статус всякого литературного V, героя, в том числе и авторского двойника, определяется не только его отношением к другим действующим лицам, но и его соотношением с обычным человеком. Из трех родов литературы с категорией автора теснее всего связана лирика. Именно при анализе лирических произведений острее всего проявляется необходимость отграничить образ автора от автора как биографической личности. О таком отграничении говорил еще Н. Г. Чернышевский, который, анализируя стихотворения графини ! Ростопчиной, употребил словосочетание лирическое «я» [Чернышевский 1947: 465]. В дальнейшем для обозначения авторского образа в лирике был введен термин лирический герой. Этим термином Ю. Н. Тынянов в статье, посвященной памяти Блока, обозначил человеческое лицо, которое скрывается за всей блоковской поэзией. [Тынянов 1993 а]. Проблему личности, объединяющей все произведения лирического поэта, рассматривал также Андрей Белый. По его мнению, «каждый лирик имеет за К всеми лирическими отрывками свою ненаписанную лирическую поэму» [Белый 1994:481]. Именно Андрей Белый впервые употребил словосочетание лирический субъект [Белый 1994: 483], обозначив им героя стихотворного цикла. Критик считал, что «каждое произведение имеет свое "зерно", не прорастаемое (sic! — А. Е.) сразу в душу читателя», но почувствовать это «зерно» можно только ощутив общее целое, которое можно назвать индивидуальным стилем поэта. А это общее целое выкристаллизовывается только на основании восприятия цикла стихов одного и того же автора [там же].
В дальнейшем в литературоведении утвердились два понимания термина лирический герой — узкое и широкое. Согласно узкому пониманию, заложенному в статье Ю. Н. Тынянова о Блоке, лирический герой — это своего рода двойник автора, обладающий определенными биографическими чертами. Лирический герой в узком смысле есть не у каждого поэта. Как пишет Л. Я. Гинзбург, в лирическом стихотворении всегда присутствует авторское сознание, но говорить о лирическом герое имеет смысл лишь тогда, когда образ автора обладает личностными свойствами. Наиболее наглядно лирический герой проявляется в литературной мистификации [Гинзбург 1997]. Так понимаемый лирический герой присутствует не в отдельном стихотворении, а в цикле стихов или во всем творчестве поэта в целом. Лирический герой в узком смысле — это целиком завоевание поэзии рубежа XIX и XX веков. Двойник, который берет на себя «груз» лирического содержания поэтического творчества, появляется у поэта начиная примерно с Тютчева [Долгополов 1974: 121]. Такого двойника в поэзии Мандельштама, конечно, нет. Об этом еще в апреле 1926 г. писал В. Гофман: «У Мандельштама нет сюжетного скрепа в виде лирического героя. Это безгеройная лирика» [Гофман 1991: 177].
;. Наряду с узким пониманием термина существует и широкое.
Лирический герой в широком смысле— это образ автора в лирике, см. [Максимов Д. Е. 1954; Роднянская 1967; Тимофеев 1963]. Личность автора как текстовая категория присутствует в любом стихотворении любого поэта. И эта личность вовсе не обязательно должна иметь свою биографию или обладать явно выраженными чертами внешнего облика. Более того, например Т. И. Сильман, которая в своей книге «Заметки о лирике» использует обсуждаемый термин именно в широком смысле, считает, что
герой лирического стихотворения— это голый человек на голой земле, инкогнито, освобожденное от бытового контекста [Сильман 1977: 37-41].
Проблеме изучения лирики как системы субъектно-объектных отношений посвящены многие работы Б. О. Кормана. В трудах этого ученого различные проявления образа автора классифицируются по степени эксплицированности в тексте. Исследователь много говорил о рассмотрении стихотворений того или иного автора в целом, о необходимости изучать эмоциональный тон лирики и пространственную позицию говорящего и персонажей [Корман 1967; 1971; 1974]. Кроме того, Б. О. Корман занимался разработкой терминологии, относящейся к композиции лирических стихотворений [Корман 1981].
Опыт описания коммуникативной системы стихотворений Пушкина представлен в работе [Сысоев 2001]. Лирика как коммуникативная система описывается также в статье [Левин 1998 а]. В книге С. Н. Бройтмана прослеживается смена субъектных форм в русской лирике от фольклора до начала XX в. [Бройтман 1997]. Текст как элемент коммуникации, как составная часть более широкой ситуации общения рассматривается в работах [Долинин 1985, 1989; Красных 1998]. В нашей работе этот уровень коммуникации не затрагивается, отсылок ко внетекстовому субъекту и адресату речи, к обстановке общения здесь практически нет.
Образ автора не может анализироваться вне взаимодействия с образами персонажей. Как пишет Л. Г. Бабенко, автор и персонаж — это «основополагающие категории художественного текста, которые всегда занимают центральное положение в художественном произведении вследствие его абсолютной антропоцентричности» [Бабенко и др. 2000: 166]. По М. М. Бахтину, именно образ героя является организующим центром произведения. Ведь все моменты художественного целого, «и выраженные прямо и не выраженные, становятся ценностями и упорядочиваются лишь в соотнесении с одним из героев или вообще с человеком как судьба его» [Бахтин 1994:75]. По словам Н. В. Драгомирецкой, проблема автора и героя «волнует все современное литературоведение, исследуется на материале всех литератур мира и до сих пор остается остро дискуссионной» [Драгомирецкая 1991: 8].
Однако «образ автора и образы персонажей— фигуры не равновеликие в художественном произведении. Автор связан крепкими узами с изображенным миром действительности, в том числе и с миром героев» [Бабенко и др. 2000: 166]. С одной стороны, автор может быть действующим лицом произведения, с другой стороны, он является авторитетным руководителем героев. Взаимодействие образов автора-творца и автора-персонажа произведения в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» рассмотрено в работе [Семенко 1957]. М. М. Бахтин признавал за автором только роль руководителя, отвергая возможность восприятия автора как героя [Бахтин 1977]. В то же время никакую из этих двух ипостасей авторского образа нельзя игнорировать, поскольку именно в совокупности они дают цельное представление о личности, воплощенной в художественной системе писателя. О двух ипостасях я в лирическом тексте — эксплицитном Я и невыраженном и видящем его, но невидимом, явно не выраженном, но обязательно предполагаемом Сверх-Я— пишет Й. Ужаревич [Uzarevic 1991]. Исследователь считает, что «лирическое Я [т. е. явно выраженное в тексте — А. Е.] не столько субъект, сколько объект или предмет лирической речи» [Uzarevic 1991: 130]. Именно поэтому, как представляется, явное я поэтического текста можно рассматривать в одном ряду с персонажами.
Итак, образ автора— это центральная фигура в художественном произведении. Конечно, образ автора в тексте связан и с биографическим автором. «...Многофункциональное личное местоимение "я" дает возможность автору поэтического произведения создать достаточно полный и достоверный портрет лирического героя, в котором в той или иной мере отражается личность самого автора .. . . Поэт в течение всей своей жизни создает неповторимый поэтический автопортрет, который раскрывается перед читателем в единстве своих черт только при знании им всего творчества автора и его жизни в целом» [Зеленина, Милютина 2002: 48]. Более того, С. Т. Золян считает, что «для каждого лирического текста задано отношение между "я" текста и "я" (образа) биографического автора» [Золян 1991:220]. По мнению исследователя, в лирике дистанция между этими двумя я минимальна [там же]. Но на каком-то этапе исследования рассмотрение образа лирического героя без обращения к биографии автора не только возможно, но и необходимо.
Лирический герой рассматривается в работе на фоне других действующих лиц. Как уже было сказано, необходимость сопоставить разных персонажей обусловила применение статистического метода. Количественные показатели давно и широко используются в исследованиях художественной литературы [Белый 1983; Караулов 1987; Левин 1969, 1972; Семенов 1983]. Как показал в недавнем исследовании М. Л. Гаспаров, измерению поддаются даже тропы в художественном тексте [Гаспаров М Л. 2000]. Однако в целом количественные данные при анализе художественного текста не могут быть самоцелью. Нельзя не согласиться с Е. Г. Эткиндом, писавшим, что «подсчеты, осуществленные без намерения и концепции, лежащей далеко за пределами арифметики, скорее всего выпадут в осадок, в котором годами копится множество нерастворимых сведений» [Эткинд 1998:8]. Повторим, что из-за размытости границ между субъектными зонами, а также из-за большого количества переходных случаев все подсчеты, приводимые в нашей работе, приблизительны и условны. Поскольку в зонах разных персонажей показатели силы и слабости представлены неравномерно, в качестве фона для лирического героя привлекаются разные субъекты (см. приложение 2).
При анализе поэтического языка Мандельштама необходимо учитывать многозначность и многоплановость стихов этого поэта. По замечанию И. Гурвича, многие из мандельштамовских «темных мест» вообще не могут и не должны быть прояснены. «...Стремление любой ценой превратить непонятное в понятное неизбежно приводит к искажению и домысливанию авторского текста» [Гурвич 2001:34]. Одним из принимаемых в работе исходных положений является следующее: «художественный текст принципиально открыт для множества интерпретаций» [Перцов 2000: 55].
Основные тенденции в мандельштамоведении
О. Э. Мандельштам — один из самых исследованных авторов в русской литературе. Его произведения изучаются с 1913 г. (с момента выхода первого издания сборника «Камень») и до наших дней. Творчество Мандельштама анализировалось в разных аспектах. Во многих работах жизнь поэта и его стихи рассматриваются в неразрывном единстве. Такой подход представлен, например, в трудах К. Брауна, Н. А. Струве и С. С. Аверинцева В книге К. Брауна биографии поэта уделяется преимущественное внимание. Разборы стихов Мандельштама предваряются подробным очерком его жизни и творчества [Brown 1973]. В монографии Н. А. Струве эволюция творчества Мандельштама рассматривается на фоне его жизненного пути. [Струве 1988]. С. С. Аверинцев описывает принцип стремления к противоположности и избегания тавтологий, проявившийся и в жизни, и в поэзии Мандельштама [Аверинцев 1990 б]. Соотношение поэта, текста и истории в творчестве Мандельштама рассматриваются в 17 книге Д. М. Сегала «Осип Мандельштам. История и поэтика» [Сегал 1998]. Безусловно, интерес исследователей к судьбе поэта оправдан. Д. Брукхарт говорит о специфической, прямо-таки мифопоэтической смежности, соприкосновенности жизни, личности этого поэта и его литературного творчества [Брукхарт 1996: 428]. В то же время параллели между жизнью и творчеством Мандельштама далеко не всегда возможны, хотя бы потому, что свидетельства современников об этом человеке крайне разноречивы. Критику подхода «от биографии к тексту» в применении к Мандельштаму см. в книге [Гурвич 1994:8]. Трудно не согласиться со словами С. В. Сысоева: «"Я", доступное литературоведению, — это "я" текста, а не "я" пишущего» [Сысоев 2001: 14].
Нам кажется справедливым такое утверждение: «полнота творчества заключена не в фигуре "биографического автора", а в том авторе, который предстает как личность литературная» [Рымарь, Скобелев 1994:45]. В нашей работе ведется имманентный анализ лирики Мандельштама. Настоящая работа не опирается на биографию поэта. В диссертации нет также отсылок к социально-политической ситуации того времени. Как отмечает Д. М. Сегал, в поэзии акмеистов «стихотворный текст превращается в некое не только автономное, но и полное, саморазвивающееся и самодовлеющее целое, в идеале эквивалентное поэтической личности» [Сегал 1996: 190].
Традиционной для мандельштамоведения является проблема интертекста. Изучение подтекстов в творчестве Мандельштама было начато К. Ф. Тарановским, считавшим, что «исследование всех манделыитамовских литературных и культурных источников становится очень важной предпосылкой для более глубокого понимания и более полной
1 Все выделения в цитатах из научных работ, встретившиеся в диссертации, принадлежат цитируемым авторам. Подчеркивания в цитатах из словарей и курсив в стихотворных текстах везде наши.
18 оценки его поэзии» [Тарановский 2000: 16]. Это направление мандельштамоведения развивалось бурно и плодотворно. По словам Л. Г. Пановой, «о Мандельштаме, поэте-филологе, бытует мнение, что вся его поэзия может рассматриваться как одна сплошная цитата» [Панова 1998: 332]. Настоящей энциклопедией цитат у Мандельштама стала книга О. Ронена «An Approach to Mandelstam» [Ronen 1983]. Из современных отечественных авторов изучением подтекстов и аллюзий у Мандельштама занимается, в частности, Г. А. Левинтон [Левинтон 1977]. Конечно, литературные реминисценции — это важная часть семантики стихотворения [Иванова 1977:7]. Однако, как отмечает Л. Г. Панова, увлечение интертекстуальным анализом привело к тому, что «из сферы внимания манделынтамоведов выпал большой тематический пласт того, что определенно не является "заемным" у Мандельштама» [Панова 2003: 18].
Тем важнее выявить особенности мандельштамовского поэтического мира, найти в художественной системе поэта то, что не заимствовано у других авторов. Описание пространства и времени в поэтическом мире Мандельштама проводится в работах [Панова 1998, 2003].
Произведения Мандельштама часто изучаются в сопоставлении с произведениями других авторов. М. Ю. Лотман в книге «Мандельштам и Пастернак» сопоставляя идиостили двух поэтов, в частности, рассматривает функции имени и глагола в двух художественных мирах. Исследователь приходит к выводу о том, что в поэтической системе Пастернака главенствует глагол, тогда как поэтическая система Мандельштама— это царство имени [М. Лотман 1996]. Отношение Мандельштама и Пастернака к языку рассматривается в статье [Лазебник 1995]. Сопоставление идиостилей Мандельштама и Ахматовой в разных аспектах проводится в работах [Кристаль 2003], [Ахапкина 2003]. Влияние Хлебникова на Мандельштама прослеживается в монографии В. П. Григорьева [Григорьев 2000]. Системы
19 собственных имен лиц в стихах тех же поэтов сопоставляются в работе [Мартыненко 2002].
В нашей работе исследуется только идиостиль Мандельштама, тексты других авторов не привлекаются к анализу. Интертексты у Мандельштама специально не анализируются, однако несколько раз упоминаются работе, так как обращение к ним помогает прояснить социальный статус лирического героя.
Во многих исследованиях, посвященных Мандельштаму, языковедческие и литературоведческие аспекты связаны нераздельно. По словам А. Ю. Кузнецова, поэзия Мандельштама «стала своеобразным полигоном для демонстрации современных методов анализа лирики» [Кузнецов 1997: 10]. Некоторые особенности языка поэта были исследованы уже его современниками. Так, Б. Я. Бухштаб, говоря о риторичности как важнейшем свойстве мандельштамовской поэзии, заметил, что стихи Мандельштама построены как отвлеченная синтаксическая схема, которая заполняется словами [Бухштаб 1989]. Н. Я. Берковский исследовал перифразу, говоря о приеме переименования в прозе Мандельштама [Берковский 1991]. И. Бушман в книге «Поэтическое искусство Мандельштама» рассмотрела функции разных частей речи в его стихах [Бушман 1964].
Но в основном язык Мандельштама изучается на лексическом уровне. Многие авторы говорили о семантических преобразованиях слова в мандельштамовской поэтике. Начало этому положил Ю. Н. Тынянов, писавший, что «смысловой строй у Мандельштама таков, что решающую роль приобретает для целого стихотворения один образ, один словарный ряд и незаметно окрашивает все другие, — это ключ для всей иерархии образов» [Тынянов 1993 в: 284]. Л.Я.Гинзбург говорит о мандельштамовской поэтике сцеплений. По ее мнению, важнее всего для поэта изменения
20 значений, вызванные пребыванием слов в контексте произведения, где они взаимодействуют на расстоянии, синтаксически даже не соприкасаясь [Гинзбург 1972:317]. Лингвистическая проблематика затрагивается в статье Д. М. Сегала «О некоторых аспектах смысловой структуры "Грифельной оды" О. Э. Мандельштама». Исследователь выявляет в поэтике Мандельштама принцип соположения слов по второстепенным признакам. По мнению Д. М. Сегала, Мандельштам видел манифестацию специфически поэтической структуры в сопряжении по периферийным признакам смыслов разного уровня [Сегал 1972: 53,55].
Нередко преобразования слова в мандельштамовских текстах ставятся в зависимость от мировоззрения поэта. Это сделано, например, в диссертации М. И. Яшуничкиной «Экспрессивно-деятельностная функция слова в поэтике О. Мандельштама», Повторы в поэтическом языке Мандельштама анализируются в связи с концепцией слова как самостоятельно действующей силы [Яшуничкина 1999].
Традиционной для мандельштамоведения является проблема «Мандельштам и акмеизм»— [Левин и др. 1974; Кихней 1997]. Исследователи выделяют несколько устойчивых акмеистических черт мандельштамовской поэтики. Во-первых, это творческая ориентация на предшествующую литературную традицию— с этим во многом связана мандельштамовская цитатность. Во-вторых, это понимание слова как элемента, несущего культурную память. В-третьих, это стремление к равновесию между физическим и духовным [Кихней 1997]. Безусловно, исследования этой проблемы многое могут дать для характеристики образа автора в поэзии Мандельштама, позволяют лучше понять мировоззрение поэта. Однако акмеистический период — лишь один из этапов в творчестве Мандельштама. Подробнее о разграничении доакмеистического, акмеистического и постакмеистического периодов см. в: [Панова 2003: 39 и
21 след.]. Кроме того, в науке нет единого мнения ни о том, кто именно из поэтов входил в круг акмеистов, ни о временных рамках этого течения [Кихней 1997; Лекманов 2000 а]. Наша работа, как уже было сказано, предполагает изучение идиостиля Мандельштама в целом, без учета эволюции. Поэтому проблема «Мандельштам и акмеизм» в этой диссертации не затрагивается.
С психологических и социологических позиций подходит к творчеству Мандельштама, в частности, Г. Фрейдин. В его книге «A Coat of Many Colors» Мандельштам рассматривается как создатель «мифа», или, точнее, «мифов» о поэте. В этом исследовании, как указывает сам автор, излагается комплексный взгляд на творчество Мандельштама, на социальный и культурный аспект его деятельности и на восприятие Мандельштама последующими поколениями читателей [Freidin 1987: xi].
Позиция лирического героя также не раз рассматривались исследователями. Так, Л. Я. Гинзбург в статье «Поэтика Осипа Мандельштама» говорит о том, что личность поэта не была средоточием поэтического мира Мандельштама [Гинзбург 1972:309]. Ей вторит И. М. Семенко, которая пишет: «Поэт со специфической, очень индивидуальной манерой, Мандельштам не принадлежит к поэтам, отображающим "личность", ее психологию, рефлексию, душевную раздвоенность. Вообще его интересует "мир", а не л» [Семенко 1997: 127]. Противоположной точки зрения придерживается М. М. Дунаев, который считает, что «поэт помещает себя в центр своего бытия. Только себя самого» [Дунаев 2000:115]. Образ лирического субъекта в поэзии Мандельштама серьезно изучался в трудах Д. И. Черашней [Черашняя 1990, 1991, 1992; 1998]. И все же цельный образ личности, стоящей за всей поэзией Мандельштама, изучен еще недостаточно.
22 Мандельштам— поэт резко эволюционирующий, что неоднократно отмечалось исследователями. Так, например, Ю. И. Левин составил частотные словари существительных и прилагательных в идиостиле поэта, описал эволюцию предметного мира Мандельштама, выделил наиболее важные темы для разных периодов творчества поэта [Левин 1969, 1972]. Классической работой в мандельштамоведении стала его статья «Заметки о поэзии Мандельштама тридцатых годов», переизданная позднее под названием «Тридцатые годы» [Левин 1998: в]. В ней языковые особенности поздней поэзии Мандельштама рассматриваются на фоне всего творчества поэта. Анализ ведется на разных уровнях языка. В результате выявляются такие черты поэтики Мандельштама тридцатых годов, как установка на непосредственный контакт с собеседником, большое количество стилистически сниженных элементов в лексике, нечетность строк в стихотворении. Все эти особенности Ю. И. Левин считает проявлением неконвенциональности поздней поэзии Мандельштама [Левин 1998: в].
Может показаться, что ранние и поздние стихи Мандельштама принадлежат разным авторам, настолько сильны различия между ними. Тем важнее найти те постоянные черты, которые свойственны поэзии Мандельштама. При всех изменениях творческой манеры система произведений любого писателя обладает внутренним единством. Как указывал еще В. Г. Белинский, «все произведения поэта, как бы они ни были разнообразны и по содержанию, и по форме, имеют общую всем им физиономию, запечатлены только им свойственною особенностью, ибо все они истекли из одной личности, из единого и нераздельного я» [Белинский 1955:307]. Также и В. В. Виноградов в книге «О художественной прозе» писал о том, что «все творения поэта— ... проявления одной поэтической личности, хотя бы эта личность и обнаруживала себя в разных, несогласных ликах художественной индивидуации» [Виноградов 1930:64-65].
23 Следовательно, в совокупности произведений любого поэта можно выявить постоянные черты. В нашей работе предпринимается попытка описать некоторые из неизменных черт мандельштамовского поэтического мира.
Лирика Мандельштама в ее единстве изучена значительно меньше, чем происходившие в ней изменения. Между тем, по мнению В. В. Мусатова, у этого поэта нет даже относительно изолированных текстов1, а связи каждого отдельного стихотворения с целым обширны и парадоксальны. Поэтому исследователь стихов Мандельштама всегда должен держать это целое в поле своего постоянного внимания [Мусатов 2000:8]. Сходную мысль высказывают также авторы статьи «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма»: «...у Мандельштама каждое стихотворение оказывается посредством смысловых оппозиций связанным с другими» [Левин и др. 1974:58]. На необходимость изучения поэзии Мандельштама как целого указывает также С. С. Неретина. Примечательно, что исследовательница отрицает применение эволюционного метода к творчеству Мандельштама [Неретина 1991]. «Как один текст, выражающий неповторимо своеобразную духовную личность» [Черашняя 1995:80] рассматривает стихотворения этого поэта Д. И. Черашняя в статье о субъектном строе лирики Мандельштама.
По словам Б. О. Кормана, «представление об образе автора в лирическом творчестве какого-либо поэта складывается из наблюдений над всеми его лирическими стихотворениями. Следовательно, изучение образа автора предполагает обращение ко всему лирическому творчеству поэта» [Корман 1967: 7].
Настоящая работа имеет целью описать некоторые из постоянных черт мандельштамовского лирического героя. Именно поэтому мы отвлекаемся от изменений характеристик лирического я во времени. Даты написания
Это утверждение представляется слишком категоричным, однако поэтическая система Мандельштама несомненно обладает единством.
24 стихотворений, как правило, приводятся в тексте диссертации для того, чтобы показать, что та или иная особенность свойственна и языку и раннего, и позднего Мандельштама. Полностью проигнорировать эволюцию рассматриваемого идиостиля, очевидно, не удастся. Но в любом случае изменения не будут находиться в центре нашего внимания.
Поскольку лирический герой — это человек, в работе он сравнивается прежде всего с лицами. Однако граница между лицами и нелицами в поэтическом мире Мандельштама достаточно условна. Вспомним хотя бы верность из стихотворения «О свободе небывалой...» или неправду из одноименного стихотворения. Одушевленные абстрактные сущности в нашей диссертации отнесены к лицам.
Итак, предпосылки нашего исследования— это, с одной стороны, интерес к человеку в языке, а с другой стороны — необходимость изучать творчество Мандельштама в целом.
Значения основных терминов, используемых в работе
Прежде чем перейти к основной части диссертационного сочинения, необходимо определить основные термины, используемые в нем.
Термином лирический герой здесь обозначен тот возникающий в стихотворении образ автора, с которым соотносится местоимение 1 л. ед. ч. или, в случае автокоммуникации, 2 л. ед. ч. С целью разграничить зону лирического я и зону персонажей в работе принимаются следующие допущения. К зоне я отнесены все местоименные и глагольные формы 1 л. ед. ч., кроме тех, что встретились в прямой речи персонажей и в сказовых стихах. Как представляется, сказ, т. е. установка на субъект речи, резко отличающийся от реального автора, используется в трех стихотворениях — «Я избежал суровой пени...», «Я выстроил себе благополучья дом...»,
«Веселая скороговорка...». Конечно, в произведениях Мандельштама лирический герой может приобретать некоторые черты различных мифологических и исторических персонажей— например, царевича Димитрия или троянского воина. Однако все эти субъекты явно не противопоставлены авторскому я и можно считать, что они формируют единый образ личности. В стихотворении «Довольно кукситься! Бумаги в -О стол засунем...» к лирическому герою относятся формы 1 л. мн. ч. К зоне лирического героя отнесены стихотворения «Автопортрет», «Развеселился наконец...», «Убиты медью вечерней...», хотя в них и нет форм 1 л. ед. ч. В эту зону включены также высказывания, которые могут относиться и к лирическому герою, и к обобщенному субъекту, например «Только детские книги читать...». Когда с образом автора соотносится форма 1 л. ед.ч., в качестве синонимов термина лирический герой употребляются термины лирическое я и я-субъект.
С образом автора может соотноситься местоимение 2 л. ед. ч. Автокоммуникацию, т. е. обращение автора к самому себе, можно видеть в следующих стихотворениях Мандельштама: «Есть целомудренные чары...» (3-я строфа), «В огромном омуте прозрачно и темно...» (3-я строфа), «Я вздрагиваю от холода...» (2-я строфа), «1 января 1924» (9-я строфа), «Не говори никому...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (2-я и 3-я ч строфы), «После полуночи сердце ворует...», «Не искушай чужих наречий, S но постарайся их забыть...», «Ну как метро?.. Молчи, в себе таи...», «Еще не умер ты. Еще ты не один...» (1-я и 2-я строфы), «Еще далёко мне до патриарха...» (2-я строфа). Возможно, к лирическому герою относятся формы 2 л. ед. ч. в стихотворении «Не у меня, не у тебя, у них...» и в 9-й строфе стихотворения «Квартира тиха, как бумага...» (см. приложение 1). Вероятно, автокоммуникация представлена и в строке А тебе не хватит места в одном из вариантов стихотворения «Как растет хлебов опара...». Кроме того, к лирическому герою трижды обращаются на «ты» персонажи — олицетворенная верность в стихотворении «О свободе небывалой...» и Ламарк в одноименном стихотворении, а также мастер пушечного цеха из стихотворения 1937 г.
Лирический адресат— это любой собеседник лирического героя. Этот собеседник не обязательно должен быть соотнесен с местоимением ты. Например, упоминавшаяся уже олицетворенная верность в разговоре с лирическим героем произносит л, а о музе зодчего, с которой герой беседует в стихотворении «Адмиралтейство», говорится в третьем лице. В нашей работе речь идет только об эксплицитном внутритекстовом адресате, адресат посвящения здесь не рассматривается.
Будем считать, что в зону того или иного персонажа входит он сам со своими действиями, мыслями, чувствами и желаниями, а также всё его окружение — люди, животные, предметы и т. п. Очевидно, что зоны разных персонажей пересекаются между собой.
Сила в нашей работе понимается прежде всего как способность воздействовать на окружающий мир в физическом или социальном плане. Косвенным показателем силы персонажа в физическом мире можно считать способность к целенаправленному перемещению.
Слабость понимается как неспособность физического или социального воздействия на окружающий мир, а также как подверженность воздействию. Статичность персонажа можно признать косвенным показателем его слабости в физическом плане.
Языковым показателем силы или слабости персонажа можно считать любую языковую единицу, характеризующую этот персонаж в указанном отношении. Такие показатели представлены единицами разных уровней, но основным объектом нашего внимания будет лексика.
Термином социальный статус «обозначается соотносительная (по оси "выше— ниже") позиция человека в социальной системе...» [Крысин
2003:21]. Очевидно, что по своему положению лирический герой может быть равным другим персонажам, превосходящим их и зависимым от них.
Согласно определению М. М. Бахтина, хронотоп — это «существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе» [Бахтин 1975: 234].
Средний человек— это человек, такой же, как мы, человек, обладающий теми же способностями, что и мы. Интуитивное представление о среднем человеке имеет каждый, но строгое определение этого термина едва ли возможно. Ограничимся указанием на то, что прилагательное «средний» здесь относится к способности воздействия на мир, как в классификации Н. Фрая, а не к степени добродетели, как в классификации Аристотеля.
Крупномасштабностью персонажа можно назвать его соотнесенность с вселенной, вечностью, со всем человечеством, а также со значительными природными и социальными объектами.
Мифологический персонаж— это герой мифа (например, Зевс или Персефона). К мифологическим персонажам примыкают и олицетворенные \ абстрактные сущности (например, неправда). Полумифологический персонаж— человек, наделенный сверхъестественными способностями, например герой оды «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...».
Термин реалия понимается в работе предельно широко— он может обозначать не только неодушевленный предмет, но и понятие, и действие, и даже лицо. Высоким признается все значимое, все то, что предполагает уважительное отношение к себе. В эту категорию условно включены и лица с высоким социальным статусом. Низким будем считать все то, что вызывает пренебрежение. Подробнее о разграничении высоких и низких реалий см. в преамбуле ко второму параграфу второй главы.
Выявление высокой и низкой лексики проводилось с опорой на словарные пометы и на исследования по языку поэзии.
Обозначения физической и психической силы и слабости лирического героя
В поэтическом мире Мандельштама силой, как правило, обладают субъекты, превосходящие обычного человека. В восьми случаях сила приписывается людям искусства. Художник в широком смысле этого слова изображается сильным и в ранней, и в поздней поэзии Мандельштама. Так, например, художник милый, герой стихотворения 1909 г., выводит свой рисунок
В сознании минутной силы, В забвении печальной смерти. (91) В пальцах артистки, героини стихотворения 1937 г. Сила лежит фортепьянная, Сила приказа желанная Биться за дело нетленное... (363) У Чарли Чаплина
Две гляделки, полные чернил И прекрасных удивленных сил. (305) Сила и мощь в поэзии Мандельштама могут приписываться и непосредственно произведению искусства. Так, на картине Рафаэля
На скале черствее хлеба — молодых тростинки рощ, И плывет углами неба восхитительная мощь. (305) Также силой у Мандельштама наделен и полумифологический персонаж — герой оды «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...»:
Он свесился с трибуны, как с горы, — В бугры голов. Должник сильнее иска. Могучие глаза решительно добры, Густая бровь кому-то светит близко (359). Даже глаза этого персонажа оказались могучими.
Итак, обозначения физической силы в поэтическом языке Мандельштама относятся преимущественно к высоким субъектам — мифологическим персонажам, художникам, политическим деятелям.
Обозначениями психической силы можно считать некоторые имена чувств. Такие эмоции1, как гнев, негодование и ярость побуждают к сильному разрушительному воздействию на объект. В частности, при гневе человек агрессивен. «Чем сильнее гнев, тем более сильным и энергичным чувствует себя индивид, тем больше потребность в физическом действии» [Изард 1980:211]. В дефиницию, которую дает русскому слову гнев А. Вежбицкая, входит следующий компонент: я хочу нечто сделать с Y-M [Вежбицкая 1999:519]. Практически все упоминания об этих чувствах в поэзии Мандельштама связаны с субъектами, обладающими высоким статусом. Так, в обращении к Баху сказано:
И лютеранский проповедник На черной кафедре своей С твоими, гневный собеседник, Мешает звук своих речей! (110) В «Оде Бетховену» первое упоминание о негодовании относится к богу Дионису:
Обозначения движения и неподвижности лирического героя
Образы движения в поэзии Мандельштама уже не раз становились предметом исследования. В частности, они подробно рассматривались в трудах Л.Г.Пановой [Панова 1998; 1999; 2003] и С. Г. Шиндина [Шиндин 1991]. В этих работах был выявлен набор средств, служащих для обозначения движения в поэзии Мандельштама, а также раскрыта роль категории «движение» в творчестве поэта. Некоторые наблюдения над статикой и динамикой лирического героя были изложены в статье [Кобринский 1995], но специально эта тема еще не изучалась. Между тем, как было сказано ранее, движение можно считать одним из проявлений силы субъекта, а неподвижность — одним из проявлений его слабости. Косвенным свидетельством слабости можно считать неконтролируемое и каузированное перемещение, поскольку подлинная активность предполагает самостоятельность и осознанность действий субъекта. На то, что признаки динамичности и агентивности в русском языке нередко совпадают, хотя и не являются жестко связанными, указывает, в частности, Т. В. Булыгина [Булыгина 1997:97]. Задача этого параграфа— рассмотреть языковые единицы, которые передают движение и неподвижность лирического героя в V поэтическом языке Мандельштама. В первом пункте описываются обозначения движения и неподвижности, во втором— обозначения неконтролируемого перемещения, в третьем — обозначения каузированного перемещения.
К «динамическим» единицам отнесены не только глаголы движения {бежать, лететь), но и существительные, называющие процесс движения {разбег) или движущегося субъекта (путник, пешеход). В число » «статических» единиц условно включены, помимо обозначений t неподвижного состояния (лежать, стоять), упоминания о сне и смерти.
Именно перечисленные единицы учитываются при подсчетах (см. табл. 4 в приложении 2). Наряду с этим в параграфе высказываются некоторые замечания о движении в поэзии Мандельштама вообще (ср. анализ стихотворения «Автопотрет»). Как и во всей работе, лирический герой рассматривается на фоне других лиц и всего поэтического мира.
Автохарактеристики лирического героя
Любой персонаж литературного произведения обладает определенными социальными и психологическими характеристиками. По словам Л. Я. Гинзбург, не только людей, но и персонажей мы мгновенно относим к тому или иному психологическому, социальному и бытовому разряду [Гинзбург 1979: 15]. Без этого условия невозможно ни общение между людьми, ни восприятие художественной литературы.
Общественное положение персонажа интуитивно всегда ощущается читателем. Литературный герой воспринимается в сопоставлении не только с другими действующими лицами, но и с реальными людьми. Как уже было сказано, изображенный в произведении человек может быть таким же, как мы, лучше или хуже нас. См.: [Аристотель 1983:647], [Frye 1971]. Несомненно, лирическому герою того или иного поэта такие характеристики тоже присущи. Естественно, в лирической поэзии социальные характеристики персонажей далеко не так важны, как в прозе,— ведь лирическая ситуация отличается предельной обобщенностью. Однако -« местоимение в лирическом стихотворении обретает известную конкретность, «одевается» чертами биографии [Сильман 1970:91], поэтому такие характеристики тоже существенны. Задачи этой главы— рассмотреть языковые единицы, в которых содержится социальный компонент, и определить место лирического героя в социальной иерархии персонажей. Это позволит определить, силен или слаб лирический герой Мандельштама в социальном мире. Следует учесть, что ни Аристотель, ни Н. Фрай не приводят жесткого перечня лиц, превосходящих обычных людей, обычных и стоящих ниже обычных людей. Поэтому, как кажется, любой исследователь волен определять эти категории в соответствии со своими задачами. Будем считать, что к лицам, превосходящим обычного человека по способностям, относятся мифологические персонажи, олицетворенные абстрактные сущности, выдающиеся художники, политические и культурные деятели. К лицам, превосходящим среднего человека по положению, можно отнести тех, кто наделен властью — светской или духовной. «Высокими» предметами можно считать мифологические реалии, а также города, страны, значительные природные объекты. Ниже среднего человека по способностям дети и животные, по положению — представители социальных низов: слуги, рабы, нищие, воры и т. п. Помимо высоких лиц и предметов, существуют значимые действия и ситуации— например, молитва, исповедь, похороны или пир, торжество. Будем считать, что лица, находящиеся в подобной ситуации, также выше обычных людей. Кроме того, значительная общность людей — народ, а тем более все человечество— превосходит обычного человека. Конечно, выделенные здесь группы лиц и предметов неоднородны, но этого деления достаточно для решения задач, поставленных в работе.