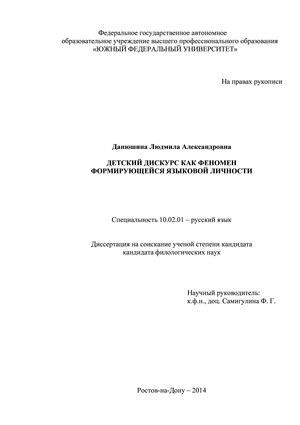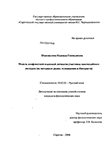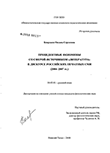Содержание к диссертации
Введение
I. Детский дискурс: репрезентация специфики речемыслительной деятельности ребенка
1.1. Лингвистические исследования дискурса: определение, сущностные характеристики
1.2. Детский дискурс в современной типологии дискурса 19
1.3. Проблема дефинирования термина детский дискурс 23
1.3.1. Детская речь в современных онтолингвистических исследованиях
1.3.2. Объем понятия детский дискурс 35
Глава II. Особенности развития когнитивного и речевого механизмов в детском возрасте: лингвопсихологический аспект
2.1. Язык и мышление: проблемы взаимодействия 42
2.2. Когнитивные стратегии обработки информации и их взаимо связь с речемыслительной деятельностью в онтогенезе
2.2.1. Параметры выделения когнитивных стилей 50
2.2.2. Этапы когнитивного развития и характер детской речемысли- тельной деятельности
2.3. Алогичность высказываний в детском дискурсе как репрезен-тация специфики детского мышления
2.4. Когнитивные особенности детских речевых инноваций 76
2.5. Взаимодействие вида стратегии интерпретации значения словс уровнем развития лингвокогнитивных механизмов в онтогенезе
2.5.1. Эффективность применения метода толкования слов в исследованиях онтогенеза речемыслительной деятельности
2.5.2. Экспериментальное исследование особенностей дефинирования детьми в возрасте от 4 до 8 лет
III. Особенности формирования языковой личности ребенка: лингвосоциологический аспект
3.1. Детская языковая личность как значимая категория онтолингвистических исследований
3.1.1. Основные подходы к изучению языковой личности 127
3.1.2. Языковая картина мира как базовый компонент формирую щейся языковой личности
3.2. Влияние социокультурного фона на развитие детской языковой личности
3.2.1. Социокультурный статус семьи как значимая детерминанта развития языковой личности ребенка
3.2.2. Влияние гендерной специфики коммуникации на формирующуюся языковую личность ребенка
3.2.3. Источники прецедентных феноменов, определяющие специфику современного детского дискурса
1. Детское чтение как важный фактор становления детской языковой личности
2. Современная медиасреда и особенности ее воздействия на формирование языковой личности ребенка
Заключение 174
Библиография 176
Список использованных источников
- Детский дискурс в современной типологии дискурса
- Когнитивные стратегии обработки информации и их взаимо связь с речемыслительной деятельностью в онтогенезе
- Взаимодействие вида стратегии интерпретации значения словс уровнем развития лингвокогнитивных механизмов в онтогенезе
- Социокультурный статус семьи как значимая детерминанта развития языковой личности ребенка
Детский дискурс в современной типологии дискурса
Антропоцентрический поворот в гуманитарных науках обусловил широкое распространение работ по изучению дискурса в отечественном языкознании. В результате чего понятие дискурс (основополагающее для современной когнитивно-дискурсивной парадигмы) стало объектом научной рефлексии многих ученых. Повышенный интерес языковедов к изучению данного феномена способствовал возникновению большого количества обзорных трудов, сформировавших впоследствии теоретическую базу для дальнейших дискурсивных исследований [Карасик 2003; Макаров 2003; Милевская 2003; Прохоров 2004; Демьянков 2007; Григорьева 2007; Самигулина 2008 (б); Бор-ботько 2011 и др.]. Подобное пристальное внимание лингвистов к дискурсу, с одной стороны, актуализировало ряд важных для языкознания проблем и вывело лингвистические исследования на новый уровень антропоцентрически ориентированного комплексного анализа языковых явлений, с другой стороны, обусловило деструктивную популярность и многозначность термина дискурс, нивелируя тем самым сущностный терминологический признак – моносемичность, т.е. его четкую определяемость. В результате среди ученых до настоящего времени нет единого мнения по поводу объема понятия дискурс и общих подходов к его изучению, не выработана методология анализа включенного в него речевого материала. Соответственно в рамках дискурса рассматриваются разнородные явления: от предложения до рече-мыслительных процессов. Возможно, полисемичность термина обусловлена как гетерогенностью феномена дискурса, так и многоаспектностью работ, выполняемых в русле когнитивно-дискурсивной парадигмы. Подобное разнообразие определений данного языкового явления обусловило отсутствие единой трактовки термина детский дискурс. Таким образом, проблема дефи-нирования является одной из самых дискуссионных в рамках дискурсивных исследований.
Полагаем, что одним из ключевых моментов данной научной дискуссии является установление корреляции между понятиями текст и дискурс. Многие авторы интерпретируют термин дискурс, отталкиваясь от категории текста. В ранних работах наблюдается формальный подход к анализу этого феномена [Николаева 1978]. Так, Т. М. Николаева, обобщая дефиниции, существующие в зарубежной лингвистике в конце 70-х годов, отметила, что под дискурсом понимали «почти омонимичные понятия», характерные для лингвистики текста [там же]. Соответственно в качестве дискурса воспринимались: – связный текст [Беллерт 1978; Барт 1978; Тодоров 1978]; – устно-разговорная форма текста; – диалог; – группа высказываний, связанных между собой по смыслу; – речевое произведение как данность – письменная или устная [Гау-зенблаз 1978; Палек 1978]. Представленные дефиниции позволили Т. М. Николаевой квалифицировать дискурс как «многозначный термин лингвистики текста» [Николаева 1978, с. 467].
В современной отечественной лингвистике ученые, интерпретируя термин дискурс, также опираются на категорию текста. Большинство исследователей рассматривают текст и дискурс в качестве понятий, вступающих в родовидовые отношения, квалифицируя дискурс как процесс речевой деятельности, а текст как ее результат [Формановская 2002; Кубрякова 2005; Макаров 2003; Кибрик 2003; Чернявская 2009; Борботько 2011 и др.]. Хотя существует и другая точка зрения, согласно которой текст и дискурс трактуются как категории, имеющие равнозначный статус и не находящиеся в родовидовых отношениях. Подобного мнения придерживается Ю. Е. Прохоров [Прохоров 2004]. Он отмечает, что «дискурс не является промежуточным явлением между речью, общением и языковым поведением или промежуточ-12 ным звеном между системой и текстом, он не есть текст в совокупности с экстралингвистическими параметрами, равно как и текст не является дискурсом за минусом этих параметров» [Прохоров 2004, с. 31-32].
На наш взгляд, в рамках дискурсивных исследований целесообразнее оперировать понятием высказывание, а не текст. В связи с этим М. Л. Макаров отмечает, что категории предложение и текст следует отнести к уровню языка, а высказывание и дискурс – к уровню языкового общения [Макаров 2003]. В основе текста лежит набор языковых единиц (предложений), а в основе дискурса – набор высказываний. При таком подходе текст квалифицируется как некая модель, а дискурс – как отражение живого общения. Полагаем, что подобное разграничение акцентирует внимание на коммуникативной составляющей дискурса, подчеркивает его нестатичный характер и тем самым способствует более глубокому анализу именно данного феномена. Эта точка зрения представлена во многих современных нейро- и психолингвистических, а также лингвистических исследованиях, где высказывание квалифицируется как коммуникативная единица речи, а текст – как единица языка [Леонтьев 1969; Падучева 1985; Лурия 1998; Макаров 2003; Абе-лева 2004]. Например, Д. Шиффрин трактует дискурс как «высказывания» [Цит. по Макаров 2003, с. 86]. Комментируя данную дефиницию, М. Л. Макаров поясняет, что в рамках дискурса рассматривается не просто набор «изолированных единиц языковой структуры “больше предложения”, а совокупность функционально организованных, контекстуализованных единиц употребления языка» [Макаров 2003, с. 86]. При этом текст может стать одной из форм существования дискурса, но он будет рассматриваться в сочетании с ситуацией («текст + ситуация») [там же].
Так как в качестве рабочего мы выбираем термин высказывание, следует дать ему определение. Заметим, что среди ученых нет единства при определении понятия высказывание. Мы будет опираться на дефиницию И. Ю. Абелевой, трактующей высказывание как «одноразово переданное говорящим сообщение, принимаемое и оцениваемое слушающим» [Абелева, 2004, с. 107]. Подчеркнем, что высказывание может иметь любую форму выражения: от предложения до кивка головы, то есть оно содержит и вербальные, и невербальные компоненты. В связи с этим И. Ю. Абелева указывает, что высказывание всегда больше, чем просто лингвистическая составляющая. Оно имеет статус поступка, который адресант сообщения совершает по отношению к реципиенту [Абелева 2004]. Иначе говоря, высказывание представляется более широким понятием, чем текст. При этом высказывание может не соответствовать ключевым текстовым категориям когезии (связности) и когерентности (цельности) [Филиппов 2003; Мурзин 1994; Николаева 1978; Гальперин 2006 и др.]. Полагаем, что подобный подход предоставляет больше возможностей для анализа разных типов дискурсов, в частности детского дискурса, в рамки которого может входить речевой материал, не соответствующий указанным текстообразующим критериям.
Когнитивные стратегии обработки информации и их взаимо связь с речемыслительной деятельностью в онтогенезе
Одними из первых свидетельств функциональной неравнозначности полушарий стали открытия зон мозга, обеспечивающих продуцирование и понимание речи. Так, в 1866 г. французский врач П. Брока обнаружил связь моторной афазии (нарушение процесса произношения речи) с повреждением задних отделов лобной доли левого полушария. А в 1874 г. немецкий невропатолог Карл Вернике выявил нарушение понимания речи при поражении задней височной доли левого полушария [Спрингер, Дейч 1983; Реброва, Чернышева 2004; Леутин, Николаева 2005]. На базе данных открытий английским неврологом Дж. Джексоном была сформулирована теория доминантности, согласно которой левому полушарию отводилась роль ведущего полушария в реализации сложных психических процессов, а правое квалифицировалось как субдоминантное. Однако эксперименты американского невропатолога Р. Сперри, проводимые с больными, перенесшими комиссуро-томию (расщепление мозга путем рассечения нервных волокон, соединяющих полушария) доказали, что «каждое полушарие обладает своей памятью, своим языком и стратегией переработки информации» [Реброва, Чернышева 2004, с. 8]. На основе полученных результатов исследований возникла концепция функциональной межполушарной асимметрии.
Под межполушарной асимметрией понимают «временное доминирование активности структур одного полушария», которое возникает при решении задач разного рода [Леутин, Николаева 2005, с. 13]. Возникновение меж-полушарной асимметрии связывают с процессами адаптации человека к условиям окружающей среды и уровнем развития организма [Реброва, Чернышева 2004; Леутин, Николаева 2005; Самигулина 2007]. Функциональная специализация полушарий выражается в том, что каждая гемисфера обрабатывает информацию определенного типа и определенным способом. Причем асимметрия проявляется как на морфологическом, биохимическом, так и на психофизиологическом уровнях [Леутин, Николаева 2005, с. 13]. Внутри пси хофизиологической асимметрии выделяют моторную, сенсорную, энергетическую, когнитивную и эмоционально-мотивационную [там же]. Нам для анализа онтогенеза речемыслительной деятельности наиболее интересно обращение к исследованиям когнитивной асимметрии, которые устанавливают характер познавательной стратегии правого и левого полушарий.
Как показывает анализ научной литературы, при изучении функциональной межполушарной асимметрии отмечается три основных параметра, на базе которых различаются когнитивные стили гемисфер [Реброва, Чернышева 2004; Леутин, Николаева 2005; Самигулина 2007; Ротенберг 2009 и др.]. В связи с этим выделяют лево- и правополушарное мышление.
А). Так, одним из общепризнанных и известных параметров, на основе которого дифференцируются полушария, считается тип обрабатываемой информации и выполняемой функции. В соответствии с данной точкой зрения левое полушарие оперирует «вербальным материалом», знаками (языковыми, математическими и др.), поэтому оно получило название словесно-логического (или логико-знакового) [Ротенберг 2009]. Функции правой стороны мозга связывают с восприятием и обработкой «невербального материала» (образов реальных предметов, музыки, интонации), ориентацией в пространстве и обеспечением некоторых эмоциональных состояний (непроизвольных), в связи с чем правополушарное мышление квалифицируют как конкретное, наглядно-образное, эмоциональное, задающее пространственную систему координат. Помимо этого, отмечается, что правая гемисфера работает с новой, непрогнозируемой информацией [Леутин, Николева 2005; Ротен-берг 2009]. Однако при подобной дифференциации функциональных особенностей полушарий выявляется ряд противоречий. Например, выяснилось, что при восприятии технического текста активнее левое полушарие, а при чтении художественного текста – правое. Кроме того, несмотря на неспособность правой гемисферы к продуцированию речи, у взрослых людей со здоровым левым полушарием она также принимает участие в организации речевой деятельности, о чем подробнее мы скажем дальше. Б). В связи с этим в качестве второго значимого параметра рассматривают стратегию обработки поступающей информации, то есть принцип ее организации, осуществляемой каждой гемисферой. Учеными было установлено, что, вне зависимости от материала (вербального или невербального), полушария обрабатывают его по-разному. Так, для левой гемисферы характерен последовательный анализ явлений. Она воспринимает информацию дискретно, сукцессивно. В свою очередь, правое полушарие обрабатывает сигналы целостно и симультанно, одновременно схватывая их элементы как единое целое, до последовательного их анализа [Ротенберг 2009]. При этом левое полушарие интегрирует явления и предметы по смыслу, а правое – по внешнему сходству и форме [Спрингер, Дейч 1983]. Соответственно левопо-лушарное мышление считается аналитическим, дискретным, а правое – холистическим, синтетическим.
В). И, наконец, наиболее важным параметром является «способ организации контекстуальных связей между знаками – словами или образами» [Ротенберг, Бондаренко 1989, с. 163]. Данный критерий был предложен психофизиологом В. Ротенбергом в рамках концепции, которая бы позволила разрешить отмеченные выше противоречия и интегрировать два других параметра. Ученый подчеркивает, что окружающая действительность представляет собой сложную систему, элементы которой вступают в разнообразные связи друг с другом. Соответственно в зависимости от контекстов, в которые помещаются предметы или явления, при их восприятии могут проявляться разные смыслы. Иллюстрируя данный тезис, В. Ротенберг рассматривает в качестве примера яблоко, которое вызывает разнообразные ассоциативные связи исходя из того контекста, в котором оно воспринимается. Так, яблоко может приобретать разные смыслы, если оно находится на блюде, «аппетитное и привлекательное, как на холстах Сезанна»; или это яблоко из истории об Адаме и Еве; яблоко, с падением которого на голову Ньютона, связывают открытие закона всемирного тяготения и др. [Ротенберг 2009]. Как видим, один и тот же предмет может транслировать разные смыслы в за-53
Взаимодействие вида стратегии интерпретации значения словс уровнем развития лингвокогнитивных механизмов в онтогенезе
Как видим, значение рассматриваемых слов в детском языковом сознании связывается с конкретной ситуацией (а в последнем случае гендерно и культурно обусловленной), поскольку ребенок еще не способен вычленить обозначаемый предмет из ситуации, в которую он погружен. Согласимся с учеными [Кубрякова 1989; Шахнарович 1991; Юрьева 2006], что в данных детских интерпретациях отражается «образ определенной деятельностной ситуации» [Юрьева 2006, с. 244]. Природа этого феномена определяется тем, что познание мира осуществляется ребенком в процессе его действий с предметами в разных ситуациях, с которыми в дальнейшем соотносятся значения лексем, обозначающих данные предметы [Кубрякова 1989; Шахнаро-вич 1991; Юрьева 2006].
Заметим, что в ответах 7- и 8-летних детей данная стратегия несколько видоизменяется. Рассмотрим в качестве примера следующие дефиниции 8-летних информантов: кипяток – «это, например, горячий чайник, если возьмешь руками, можно обожечься. Ну, это объяснить не знаю как» (Д., 8 л. 1 мес.); шалун – «это дети бывают меленькие шалуны. Они, когда им мама говорит: «Не трогай вазу, – они обязательно полезут и разобьют ее» (Д., 8 л. 3 мес.); подарок – «это когда, например, на новый год подарили подарок, и у тебя, там, что-нибудь попалось» (Д., 8 л. 3 мес.); «ну, подарок, может быть под елкой, там, что-нибудь лежит» (Д., 8 л. 4
В перечисленных ответах обращают на себя внимание такие языковые маркеры, как например, ну, это объяснить не знаю как, бывает. Полагаем, что здесь мы наблюдаем процесс языковой рефлексии, в ходе которой проявляется более осознанный подход к толкованию слов. Респондентами предпринимаются попытки посредством приведения конкретных примеров объяснить значение лексемы, однако для более ясного выражения мысли (объективации концептуального содержания семантики слова) им не хватает языковой компетенции из-за дефицита вербальных средств. Кроме того, употребление неопределенных местоимений что-нибудь, какой-нибудь свидетельствует о более высоком уровне развития способности детей школьного возраста к абстрагированию от конкретной ситуации. На наш взгляд, это связано с целенаправленным формированием левополушарного логико-знакового мышления в ходе школьного обучения.
Наглядно-действенный характер познавательной деятельности детей дошкольного возраста детерминировал появление в ходе эксперимента большой группы детских высказываний, в которых значение лексемы определялось посредством изображения действия с предметом или указания на действие предмета. Например, хохотун – «это хохотать надо» (М., 4 г.), «хохотать» (М., 4 г. 6 мес.), «это когда смеешься» (Д., 4 г.), «это хохотать» (Д., 4 г. 6 мес.); кофейник – «это значит, заваривать чай» (Д., 4 г. 6 мес.); учитель – «уроки делать» (М., 4 мес.); 103 подарок – «это такой раскрывать, смотреть и раскрывать» (М., 4 г.); едок – «кушаешь» (М., 4 г. 6 мес.), «есть надо» (М., 4 г.).
Тесно связаны с данной группой ответов определения семантики слова посредством обозначения функции предмета, которая нередко была представлена указанием на действие предмета или с предметом. Например, каток – «это асфальт равнить» (М., 4 г. 6 мес.); нагреватель – «это воду нагревает, там» (М., 4 г); кофейник – «из которого чай пьют» (М., 5 л. 4 мес.); холодильник – «это чтобы хранить продукты», «это чтобы туда класть овощи» (Д., 4 г. 6 мес.), «это чтобы хранить покупки» (Д., 3 г. 6 мес.), «туда ложат еду» (М., 5 л. 6 мес.), «в нем вещи все… туда еду ло-жат» (М., 5 л. 1 мес.), «там овощи хранят для зимы, подготавливаются» (М., 5 л. 5 мес.), «там хранятся, чтобы не пропадало» (М., 5 л.), «это где хранятся продукты» (Д., 5 л. 4 мес.), «это где замораживают всякие продукты» (Д., 8 л. 1 мес.), «это как бы он холодный, где хранятся продукты, чтобы они как бы не пропадали» (Д., 8 л. 2 мес.), «туда, там, ложат пищу, чтобы она свежая была» (М., 8 л. 2 мес.); свинарник – «для свиней» (М., 8 л. 2 мес.).
Как видим, ответы 4- и 5-летних качественно отличаются от дефиниций, предложенных 8-летними детьми. На наш взгляд, 4-летние, обозначая функцию референта, указывает на характеристики, которых недостаточно для дифференциации разных предметов, имеющих аналогичные параметры. Данную особенность ответов дошкольников наиболее ярко демонстрирует интерпретация лексемы холодильник. Так, например, из определения «это чтобы хранить продукты», «это чтобы туда класть овощи» (Д., 4 г. 6 мес.), «это чтобы хранить покупки» (Д., 3 г. 6 мес.) не очевидно, что интерпретируется значение слова холодильник, поскольку хранить продукты можно и в шкафу, и в подвале, и на складе. В то время как в дефинициях 8-летних информантов отмечаются значимые для определения семантики слова свойства предмета: «где замораживают всякие продукты», «чтобы они как бы не пропадали», «ложат пищу, чтобы она свежая была». Соответственно более точно указывается функция предмета – сохранение продуктов посредством их замораживания. Подобное умение обозначить существенные дифференцирующие признаки референта характеризует и ответы взрослых:
Социокультурный статус семьи как значимая детерминанта развития языковой личности ребенка
Как видим, при определении лексем ребенок активно использовал в своей речи звукоизобразительные слова и невербальные компоненты (жесты), что связано с доминированием в этом возрасте правополушарного способа обработки информации, обеспечивающего работу наглядно-действенного и наглядно-образного мышления [Симерницкая 1978; Седов 2008]. Так ребенок помогает себе выразить мысль, создавая с помощью жестикуляции и звукоизобразительных слов образы сложных явлений, тем самым облегчая их понимание и описание.
Следует заметить, что не меньшую роль в формировании анализируемого детского дискурса сыграла мать, проводившая с ребенком много времени за чтением, рисованием, обучением счету, письму и др. Соответственно в его лексическом запасе периодически появлялись слова и сочетания типа: система, провоцировать, критиковать, замять разговор и др. При этом некоторые лексические единицы подвергались субъективной интерпретации, в результате чего на первом этапе осмысления слова появлялись следующие предложения: Я провоцирую шуруп… (то есть вкручивает его); Я критикую этот кран… (закручивает посильнее); Это у меня краневая система (указывая на несколько соединенных кранов). Как видим, только в последнем примере ребенок демонстрирует понимание слова система в значении совокупность элементов, связанных друг с другом .
Однако, как мы уже отмечали ранее, помимо социального окружения, особенности детского дискурса определяются и спецификой развивающегося детского мышления, в основе своей наглядного, образного, конкретного [Аверин 1998; Каменская, Мельникова 2008; Самигулина 2013 (б)]. В связи с этим интересен процесс осмысления данным ребенком некоторых терминов. Например, термин «двухэлектродный полупроводниковый диод» трактуется как прибор, имеющий один провод из подразумеваемых двух: «У него, зна-139 чит, нет одного провода…». В подобной интерпретации находит отражение конкретность правополушарного мышления ребенка.
Итак, специфика языковой картины мира ребенка, его словарного запаса во многом определяется социокультурными особенностями его семьи. При этом наибольшее влияние на становление детской языковой личности оказывает профессиональная принадлежность взрослых, окружающих ребенка, уровень их речевого развития, круг увлечений, виды занятий с ребенком и др. Таким образом ребенок осваивает знания и представления социумного уровня, состав которых определяется прежде всего социокультурными характеристиками его семьи. При этом механизм осмысления сложных для понимания ребенка явлений и интерпретации обозначающих их слов обусловлен особенностями детского мышления, по своей природе наглядного, конкретного.
Кроме того, на наш взгляд, примечательно, что наблюдаемый нами мальчик был сильно ориентирован на отца, поскольку идентифицировал себя с ним по полу. В связи с этим важно подчеркнуть, что именно в семье дети копируют гендерно маркированные правила и модели поведения, постепенно осваивая гендерные стереотипы, что, в свою очередь, определяет особенности формирования языковой личности ребенка. Рассмотрим подробнее специфику данного процесса.
Как известно, гендерными стереотипами называют сформированные в течение длительного времени модели поведения, представления о мире и круге интересов и занятий, закрепленные за полом и связанные с конкретными условиями жизни [Дударева 2002; Гусева 2010]. В период становления формирующейся языковой личности (в возрасте от 2-3 до 5-6 лет) дети проходят этап гендерной идентификации, активно осваивая подобные стереотипы. В результате гендерные стереотипы встраиваются в картину мира ребенка и эксплицируются в детском дискурсе [Самигулина 2013 (а)].
На основе анализа языкового материала с указанных ранее сайтов (http://det.org.ru; http://govoryat-deti.livejournal.com) нами отмечен ряд наиболее характерных женских и мужских черт, которые объективируются в детской речевой продукции. К примеру, типично женским качеством представляется внешняя привлекательность. Данная особенность проявляется в поведении девочек и отражается в их речевой практике. Так, вопросам, связанным с внешностью, в их разговорах отводится значительное место. Приведем один из характерных диалогов девочек, возраст которых около трех лет.
Вика: Так он под это платье не подходит! (на ней розовое платье с красной отделкой и красные бантики на голове). Илона: Белое ко всему подходит, ты что! Лена: Да нет, сюда правда красное лучше. Ты белый с голубым надень, классическое сочетание! (http://govoryat-deti.livejournal.com). В данном полилоге наблюдается особое внимание девочек не только в целом к внешности, но к и деталям, составляющим ее привлекательность.
Одним из следствий существования данного стереотипа является точка зрения, согласно которой развитие интеллекта для женщин представляется не обязательным компонентом их личности. Так, четырехлетняя девочка на замечание родственника о том, что в процессе их совместной игры «надо же думать головой», ответила: «А мне не надо головой думать, я же девочка!» (http://govoryat-deti.livejournal.com).