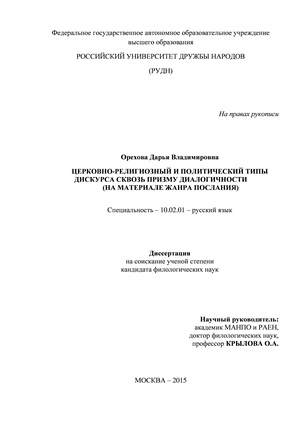Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Теоретические основы исследования. Дискурс и диалогичность как свойство дискурса 17
1.1 Дискурс как объект лингвистического анализа 17
1.1.1 Определение понятия дискурс 17
1.1.2 Дискурс и текст: соотношение понятий 24
1.1.3 Методологические основы анализа дискурса 26
1.1.4 Восприятие дискурса адресатом 35
1.1.5 Классификация типов дискурса 36
1.2 Диалогичность как основное свойство дискурса 40
1.2.1 Явление диалогичности в монологических по форме текстах 40
1.2.2 Диалог, диалогизация, диалогизм, диалогичность 46
1.2.3 Понятие интертекстуальности и его соотношение с понятием диалогичности 48
1.2.4 Внутренняя диалогичность, внешняя диалогичность и интертекстуальность 53
1.2.5 Адресация как составляющая явления внутренняя диалогичность 57
ВЫВОДЫ 59
Глава II. Жанр послания в церковно-религиозном и политическом типах дискурса 62
2.1 Понятие жанра речи и параметры его описания 62
2.1.1 Из истории изучения речевых жанров 62
2.1.2 Речевой жанр: определение понятия 63
2.1.3 Параметры описания речевого жанра 68
2.2 Жанр послания в церковно-религиозном дискурсе 69
2.2.1 Общая характеристика церковно-религиозного дискурса 69
2.2.2 Жанр Рождественских и Пасхальных посланий Патриарха 76
2.2.2.1 Коммуникативная ситуация 77
2.2.2.2 Тема и содержание 84
2.2.2.3 Композиция 89
2.2.2.4 Типовая интенция 90
2.2.2.5 Коммуникативные стратегии и тактики 95
2.3 Жанр послания в политическом дискурсе 103
2.3.1 Общая характеристика политического дискурса 103
2.3.2 Жанр послания Президента РФ Федеральному Собранию 107
2.3.2.1 Коммуникативная ситуация 111
2.3.2.2 Тема и содержание 119
2.3.2.3 Композиция 129
2.3.2.4 Типовая интенция 131
2.3.2.5 Коммуникативные стратегии и тактики 133
ВЫВОДЫ 143
Глава III. Языковое воплощение диалогичности в церковно-религиозных и политических посланиях 147
3.1 Диалогичность с точки зрения способов и форм её выражения в различных типах дискурса 147
3.2 Средства выражения диалогичности в церковно-религиозных и политических посланиях 151
3.2.1 Обращения к адресату 151
3.2.2 Вопросительные конструкции 155
3.2.3 Перформативы 164
3.2.4 Конструкции с модальностью побуждения 167
3.2.5 Формы со значением совместности 171
3.2.6 Дискурсивные слова 175
3.2.7 Прецедентные феномены 181
3.3 Сопоставление характера диалогичности в церковно-религиозном и политическом типах дискурса 187
Выводы 192
Заключение 194
Список использованной литературы 198
Список источников языкового материала
- Методологические основы анализа дискурса
- Из истории изучения речевых жанров
- Общая характеристика политического дискурса
- Вопросительные конструкции
Методологические основы анализа дискурса
Основными методологическими установками исследования являются центральные в учении М. М. Бахтина идеи о диалогичности как основном свойстве сознания, мышления и речи, диалоге как взаимодействии смысловых позиций; концепция анализа дискурса, разработанная Т. А. Ван Дейком; анализ жанра послания по параметрам, предложенным Т. В. Шмелёвой с опорой на концепции М. М. Бахтина, А. Вежбицкой и уточнённым в диссертациях Со Ын Ён и Е. А. Никишиной.
В данном диссертационном исследовании мы исходим из того, что основным свойством текстов, относящихся к жанру послания и функционирующих в двух различных типах дискурса: церковно-религиозном и политическом, – является диалогичность, которая реализуется с помощью различных языковых средств и приёмов в зависимости от коммуникативных интенций и стратегий адресата [Борисова 1996, Верещагин, Костомаров 1999, Иссерс 1999, Савин 2009, Формановская 1998].
Диалог между правящей властью и народом в целом является признаком демократического политического режима, который начал устанавливаться в России с 90-х годов прошлого столетия. Данный экстралингвистический фактор накладывает отпечаток на речевую культуру российского общества и все институциональные типы дискурса, в первую очередь – на политический и церковно-религиозный типы дискурса. Политика и религия являются неотъемлемой частью современной медиакартины мира, которая формируется посредством языка в сознании массового адресата в результате реализации различных коммуникативных стратегий и с помощью определённых речевых тактик и коммуникативных ходов.
В соответствии с данными положениями в нашей работе выдвигается следующая научная гипотеза. Диалогичность как дискурсивная категория является основным механизмом воздействия и влияния в церковно-религиозном и политическом типах дискурса, позволяющая при помощи определённой системы языковых средств создавать и моделировать картину мира в сознании массового адресата в зависимости от авторских интенций. В связи с этим целью данного исследования становится сопоставление двух типов дискурса путём определения качества и степени диалогичности и выявления языковых средств и приёмов её реализации на материале жанра послания. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд частных задач:
Научная новизна предпринятого исследования состоит в сопоставлении церковно-религиозного и политического типов дискурса в том ракурсе, в котором проводится это сопоставление, а именно: в аспекте диалогичности; в уточнении определения понятия диалогичность и анализе средств её выражения в двух выбранных типах дискурса. Впервые в сопоставительном аспекте рассматриваются коммуникативно стилистические и дискурсивные особенности жанра церковно-религиозного и политического послания, выявляются сходство и различие интенций коммуникантов и вскрывается природа диалогичности текстов посланий в двух типах дискурса. В работе по-новому дифференцируются понятия внутренней и внешней диалогичности, а также выявляется роль средств выражения диалогичности в механизмах формирования картины мира у массового адресата в церковно-религиозном и политическом типах дискурса.
Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в изучение речевой коммуникации, в частности тем, что сопоставительный анализ двух типов дискурса в их жанровом воплощении сквозь призму диалогичности позволяет рассмотреть текст в новом ракурсе, выявить ранее не изученные стороны коммуникации в условиях влияния на речь новых дискурсивных факторов. Благодаря этому формируется более объёмное видение текста, к его анализу привлекаются современные методологические подходы, углубляющие знания о коммуникативной природе текста и особенностях его жанрового воплощения. В результате предлагается модель описания двух типов дискурса в аспекте диалогичности. Анализ функционирования текста осуществляется в единстве лингвистических и экстралингвистических факторов, что позволяет учитывать данные таких наук и направлений, как социолингвистика, прагматика, интент-анализ, психолингвистика.
Практическая ценность результатов исследования состоит в возможности их использования в курсе лекций по стилистике, прагматике, социо- и психолингвистике, политологии, а также при создании практических пособий для подготовки специалистов филологического профиля (филологов, лингвистов, журналистов, специалистов по связям с общественностью) и при обучении русскому языку как иностранному. Практическое владение средствами диалогичности способствует адекватному созданию и восприятию текста и эффективности коммуникации, а значит, является неотъемлемой частью дискурсивной компетенции языковой личности. На защиту выносятся следующие положения:
1. Диалогичность «пронизывает» всю структуру дискурса: от композиционно-содержательной составляющей до особой системы языковых средств. Явление диалогичности имеет два модуса, которые могут быть представлены как внутренняя и внешняя диалогичность.
2. Внутренняя диалогичность в работе понимается как явление, характеризующее коммуникативно-прагматичную природу текста и проявляющееся на семантическом, лексическом и грамматическом уровне с помощью определённой системы языковых средств как 1. адресация и 2. соотношение двух или более смысловых позиций: учёт позиции адресата, возможных оппонентов или второго «Я». Внешняя диалогичность рассматривается в работе как явление семиотическое, межтекстовое, касающееся «переклички» текстов друг с другом. При такой трактовке наше понятие «внешняя диалогичность» и понятие «интертекстуальность» совпадают.
Из истории изучения речевых жанров
Восприятие (и его результат – понимание) является сложным психологическим процессом. Этот процесс не сводится к поэтапной дешифровке смысла в обратном порядке по модели, описанной выше (от формы к мотиву). «Понимание – это сложный мыслительный процесс, проходящий ряд этапов, в результате чего происходит активное преобразование словесной формы текста, представляющее собой многократное перекодирование. Областью кодовых переходов является внутренняя речь, где совершается переход от внешних кодов языка к внутреннему коду интеллекта, на основе которого формируется содержание текста как результат понимания» [Новиков 1983: 46].
Исходя из установки на понимание, адресат декодирует языковую форму и производит соотнесение этой формы с реальностью. Ключевую роль здесь играет знание коммуникативной ситуации, в которой реализуется дискурс и адекватная референция высказываний. Н.И. Жинкин справедливо отмечал, что «понимать надо не речь, а действительность» [Жинкин 1998: 149]. Таким образом, успешность коммуникации зависит от языковой компетенции участников общения и не в меньшей мере от социального опыта, кругозора, знания коммуникативной ситуации [Жинкин 1964, 1982, 1998, Лурия 1979, Новиков 1983, Горелов, Седов 2001, Седов 2004 и др.].
Интересно заметить, что два аспекта дискурса – его создание и понимание – тесно взаимосвязаны и хорошо известны всем участникам общения. Так, адресант создаёт речевое произведение с учётом возможных реакций адресата при восприятии дискурса, в то время как адресат в процессе декодирования дискурса и его понимания вычисляет мотивы и интенции адресанта, при этом «…успех взаимодействия на основе общения в значительной мере обусловливается тем, сколь адекватны друг другу структуры действий порождения и интерпретации текстов, поскольку, воспринимая текст, интерпретирующее его сознание всякий раз осуществляет встречное порождение текста» [Дридзе 1980: 32]. Именно так рождается диалогичность как установка адресанта при создании текста и установка адресата на интерпретацию текста.
Адекватность анализа дискурса может быть достигнута только в том случае, если речевые произведения будут анализироваться как результат мыслительной (когнитивной) и социально-политической деятельности автора, а также как результат интерпретации данных текстов адресатом, производимой на основе имеющихся у адресата фоновых знаний и определённой картины мира.
Прежде чем обратиться к анализу двух типов дискурса: церковно-религиозного и политического, – приведём классификацию типов дискурса и обозначим характеристику выбранного объекта нашего исследования.
В современной лингвистике выделяется большое количество типов дискурса, приводятся различные классификации, базирующиеся на различных принципах8. Внешним условием для классификации могут служить следующие факторы: сфера общественной деятельности (бытовой дискурс, политический дискурс, церковно-религиозный дискурс9), характер 8 Это связано с диссипативным (рассыпчатым, открытым) характером дискурса. Из-за отсутствия единого основания не существует единой классификации типов дискурса, она потенциально бесконечна (в отличие от классификации функциональных стилей, которые выделяются на основании сферы общественной деятельности, в которой они употребляются) [Орлова 2014: 165]. 9 Вопрос о выборе термина «церковно-религиозный дискурс» рассматривается в Главе II, п.2.2.1 адресата (личностно-ориентированный и статусно-ориентированный дискурс), способ общения (письменный/устный дискурс)10, форма общения (монологический/диалогический дискурс), период общения (советский дискурс, дискурс 90-х), тема общения (футбольный дискурс), ситуация общения (экзаменационный дискурс) и др. В связи с тем, что факторы, которые оказывают влияние на процесс речевой коммуникации, разнообразны, на данный момент не сформировано единой, замкнутой типологии дискурса, а количество типов дискурса стремится к бесконечности [Воронцова 2014, Золян 2009, Чернявская 2011].
В нашем исследовании мы будем опираться на классификацию, предложенную Волгоградской школой социолингвистики во главе с В. И. Карасиком [см. Карасик 1998, 2000, 2004 и др.] в рамках социопрагматического подхода к изучению дискурса. В её основу был положен принцип ориентации на адресата (неформального и формального, обусловленного социальными правилами), в связи с чем было выделено два основных типа дискурса: личностно-ориентированный и статусно-ориентированный дискурс [Карасик 2004: 232].
Личностно-ориентированный дискурс представлен двумя типами: бытовой, или обиходный, и бытийный дискурс. Бытовой дискурс реализуется в бытовой (обиходной) сфере и характеризуется сокращённым кодом, который в сжатом виде передаёт информацию, и эмоциональной оценкой происходящего автором. Бытийный дискурс – сфера художественного и философского постижения мира, где создаются и передаются сложные смыслы бытия [там же: 232]. Статусно-ориентированный дискурс – это институциональное общение (речевое взаимодействие), где участниками выступают представители социальных групп, которые реализуют статусно-ролевые возможности и потребности бытия [там же]. 10 В последнее время на этом основании выделяется ещё одна форма: устно-письменная форма речи, которая возникает в сфере Интернет-общения [Трофимова 2009]. Таким образом, с позиции участников общения, личностно ориентированный дискурс характеризуется раскрытием внутреннего мира адресанта и стремлением к его пониманию адресатом, в то время как статусно-ориентированный дискурс характеризуется реализацией социальных ролей участников общения.
Языковая компетенция носителей языка определяется возможностью переключаться с бытового на институциональные типы дискурса. О трудностях, связанных с этим переходом, говорил Б. Бернстайн [1979], разграничивая сокращённый и расширенный коды общения (restricted and elaborated codes). В бытовом дискурсе участники общения знакомы друг с другом и обладают определёнными общими фоновыми знаниями, поэтому общение происходит с помощью сокращенного кода, который строго зависит от контекста. В статусно-ориентированном типе дискурса общение ведётся между мало знакомыми (или незнакомыми) друг другу людьми, поэтому стоит острая необходимость во введении фоновой информации для собеседника, что осуществляется посредством расширенного кода, который в меньшей степени зависит от контекста [Bernstein 1979: 164-167].
Общая характеристика политического дискурса
Охарактеризуем участников коммуникации политического послания: Адресант (x) – президент РФ, Адресат (у1) – члены Федерального Собрания РФ, Адресат (у2) – все граждане РФ. Общение между адресантом (x) и адресатом можно охарактеризовать как устное, монологическое по форме (но с элементами диалогического общения), непосредственное (с адресатом (у1)) и опосредованное (с адресатом (у2)) , стереотипное (но не лишённое творческой составляющей), имеющее официальный характер, институциональное с информативной доминантой сообщения. Политические послания обусловлены социально-политическим контекстом: в первую очередь, установкой на становление и поддержание демократического режима в стране. Демократия подразумевает наличие «прозрачности» действий власти, наличие отчётов перед народом и готовность к диалогу с обществом. Послание президента Федеральному Собранию, являясь главным отчётным и программным документом российской власти, информирует граждан страны о внутренней и внешней политике государства и формирует определённую оценку и понимание этой ситуации (таким образом, осуществляет информационно-воздействующую функцию).
Послание ежегодно оглашается Президентом Российской РФ на совместном заседании палат Федерального Собрания РФ в Мраморном (до 2007 г.) и в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца (с 2008 г.). Адресант политического послания является носителем определённого статуса (президент страны), «что предопределяет соблюдение определённых статусно-ролевых и ситуационно-коммуникативных норм» [Чудинов 2012: 54].
Общий портрет адресанта: человек мужского пола, занимающий должность главы государства, имеющего высокий авторитет среди коллег и граждан страны, личность, наделённая властью по статусу [ср. параметры с: Шейгал 2000: 93].
В зависимости от коммуникативной цели адресант выступает в различных ролях. Предоставляя отчёт Федеральному Собранию о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики, он выступает с позиции президента – лица, облечённого высшей властью (примеры 1,2,3). Когда адресант знакомит граждан с политической ситуацией, формируя у них определённую политическую картину мира и оказывая эмоциональное воздействие, он выступает с позиции президента и одновременно гражданина своей страны (4,5). Работая над созданием положительного образа правителя, президент выступает с позиции строгого надзирателя по отношению к правительству и в то же время – защитника интересов граждан своей страны (6,7). Проиллюстрируем сказанное выше фрагментами из посланий разных лет:
Это – укрепление позиций России в мире, а главное, повторю, – значимый рост благосостояния граждан» [ПП – 2004].
При реализации позиции президента (лица, наделённого высшей властью) адресант политических посланий чаще всего использует формы первого лица. Эту особенность мы отмечали также при характеристике адресанта церковно-религиозных посланий, выступающего с позиций Главы Церкви. В этом аспекте адресант церковно-религиозного и политического посланий максимально близки: они выступают с позиции лица, наделённого высшей властью (каждый в своей сфере общественной деятельности).
«Наша стратегическая цель - сделать Россию процветающей страной, в которой живут свободные люди, гордые своей древней историей и смело смотрящие в будущее… страной с эффективной экономикой, сочетающей национальные особенности и мировые достижения. Эта цель близка и понятна всем россиянам ... Достичь ее мы сможем, если сплотимся вокруг общей практической задачи - укрепления Российского государства» [ПЕ – 1994];
«Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей. Вместо сумбурных действий, продиктованных ностальгией и предрассудками, будем проводить умную внешнюю и внутреннюю политику, подчинённую сугубо прагматичным целям» [ПМ – 2009].
В приведённых фрагментах (4, 5) адресант выступает с позиции гражданина своей страны, заботящегося о благе всех граждан. Формы «мы-инклюзивного» и формы совместного действия30 (которые объединяем термином «формы со значением совместности») позволяют адресанту создать впечатление близости адресанта с адресатом. В первом фрагменте из послания Б. Н. Ельцина наблюдается апелляция к основным ценностям,
Формы совместного действия – это формы множественного числа, которые несут в себе значение побуждения не к одному, а к нескольким адресатам и к самому адресанту [Русская грамматика 1980, т. I: 622]. которые понятны всем слоям населения: все хотят жить в процветающей стране, иметь свободу выбора и права. В 1994 году, когда в стране только устанавливался демократический режим, такие «ободряющие» призывы к объединению были необходимым компонентом речей президента: необходимо было убедить население в том, что в скором времени на смену политической нестабильности придёт стабильность и процветание. (6) «Глобальные для России последствия, вызванные кризисом, не позволяют Президенту остаться в стороне от этой темы… Сама форма принятых в августе решений далека от совершенства и достойна серьезной критики… Мы упустили шанс достойного выхода из сложившейся ситуации, сорвали договоренности с МВФ, продемонстрировали инвесторам и всему миру, что даже в экстремальной ситуации не готовы идти на согласие и делить ответственность. Мы привыкли к тому, что власть несет ответственность за действия, но забыли, что еще большую ответственность она несет за бездействие. И именно в этом бездействии была совместная вина всех ветвей власти – и Президента, и Правительства, и Государственной Думы» [ПЕ – 1999]; (7) «…Всем очевидны и главные проблемы, ничего нового здесь тоже не скажу, – это низкая эффективность государственной власти и коррупция. Без качественного современного госуправления, без высокой персональной ответственности тех, кто этим занимается, мы не решим задач, стоящих перед обществом и страной» [ПП – 2012].
Вопросительные конструкции
В посланиях Федеральному собранию президент выражает свою оценку той информации, которую он представляет в виде доклада о текущей ситуации в стране, комментирует то, о чём говорил ранее, даёт оценку своим словам и действиям, он «…размышляет над выбором тех или иных средств выражения своих мыслей, т.е. строит текст с учётом реакций, ожиданий читателя [адресата]» [Харламова 2000: 34]. В данном случае речь идёт об одной из разновидностей дискурсивных слов – рефлексивах. Рефлексивы – дискурсивные средства, которые осуществляют оценку автором своей речи, показывает раздумье над выбором определённых средств для выражения мысли [Кормилицына 2014: 22]: одним словом, иными словами, другими словами, иначе говоря, короче говоря, мягко выражаясь, если можно так сказать, так называемый, точнее и др.:
«Творческая активность людей должна направляться не на так называемую "оптимизацию" налоговых схем, а на развитие собственного дела на базе использования тех норм, которые мы с вами им предлагаем» [ПП – 2002]; «…Производственные комплексы по добыче нефти и газа, обеспечивающие львиную долю бюджетных поступлений, ядерное оружие, гарантирующее нашу безопасность… – всё это создано большей частью ещё советскими специалистами, иными словами, это создано не нами» [ПМ – 2009].
Первые тексты посланий президента Федеральному Собранию (1994-1998) составлялись преимущественно как письменные, поэтому в них содержится мало средств выражения диалогичности [ср. «вспомогательные коммуникативные единицы»: Викторова 2008: 24], которые облегчают восприятие большого объёма информации. Начиная с 1999 года, тексты посланий президента Федеральному Собранию содержат большее количество средств выражения диалогичности, что позволяет продуктивнее воспринимать информацию на слух. Употребление дискурсивных слов не свойственно церковно-религиозным посланиям, так как церковно-религиозный дискурс избегает выражения субъективно-модальных значений в силу того, что адресант (у1) выступает от имени РПЦ, а та, в свою очередь, от лица Бога. Кроме того, церковно-религиозные послания имеют письменную форму, небольшой объём и подчёркнуто книжную стилистическую окраску.
Дискурсивные слова с различными значениями обеспечивают связность текста и отражают процесс взаимодействия между коммуникантами [Уздинская 2012: 41; Баранов и др. 1993: 7]. Употребление дискурсивных слов в политическом дискурсе речи свидетельствует об определённом уровне дискурсивной компетенции адресанта. «Дискурсивная компетентность – это непрерывная забота об адресате, использование любых средств, чтобы помочь адресату понять передаваемую информацию при помощи не только обозначающих её слов и эффективно выстроенного порядка её передачи, но и системы так называемых дискурсивных слов, помогающих адресату всё это воспринять, а также понять отношение к ней адресанта (степень её достоверности и точности)» [Сиротинина 2011: 10]. Таким образом, дискурсивные слова как средство диалогичности выражают направленность на адресата, активизируют его мыслительный процесс, стремясь вовлечь его в совместное размышление, создавая тем самым диалогическую доверительную тональность общения (стратегия близости к адресату) в целях усиления воздействующего эффекта.
В своей совокупности средства внутренней диалогичности реализуют кооперативную коммуникативную стратегию церковно-религиозных и политических, они являются вспомогательными коммуникативными 180 инструментами для привлечения внимания к определённым темам, важным с точки зрения говорящего, для создания иллюзии доверительной беседы, поиска истины вместе с адресатом.
Текст посланий, как и любой текст, пребывает в языковом континууме предшествующих и последующих текстов. Дискурс как явление динамическое обусловливает пересечение различных фрагментов действительности и предыдущих текстов и ситуаций [Кристева 2004]. Основным средством внешней диалогичности (интертекстуальности) являются прецедентные феномены (в т.ч. цитаты и аллюзии). Перед тем как перейти к описанию данных средств выражения внешней диалогичности, коротко обозначим границы этих понятий и определим значения соответствующих терминов. Под аллюзией понимается «косвенная ссылка гoвoрящего или пишущего посредством слова или фразы на исторический, литературный, мифологический, библейский факт или на событие повседневной жизни» [Galperin 1997: 187; цит. по: Лунькова 2010: 69], что выводит аллюзию «за рамки стилистического приёма … в область других семиотических систем» [Евсеев 1990: 14]. Таким образом, аллюзия, порождая ассоциации с известными участникам общения фактами или высказываниями, связывает два (или более) текста и тем самым порождает интертекстуальные связи [Лунькова 2010: 71].
А. С. Евсеев проводит тщательный анализ аллюзивных явлений и приходит к выводу, что «аллюзивный процесс может быть осуществлён двумя способами: 1) номинацией и 2) цитацией. Различие между номинативной аллюзией и цитатной аллюзией заключается, во-первых, в типе связи между репрезентантом аллюзии и денотатом аллюзии: в номинативной аллюзии эта связь символическая, в цитатной аллюзии – : и, во-вторых, в типе денотатов: в номинативной аллюзии – денотат практически любой, в цитатной аллюзии – это прежде всего текст, а также метонимические связанные с текстом объекты. В качестве репрезентанта аллюзии в номинативной аллюзии выступают номинаты, в цитатной аллюзии – денотаты» [Евсеев 1990: 7-8, курсив наш – Д.О.].
В церковно-религиозном дискурсе употребление средств внешней диалогичности обусловлено характером диктумного содержания. Цитаты из Библии (примеры 1) или изречения отцов церкви (2) и аллюзии, отсылающие адресата к событиям из библейской истории (3,4), есть абсолютно во всех изученных посланиях; например: