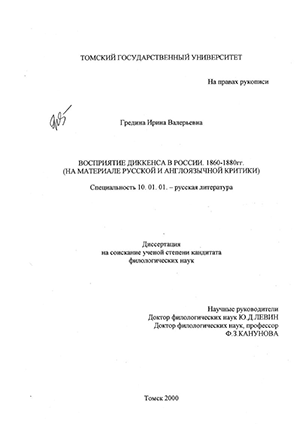Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Типология поздних романов Ч.Диккенса 18
1.1. «Большие надежды» 22
1.2. «Наш общий друг» 34
1.3. «Тайна Эдвина Друда» 44
Глава II. Переводы поздних романов Ч.Диккенса 61
2.1.Стилистика журнальных переводов романа «Большие надежды» 66
2.2. Первые переводы романа «Наш общий друг» 74
2.3. О некоторых стилистических особенностях ранних переводов романа «Тайна Эдвина Друда» 98
Глава III. Критическое истолкование. Диккенс в оценке русской критики 1850-1880-х годов 110
3.1.Восприятие Диккенса в 1850-1860-е годы 110
3.2. Диккенс в русской критике второй половины 1860-1880-х годов 118
Глава IV. Творческое восприятие наследия Ч.Диккенса 133
4.1. Диккенс в творческом восприятии Достоевского 133
4.1.1. Общие замечания 133
4.1.2.Нравственные аспекты «проблемы преступления» у Диккенса и Достоевского 137
4.1.3. Точки схождения Достоевского с Диккенсом в романах «Идиот», «Наш общий друг», «Лавка древностей», «Крошка Доррит» 144
4.1.4. Образные параллели «Бесов» и «Дэвида Копперфильда» в интерпретации англоязычной критики 156
4.2.Диккенс в художественном мире Толстого 182
Заключение 203
Список литературы 205
- «Наш общий друг»
- Первые переводы романа «Наш общий друг»
- Диккенс в русской критике второй половины 1860-1880-х годов
- Образные параллели «Бесов» и «Дэвида Копперфильда» в интерпретации англоязычной критики
«Наш общий друг»
Интерес к изображению внутреннего мира человека сочетается у Диккенса с желанием глубже понять нормативы викторианского общества. В своем следующем романе "Наш общий друг" он обращается к описанию средневикторианского общества и дает его широкую панораму.
В романе открывается картина жизни, изображенная сразу в нескольких аспектах: авантюрно-сенсационном, психологическом и сказочном. В основу композиции положена традиционная тема наследства, все части романа пронизаны единой концепцией денег как ложной меры ценности человеческой личности. Каждый персонаж этого романа — сложное сочетание художественного вымысла и жизненной правды.
В английской критике неоднократно отмечалась усложненность сюжета последнего завершенного романа Диккенса. X. Далески образно представляет сюжетную схему романа в виде распльтшихся на воде кругов, напоминающих ему все нарастающую напряженность сюжетных линий. С брошенным в воду камнем, от которого расходятся эти круги, Далески сравнивает тело, найденное в реке старым Гармоном. Функцией "кругов"—второстепенных сюжетных линий, является создание фона для основных сюжетных линий: Юджин Рейборн—Лиззи Гексам, Джон Гармон —Белла Уилфер. Основные сюжетные линии, по словам X. Далески, начинаясь в центре, расширяются в виде концентрических кругов, дающих импульс следующим кругам — второстепенным сюжетным линиям; — то есть действие в романе развивается по нарастающей, при этом эпицентр его (тело, найденное в реке), как бы исчезает из поля зрения. Критик полагает, что всю ширину и объем сюжетной перспективы романа можно почувствовать, внимательно вчитавшись в отрывок из начала YI главы четвертой книги: "Into the sheet of water reflecting the flushed sky in the foreground of the living picture, a knot of шспіш were casting stones, and watching the expansion of the rippling circles. So, in the rosy evening, one might watch the ever widening beauty of the landscape — beyond the newly-released workers wending home — beyond the silver river — beyond the deep green fields of corn, so prospering, that the loiterers in their narrow threads of pathway seemed to float immersal breast — high-beyond the hedgerows and the clums of trees — beyond the windmills on the ridge — away to where the sky appeared to meet the earth, as if there were no immensity of space between mankind and Heaven"60. ("На передаєм плане этой живой картины дети бросали камни в неподвижную речную гладь, отражающую закатное небо, и следили, как по ней разбегаются зыбкие крути. И такими же кругами ширилась даль в розовом свете вечерней зари, — вон дороги, по которым рабочие возвращаются домой, а там серебристая река, за рекой темная зелень хлебов, таких густых и высоких, что люди в полях будто плывут по волнам;... а на горизонте — небо сливается с землей, словно перестала существовать бесконечность пространства, отделяющая человека от небесной выси").
Развитие повествования происходит, по наблюдению X. Далески, на двух уровнях — путем увеличения как числа сюжетных линий, так и действующих лиц. Функцией центральной группы образов является осуждение "материального рая", то есть стремления к благам мирским. Причисляя этот роман Диккенса к величайшим его творениям, критик называет его не только самым поэтическим, но и наиболее религиозным произведением писателя.
Диккенс вскрывает законы развития человеческой души, пути морального и духовного возрождения человека. История духовного развития главных героев демонстрирует его веру в возможность возрождения отдельных человеческих личностей в английском обществе средневикторианской поры. И тем не менее писатель подвергает это общество суровой критике, в романе четко прослеживается глубокая пропасть, отделяющая "население" средневикторианской Англии XIX века от "небес".
Далески отмечает движение характеров в романе, при этом возрождение души (Джон Гармон, Юджин Рейборн) ассоциируется у него с погружением в воды той реки, с берегов которой "не кажется таким необъятным пространство между земной и потусторонней жизнью"61.
Эти весьма своеобразные по акцентам и мотивам размышления находят отклик в работе американского критика Давида Дейдре, который отмечает усиление элементов символики в позднем творчестве Диккенса и проводит параллель между "процессом отражения" в природе (река) и "процессом отражения" социальной реальности (общество). Д. Дейдре демонстрирует "символическое прочтение" романа, называя его "романом о реке и деньгах". По мнению Д. Дейдре, первая часть романа посвящена реке и Ист-Энду, а вторая — деньгам и Вест-Энду, остальные же части романа осуществляют связь между этими двумя мирами62.
Д. Дейдре подмечает интересную связь между реальными работами по благоустройству Лондона и "прекрасным романом о реке и о деньгах, накопленных собиранием мусора". Привлекая исторический материал и рассказывая о поставщиках мусора, бравших на себя обязанности чистить выгребные ямы и сточные колодцы, исследователь отмечает тот факт, что деньги Гармона, наследование которых является основой диккенсовского сюжета, собраны также благодаря этому виду работы63. Исследователь показывает, что осуществление Диккенсом экскурсов в ту или иную область жизни средневикторианской Англии приобретает большое значение для углубления смысла реалистической картины жизни общества.
Ассоциация денег с мусорными нагромождениями выступает как символ ничтожности богатства, не способного спасти человеческую душу, символ того, что человек ничего не приносит в этот мир и ничего не берет с собой, вечна лишь любовь, лишь она обладает даром воскрешения души. Символическое прочтение романа позволяет Д. Дейдре сделать вывод о том, что, работая над романом, Диккенс как бы "предпринял дренажные работы по очистке общества от скверны"64. Исследователь сравнивает эти "дренажные работы" с работами по возведению набережной на Темзе, подчеркивая, что они совпадают по времени.
Итак, отношение Диккенса к проблемам современности находит свое выражение в символических образах мусорных нагромождений — денег и реки, которая становится как бы действующим лицом романа. Река становится не только доминирующим образом, оказывающим определенное влияние на характер и эмоции персонажей, но и связующим звеном, объединяющим различные характеры и сливающим воедино все сюжетные линии романа. Несмотря на то, что символическая связь некоторых персонажей с рекой не бросается в глаза, образ реки, проникая в каждый характер, отражает его особенности.
Символика этого образа выступает особенно отчетливо в суждениях о реке в начале первой книги романа. Старый Гексам, обращаясь к своей дочери Лиззи, говорит: "As if it wasn t your living! As if it wasn t meat and drink to you /..../ The very fire that warmed you when you were a baby, was picked out of the river alongside the coal barges. The very basket that you slept in, the tide washed ashore. The very rockers that I put it upon to make a cradle of it, I cut out of a piece of wood that drifted from some ship or another."65 ("А ведь ты рекой живешь! Ведь она тебя кормит и поит /.../ Ведь река твой лучший друг. Уголь, который согревал тебя в младенчестве, и тот я вылавливал из реки, возле угольных барок. Корзинку, в которой ты спала, и ту выбросило на берег приливом").
Уже в первой главе Диккенс подчеркивает всю важность и значительность образа реки. Эмоциональная напряженность двух первых глав достигается нагнетанием чувства страха перед непонятным видом деятельности старого Гексама, промышляющего вылавливанием трупов утопленников из Темзы. Будучи символом естественного ритма жизни, река действительно является "пищей" и "огнем", источником "Жизни" и одновременно причиной "Смерти".
Первые переводы романа «Наш общий друг»
Среди журнальных переводов "Нашего общего друга" вариант В.А.Тимирязева выделяется большим профессионализмом, стремлением передать эмоциональный строй речи Диккенса, но все же ему присущи такие недостатки, как несколько вольное обращение с оригиналом, приводившее порой к сильному отклонению от подлинника, и тенденция к опущению отдельных деталей, в результате чего перевод оказался сокращенным. И тем не менее Тимирязев был одним из немногих переводчиков, проявлявших достаточно глубокий интерес к творчеству переводимого автора.
Не случайно он обращает внимание русской публики на полемику английских газет с Диккенсом по поводу названия романа. В примечании переводчика к девятой главе романа В.А.Тимирязев пишет: "Когда Диккенс объявил заглавие своего нового романа, то английские газеты тотчас указали ему ошибочность его эпитета "mutual" и приводили очень остроумные доказательства своих слов, предлагая назвать роман "Our Common Friend"46. На все возражения английских газет Диккенс посчитал нужным ответить в первом же выпуске романа. По мнению Тимирязева, английский писатель отвечал "очень ловко и хитро, а именно - обещанием, что читатель поймет, в каком смысле употреблена им популярная фраза (popular phrase) "Наш взаимный друг" как заглавие романа, из девятой главы, на такой-то странице .
Следует отметить, что название "Наш общий друг" выражает замысел и позицию автора и связано с сюжетом и главным действующим лицом. Действительно, "Наш общий друг" - эти слова произносит Н.Боффин в девятой главе первой книги, называя так Джона Роксмита (он же Джулиус Хэнфорд и Джон Гармон). Этот таинственный персонаж оказывается общим другом всех тех, кто в романе противостоит злу в разных его проявлениях. Воспроизводя полемику английских газет с Диккенсом, Тимирязев отмечает, что "после такого прямого ответа все замолчали, ожидая, что великий романист, владеющий языком в таком совершенстве, действительно придал спорному эпитету правильное приложение. Все рассчитывали на какую-нибудь неожиданную ловкую выходку или шутку, на которые так падок автор Пиквика. Редактор "Атенея" прямо объявил, что Диккенс бесспорно может и имеет право ввести в литературный язык обыденное выражение (colloqualism) и должно предполагать, что он совершенно правильно употребил это слово..."48.
Тимирязев считал, что перед ним как переводчиком стояла задача "передать с совершенной точностью спорный эпитет. По его мнению английский эпитет "mutual" нужно переводить русским прилагательным "взаимный". Однако такие переводчики, как А.И.Бенни, Н.Ауэрбах и Р.С.Сементковский переводят заглавие романа как "Наш общий друг". В примечаниях переводчика В.А.Тимирязев объясняет, почему он перевел заглавие романа "Наш взаимный друг": "... хотя сам этот эпитет на английском языке подлежит сомнению и филологи признают его неправильным, доказывая, что он никак не может быть применен к существительному "друг" и следует говорить "Our Common Friend", я передаю его словом "взаимный", чтобы яснее выразить намерения автора"49. Далее в своих примечаниях он предлагает самому читателю разобраться, насколько прав или неправ был Диккенс, выбрав прилагательное "mutual"50. Это глубоко осмысленное название романа является наглядным образцом того, насколько бережно стремился Тимирязев в своем переводе выразить художественный замысел Диккенса.
Наряду с журнальными переводами "Нашего общего друга" представляет интерес перевод Р.И.Сементковского, который был опубликован в 1893 году в собрании сочинений Диккенса издания Ф.Павленкова51. Сементковский не был профессиональным переводчиком, но, занимаясь литературной деятельностью и будучи разносторонне образованным человеком, он проявлял большой интерес к английской литературе. Роман Диккенса "Наш общий друг" был единственным трудом Сементковского в области перевода52.
При сравнении его варианта перевода с подлинником нетрудно заметить, что Сементковский не переводил, а скорее эмоционально пересказывал оригинал. Особенностью его перевода является достаточно свободное обращение с подлинником и обильное введение руссизмов. По-видимому, этот переводчик искал функциональные соответствия, оказывающие то же стилистическое воздействие на читателя в русской языковой среде.
Сразу после опубликования переводов первых выпусков "Нашего общего друга" в печати появились сочувственные отзывы об этом романе. Корреспондент из "Заграничного вестника" в разделе "Европейская жизнь", отмечая падение интереса русской читающей публики к Диккенсу, пишет о том, что "последние произведения великих английских романистов были так плохи, что фраза "новый роман Диккенса и Теккерея" не производит уже прежнего магического действия"53. Считая роман "Большие надежды" неудачным, анонимный корреспондент, подразумевая "Нашего общего друга", полагает, что "новое произведение Диккенса вполне обещает поддержать славу "Пиквика" и "Домби и Сына". Называя интригу "Нашего общего друга" запутанной, рецензент положительно отзывается о начальных главах нового романа, утверждая, что "эффектное начало -отличительная черта всех произведений Диккенса". Отмечая эмоциональную напряженность первых глав, критик подчеркивает, что "новый роман ... сразу завладевает вниманием читателя, возбуждает его любопытство; поиски утопленника в первой главе ... рассказаны так картинно и художественно"54.
А.Плещеев в своем обозрении "Жизнь Диккенса", высказываясь об эффектности манеры позднего Диккенса, отмечает, что "последний законченный роман носит на себе отпечаток тревог и огорчений, испытанных автором". Первоначальная идея "Нашего общего друга" зародилась, по мнению Плещеева, "во время одиноких прогулок писателя вдоль Темзы, причем многочисленные объявления, где в подробности описывались приметы утонувших, навели Диккенса на мысль изобразить мрачные фигуры двух искателей трупов - Гексама и Райдергуда"55. Таким образом, в русской критике не остается незамеченным тот факт, что сюжет этого романа строится вокруг мнимого убийства Джона Гармона, который был брошен в реку, но возвращен к жизни.
Общий фон романа создается уже первой картиной - зрелищем одинокой лодки, плывущей по Темзе со страшным грузом. Река, как указывалось выше, является доминирующим образом, сливающим воедино все сюжетные линии романа, и не случайно весть об убийстве Гармона рассматривается сквозь призму реки:
"Thus, like the tides on which it had been borne to the knowledge of men, the Harmon Murder - as it came to be popularly called went up and down, and ebbed and flowed, now in the town, now in the country, now among palaces, now among hovels, now among lords and ladies and gentlefolks, now among labourers and hammerers and ballast-heavers, until at last, after a long interval of slack water, it got out to sea and drifted away"56
Диккенс в русской критике второй половины 1860-1880-х годов
Последний этап творчества Диккенса совпал с новым периодом расцвета реализма в русской литературе, и влияние произведений английского романиста на русский литературный процесс несколько снизилось по сравнению с периодом 1850-х годов. Со второй половины 1860-х годов заметно изменился характер восприятия произведений Диккенса в литературных кругах России и среди русской читающей публики.
Причина утраты актуальности творчества позднего Диккенса заключается в том, что "русская литература второй половины XIX века по своему идейно-художественному значению не только сравнялась с западноевропейскими литературами, но и в определенном смысле превзошла их"48.
В этот период можно выделить две прямо противоположные тенденции. С одной стороны, отмечен активный интерес к Диккенсу у Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Толстого — русских классиков, в чьем творчестве глубокий социальный анализ русской действительности сочетался с философским осмыслением: на равных художественно значимых позициях с Диккенсом в произведениях русских писателей продолжался процесс обогащения, творческого диалога двух литератур. Другая тенденция связана с ослаблением интереса к Диккенсу в русской критике.
Среди высказываний русских писателей о Диккенсе Тургеневу принадлежит особое место. Сетовавший на то, что ему "не хватает воображения" и он "не умел бы написать повесть с замысловатым сюжетом", Тургенев презрительно называл всякий роман с несколько сложной интригой "дюмасовщиной". По свидетельству Н. Щербаня49, он называл "дюмасовщиной" лучшие романы У. Коллинза и некоторые романы Диккенса, "невольно высказывая этим сравнением похвалу Диккенсу по поводу его композиционного мастерства"50. Согласно воспоминаниям Я. Полонского, Тургенев, сетовавший на то, что он не может писать, если "он недоволен фразой или местом", дает меткую характеристику писательского метода Диккенса: "Другие на это не обращают внимания, пишут все с начала до конца, вчерне; потом постепенно отделывают по частям, иногда с начала, иногда с конца.
Так писал Диккенс... " . А. Луканина вспоминает о замечании И.С. Тургенева, сделанном по поводу ее технического мастерства: "... у вас рассказ несколько раз прерывается возвращениями к прежнему, старому, — этого делать не следует, это утомляет читателя". В качестве образца Тургенев приводит мастерство Диккенса: "Вот кто умеет забрать читателя в руки...". Однако Тургенев добавляет, что и у Диккенса есть слабые стороны, например, "слащавость в изображении добродетельных героев и героинь, их семейных отношений и т.д."53. Говоря о композиционном мастерстве английского романиста, Тургенев сетовал, что "сентиментальность" была уязвимым местом, "ахиллесовой пяткой"54 Диккенса.
Сложной была позиция М.Е. Салтыкова-Щедрина, который рассматривал "реализм" господствующим направлением в литературе. Он был убежден в том, что искусство преследует важную цель — истину, и оценивал жизненные явления "единственно по их внутренней стоимости". Для Щедрина неприемлемой была слащавость в изображении народной жизни. В рецензии на повести Н.А. Лейкина он пишет: "Мы помним картины из времен крепостного права, написанные "а 1а Dickens". Как там казалось тепло, светло, уютно, гостеприимно и благодушно! А какая на самом деле у этого благодушия была ужасная подкладка!"55.
Однако определяя понятие "реализм" в широком смысле, Щедрин неизменно противопоставляет Диккенса-реалиста французским писателям-натуралистам. В письме П.В. Анненкову от 2 декабря 1875г. он сообщает: "Возненавидил я Золя и Гонкуров... Диккенс, Рабле и проч. нас ставят лицом к лицу с живыми образами, а эти жалкие... нас психологией потчуют"56. Размышляя о прекрасном в жизни и искусстве, Щедрин выступал против литературы, которая в своем психологизировании отрывалась от "живого образа".
Формулируя принципы "общественного романа", Щедрин говорит об отсутствии "свободного доступа ко всем общественным сферам" у наших писателей, ставя им в пример Диккенса и других иностранных писателей, которые "свободны в своих воззрениях и своем творчестве". В рецензии на "Лесную глушь" Максимова он отмечает: "Диккенсы, Шпильгагены, Жорж Занды вводят за собой писателя всюду и не скрывают от него своих симпатий и антипатий... Причем никто не называет их за это нигилистами и попирателями авторитетов..." .
Щедрин стремился к анализу социальных вопросов и противоречий общественной жизни, и этим требованиям удовлетворял Диккенс. И.А. Гончарова, так же, как и Салтыкова-Щедрина, привлекал диккенсовский реализм. В письме кП.А. Валуеву от 6 июня 1877г., говоря о "трезвом" и "разумном" реализме, Гончаров называет Пушкина "нашим Диккенсом" . Раздумывая над проблемами искусства, Гончаров говорит о романе как о художественном произведении. В своей статье "Намерения, задачи и идеи романа "Обрыв" он пишет о том, что "роман стал почти единственной формой беллетристики, куда укладываются произведения творческого искусства"59, и отмечает среди писателей, избирающих эту форму, Диккенса. В статье "Лучше поздно, чем никогда" Гончаров называет Диккенса "общим учителем романистов": "В нашем веке нам дал образец художественного романа общий учитель романистов — это Диккенс"60.
В очерке "Литературный вечер" Гончаров рассуждает о романе как о виде и творчества и о степени таланта, назьшая имя Диккенса первым среди "первоклассных талантов, счастливо соединяющих в себе и содержание и форму": "Много ли таких! Диккенс, Теккерей, Бальзак, Пушкин, Лермонтов, Гоголь не родятся на каждом шагу..."61. В черновой рукописи статьи об Островском Гончаров утверждает, что "талант" Диккенса "может быть сильнее", чем у Вальтера Скотта62.
Гончаров говорит о том, что литературные школы "не выдумываются, а создаются гениальными талантами", подчеркивая, что "Диккенс, Пушкин и Гоголь не подозревали, что создают школу, а она создалась ими" . По мнению Гончарова, "художественная правда" присуща "реализму школы учителей", то есть подлинному реализму.
Понятие "реализм" у Гончарова базируется на понятии "художественная правда", которая рождается из взаимодействия "правды жизни и фантазии". Выступая против теории "чистого искусства", Гончаров, тем не менее, не мыслил творчества без участия фантазии. Высоко оценивая реализм Диккенса, Гончаров утверждал, что "не один наблюдательный ум, а фантазия, юмор, поэзия и любовь", которую Диккенс "носил целый океан в себе", помогли ему "написать всю Англию в живых, бессмертных типах и сценах"64. По мнению Гончарова, наблюдаемая автором правда отражается в его фантазии и воображении, и писатель переносит эти отражения в свое произведение.
Таким образом, творчество Диккенса оставалось предметом глубокого и пристального интереса ведущих русских писателей второй половины XIX века.
Однако в русской критике ситуация выглядела иначе. Критика не всегда поспевала за быстрым ходом отечественной литературы, порой утрачивая высокие художественные принципы 1860-х годов, которые отличались актуализацией вопросов самоценности личности, "душевной и духовной раскованностью", "интенсивностью жизни", "широтой и глубиной перемен"65, и оказывалась нередко в ситуации глубокого идеологического кризиса.
В критических работах произошло ослабление акцента на социальном пафосе произведений английского писателя. На первый план выступили проблемы нравственно-философского порядка и вопросы, связанные с исследованием художественной манеры Диккенса. Следует указать на особую значимость для русских критиков этого периода четырехтомной "Истории английской литературы" французского ученого-искусствоведа и критика Ипполита Тэна, заключительный том которой содержал этюд, посвященный Диккенсу ("Etude sur Charles Dickens")66. И. Тэн, в свойственной ему манере активного анализа текста, сосредоточил внимание на проблеме повествования в романах Диккенса и на выявлении художественной природы его реализма, особенностях эстетики: "ясное, сильное воображение и богатство фантазии", "драматизм обыденного", "кропотливое и страстное изучение мелких подробностей", "сатира, юмор и элегическая меланхолия, психологизм" .
А.Н. Пыпин , рассматривая поздние романы Диккенса в статье "Современный английский роман"69, во многом развивал положения И. Тэна, разделяя с ним восхищение творческим гением английского писателя. В основу своей статьи Пыпин положил этюд Тэна о Диккенсе, "широко его используя, обильно цитируя"70, однако не всегда соглашаясь с точкой зрения французского критика, у которого, по мнению Пыпина, отсутствовала "отвлеченная художественная оценка" метода Диккенса. Представляют интерес рассуждения Пыпина о художественном методе и стилевой манере Диккенса. Называя стиль Диккенса "страстным и одушевленным", "постоянно действующим на читателя быстрой сменой разнообразных впечатлений", Пыпин считал стилевую манеру английского романиста "одним из главных качеств его таланта, составляющих его силу". По мнению Пыпина, существенной чертой таланта Диккенса является "преобладание чувства", при этом писатель "не смягчает и не ослабляет впечатления ни личным анализом, ни сопоставлением других фактов... он исчерпывает все содержание, какое может извлечь из данного положения, и достигает чрезвычайного эффекта" .
Образные параллели «Бесов» и «Дэвида Копперфильда» в интерпретации англоязычной критики
В следующем романе «Бесы» Достоевский решает проблему происхождения «зла» в человеке. Неповторимая апокалиптическая атмосфера этого романа, его композиционно-стилистическая структура, совмещающая элементы памфлета и трагедии, предопределили пародийно-гротескную доминанту в интерпретации героев. По мысли Достоевского, непонимание России, ее духовных ценностей, отрьш русского культурного слоя от «почвы» создавали благоприятные условия для рассудочных теорий, приводивших к тотальному безумию и неразличению «добра» и «зла».
В англоязычной критике существуют различные трактовки проблемы «происхождения зла» в героях Достоевского. Так, Георг Катков в статье «Steerforth and Stavrogin» («Стирфорт и Ставрогин») считал, что Достоевский объясняет происхождение «зла» в человеке существованием «вожделенной страсти к злу, как таково-му» в человеческой душе» . Лари полагает, что проблема «демонического стремления к злу» в русском менталитете становится для Достоевского первостепенно важной после того, как он услышал о чудовищном преступлении в Петровской земледельческой академии . С.Гессен называет «Бесы» «чистой трагедией зла» .
Ряд англоязычных исследователей считает также, что реминисценции из «Дэвида Копперфильда» оказали влияние на создание некоторых образов и сюжетных коллизий в «Бесах». Следует особо отметить, что обращение Достоевского к роману «Дэвид Копперфильд» при создании романа «Бесы» свидетельствует о неослабевающем интересе его к творчеству Диккенса в целом. Он неоднократно возвращается к прочитанным, но незабываемым страницам любимого английского писателя. Это позднее возвращение к сравнительно раннему Диккенсу показывает, каким проницательным, чутким и мыслящим читателем был Достоевский, и позволяет увидеть в творчестве Диккенса, автора «Дэвида Копперфильда», философскую глубину и драматическую напряженность характеров, рожденных эпохой буржуазной Европы.
Г.Катков полагал, что типологические схождения образов, выявленные в романах «Дэвид Копперфильд» и «Бесы», позволяют сквозь призму «Бесов» увидеть новую тему в композиции «Дэвида Копперфильда», а именно «проблему происхождения зла в человеке», которую Диккенс пытается разрешить в образе Стирфорта. Катков называл «Бесы» «Истинным Дэвидом Копперфильдом Ф.Достоевского» («The True David Copperfield by F.Dostoevsky»). Утверждая, что «человечество лишилось бы удовольствия прочитать «Дэвида Копперфильда» по-новому, если бы выявленные им типологические схождения не помогли увидеть диккенсовский роман сквозь призму «Бесов»86, Катков бессознательно применяет метод «обратного влияния», заключающийся в том, что «ретроспективное проецирование некоторых черт произведения, созданного под внешним влиянием, на произведение, это влияние оказавшее, может помочь обнаружить в последнем такие черты, которые иначе ускользнули бы от внимания исследователя».
Образ Ставрогина, самого загадочного и наиболее спорного персонажа «Бесов», вызывает самые разные, порой противоположные интерпретации. А.Бем полагал, что «Достоевский с самого начала колебался между двумя концепциями образа Ставрогина: согласно первой, Ставрогин находит трагический конец после духовного возрождения», согласно другой концепции, «его конец низок и посты-fleH»(«ignoble end»), при этом каждая из двух версий соответствует двум вариантам «Исповеди».
Катков считал, что Достоевский выбрал прототип для своего героя бессознательно, поскольку желание установить природу революционного движения на примере Нечаева89 и исследовать менталитет бунтовщика не дало ему вспомнить, что он встретил своего «демонического героя» на страницах диккенсовского романа. По мнению Каткова, Достоевский не мог соотнести «ограниченных интеллектуально участников убийства Иванова» с «заботливо лелеемым образом демонического героя», жившего в его воображении. Отсюда - «необходимость ввести Став-рогина в качестве отдельного персонажа в романе». Итак, Катков видел доминирующее влияние диккенсовского Стирфорта на творческий процесс Достоевского при создании им «воображаемого демонического персонажа».90
Известно, что образ Ставрогина в процессе работы Достоевского над «Бесами» претерпел много изменений. В первых набросках его роль была лишь сюжет-но-психологической; на следующей стадии Ставрогин должен бьш преодолеть свои низкие страсти и воскреснуть к новой жизни, но в конце концов Достоевский останавливается на том, что подвиг «воскрешения» этому персонажу не удается.91 Подробно рассматривая все метаморфозы образа Ставрогина, Катков делает вывод о том, что некоторые из более ранних версий характера Ставрогина были сформированы под влиянием диккенсовского Стирфорта. Исследователь пытается аргументировать свою мысль тем, что якобы в ранних набросках романа Достоевского герой нападает на «Учителя», при этом Достоевский обращается к инциденту со Стирфортом, который обижает м-ра Мелля. Вывод Каткова о том, что связи, соединяющие образ Ставрогина со сложным механизмом сюжета, так трудно вскрыть лишь потому, что Достоевский работал под влиянием диккенсовского Стирфорта, вызвал серьезные возражения у Лари, который полагал, что концепция Каткова основывалась лишь на сведении основной идеи «Бесов» к проблеме «происхождения зла» в русском менталитете. Кроме того, Лари полагал, что Катков слишком упрощенно воспринимал образ Ставрогина, как «Стирфорта, переделанного Достоевским», определив «диккенсовского байронического героя» на одну из ролей «своей мелодрамы» и реконструировав этот образ до «романтического бунтаря», овеянного «бесовской таинственностью».
И тем не менее, Н.М.Лари считает точку зрения Г.Каткова относительно того, что прототипом Ставрогина является Стирфорт, в какой-то степени правильной над нечаевцами, пишет: «Ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если б и знал, то не стал бы копировать. Я только беру свершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью...» (Письма. II. С. 288). См. об этом подробно: Карякин Ю.Ф. Зачем хроникер в «Бесах»? // Достоевский. Материалы и исследования. Т.5 1983. С. 118.
Однако для этого исследователя больший интерес представляет не характер Став-рогина, а его роль в композиции романа. По мнению Лари, Ставрогин вьшолняет «мессианскую роль» в романе, то есть в композиции романа роль Ставрогина сводится к осуществлению того, о чем лишь мечтают остальные персонажи, - он облекает в какую-то форму тот хаос, который их окружает, и задает те философские вопросы, которые они не могут сформулировать. В связи с этим Лари считает, что исключение главы «У Тихона» привело к лучшему варианту романа, поскольку, если бы исповедь Ставрогина Тихону была включена, еще одна дополнительная психологическая драма затемнила бы его роль в композиции.94
В противоположность канадскому исследователю, С.Гессен считает, что «вынужденному пропуску «Исповеди» из «Бесов» мы обязаны тем обстоятельством, что Достоевский отказался от своего первоначального замысла включить Тихона в действие романа и что «Бесы» остались таким образом чистой «трагедией зла». По мнению этого критика, из всех героев «Бесов» Ставрогин является наиболее точным изображением совершенно конкретной исторической личности. С.Гессен полагает, что «эмпирическим прототипом Ставрогина был Николай Спешнев, член кружка петрашевцев, с которым Достоевский находился в тесных личных отношениях, называя его «своим Мефистофелем». Согласно концепции Гессена, в образе Ставрогина «личное воспоминание преобладает над тенденцией».
По мнению Лари, особый интерес Достоевского к образу Стирфорта мог быть вызван способностью этого персонажа к разрушению существующих ценностей, а также пренебрежением к своим природным способностям. В этом заключается нечто, сближающее Стирфорта со Ставрогиным, которому также присуще «стремление освободиться от законов повседневной жизни».96
И действительно, мы находим качества диккенсовского Стирфорта в характере Ставрогина, который имеет еще одно свойство, а именно - способность связывать идеи в новую схему. Ставрогин, так же как и диккенсовский Стирфорт, презирает мир с его понятиями о «добре» и «зле» и выдвигает свои собственные понятия. Возможно, понимание скрытых возможностей натуры Стирфорта и привело Достоевского к разработке и даже преувеличению этих черт характера в образе Ставрогина. Вполне вероятно, что Ставрогин как бы воплощает и даже развивает «демоническую идею вседозволенности», заложенную в образе Стирфорта (хотя в конце концов все варианты реализации этой идеи, основанной на свободе воли и возможности освободиться от условностей благодаря достижению ложной свободы, оказываются иллюзорными для обоих персонажей).
Как для Стирфорта, так и для Ставрогина характерны байроническая гордость и своеволие, эгоизм, чувство превосходства и артистизм. Образ Стирфорта всегда окутан тайной, его врожденная привлекательность трудно объяснима, он изображен снобом, одаренным дилетантом, не способным сконцентрироваться серьезно ни на одной идее: «...all this was a brilliant game, played for the excitement of the moment, for the employment of high spirits, in thoughtless love of superiority, in a mere wasteful careless course of winning what was worthless to him, and next minute thrown away»(...3T0 только превосходная игра, которую он вел ради минутного развлечения, ради того, чтобы дать выход своей веселости, побуждаемый неосознанным стремлением властвовать, безотчетной потребностью покорять, завоевывать даже то, что не имело для него никакой цены и тут же отбрасывалось прочь»).97 Искренность чувств утеряла всякий смысл и для Ставрогина, он так же, как и Стирфорт, постоянно играет новые роли. Достоевский изображает Ставрогина личностью, не способной к искренней вере, ему присущи раздвоенность и предельное равнодушие («ни холоден, ни горяч»).98