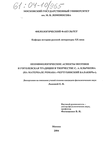Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Историко-песенный фольклор как источник поэтики Хлебникова с. 22
1. Приоритеты В. Хлебникова в области фольклора
2. Мотивы и образы русского историко-песенного фольклора в творчестве В. Хлебникова 32
Глава II. Раннее творчество В. Хлебникова и русская волшебная сказка с. 53
1. Традиции русской волшебной сказки в ранних поэмах Хлебникова с. 53
2. Композиционный принцип двоемирия в ранних пьесах В. Хлебникова
Глава III. Былинные и сказочные традиции в новой жанровой форме «сверхповести» с. 99
1. Жанровй эксперимент Хлебникова и проблема циклизации
2. Былинный сюжет о Святогоре и художественная концепция «сверхповести» «Дети Выдры» 119
3. Русская волшебная сказка как источник «сверхповести» «Зангези»
Заключение с. 160
Список использованной литературы с. 168
Примечания с. 198
- Мотивы и образы русского историко-песенного фольклора в творчестве В. Хлебникова
- Традиции русской волшебной сказки в ранних поэмах Хлебникова
- Композиционный принцип двоемирия в ранних пьесах В. Хлебникова
- Былинный сюжет о Святогоре и художественная концепция «сверхповести» «Дети Выдры»
Введение к работе
Личность Велимира Хлебникова (1885-1922), великого русского поэта, драматурга, прозаика, оригинального мыслителя, подвергалась различным оценкам современников» Его называли «новым зрением» в литературе (Тынянов), «поэтом будущего» (Асеев), «Колумбом новых поэтических материков» (Маяковский) и даже «наибольшим мировым поэтом» XX столетия (Якобсон). «У нас есть Хлебников. Для нашего поколения он.—то же, что Пушкин для начала XIX века, то же, что Ломоносов для восемнадцатого», — объяснял Бени-дикт Лившиц приехавшему в Россию основателю футуризма Маринетти-. В то время параллель Пушкин — Хлебников многим казалась вполне естественной и принималась безоговорочно.
Наука о Хлебникове зародилась еще при его жизни - первая работа о нем, монографическое исследование, была написана выдающимся филологом P.O. Якобсоном в 1919 году2 — но развивалась неравномерно, с длительными периодами забвения со стороны ученых и неприятия со стороны официальной критики. К сожалению,-.его творчество приобрело устойчивую репутацию «стилистического эксперимента», «зауми», «литературного штукарства», мало понятного и совсем не интересного массовому читателю. Разумеется, основанием для этого явились не только причины идеологического толка, но и сам характер герметической поэзии Хлебникова. Подлинным прорывом, ломкой сложившихся в науке стереотипов явился выход монографии В.П. Григорьева «Грамматика идиостиля: В. Хлебников» (1983). Начался любопытный процесс формирования новой отрасли междисциплинарного научного знания; получившей название «велштроведение» (по определению В.П. Григорьева, этот термин служит обозначением всей области исследований творческого наследия Хлебникова и отвечает своей «внутренней формой» неологической сущности устремлений поэта3).
Начиная с 1985 года, когда был отмечен столетний юбилей поэта и вышел в свет приуроченный к этому событию солидный том его избранных сочине ний, велимироведение приобретает новое дыхание. Публикуются многочисленные исследования, выходят тексты, в Астрахани регулярно проводятся Хлебни-ковские чтения и основан музей поэта, творчество которого тесно связано с «городом предков». Однако, по справедливому замечанию В.П. Григорьева, все же до сих пор Будетлянин: (так именовал себя сам Хлебников) «культурой не «измерен», не принят ею во весь его народный, национальный рост, самостоянья как бы не удостоен, обществом ни к чему Высокому и Актуальному не причислен»4. В то же время «интуитивно мы давно ощущаем глубину хлебни-ковского феномена, его возрастающую роль не только в литературе, но и во всей передовой культуре истекших десятилетий и в сегодняшнем мире» .
Приходится признать, что на сегодняшний день всесторонняя и аргументированная концепция творчества Хлебникова отсутствует. Большинство научных работ посвящено рассмотрению отдельных аспектов его творчества и мировоззрения. Однако «новизна и значение искусства и миропонимания будет-лянина, очевидно, не могут быть достаточно полно выявлены, осознаны и разъяснены, если пренебречь хотя бы одним из измерений его многоуровневого, многомерного творчества, хотя бы одной из занимавших поэта «осад», - от звука, числа и мельчайших «приращений смысла», - строевых элементов языка до слово- и образотворчества, до категории времени и судьбы, до целостной картины мира у Хлебникова и специфического для него типа художественного мышления»6.
Как известно, сложилось два принципиально различных подхода к интерпретации произведений В. Хлебникова и определению его творчества, что связано с вопросом о семантической мотивированности хлебниковского текста:
1) Поэзия Хлебникова, за редкими исключениями, представляет собой чистую «заумь», не поддающуюся рациональному толкованию, несет на себе печать бессвязности, алогичности и даже личностной патологии автора. Данная точка зрения явилась реакцией академического литературоведения на творческие эксперименты футуристов, впоследствии была «унаследована» рядом критиков советского периода и нашла отражение в статьях А. Горнфельда К. Лок са, И.А. Аксенова, К. Зелинского, М.В. Исаковского, В Я. Анфимова, отчасти В.М. Жирмунского и Г.О. Винокура.
2) «Апологетическая» концепция, берущая начало в следующем высказывании Ю.Н. Тынянова: «Те, кто говорят о «бессмыслице» Хлебникова, должны пересмотреть этот вопрос. Это не бессмыслица, а новая семантическая система... Все поэты, даже частично менявшие семантические системы, бывали объявляемы бессмысленными, а потом становились понятными — не сами по себе, а потому что читатели поднимались на их семантическую систему» . В дальнейшем, благодаря исследованиям Вяч. Вс. Иванова, Б. Леннквист, А. Парниса, X. Барана (более напоминавших расшифровки поэтических ребусов) была доказана сознательность, преднамеренность и мотивированность многих строк, образов и тем поэта-будетлянина. Для прояснения семантики хлебниковских произведений X. Бараном был предложен «метод широких контекстов», предполагавший рассмотрение всех текстов Хлебникова (не только поэтических) в виде единого корпуса, «из которого вычленяются повторяющиеся лексические единицы, а также единицы более высоких уровней - мотивы, образы, эпизоды и т.д., — с тем чтобы установить значение (значения) всех этих единиц»9. Однако, как впоследствии признал сам X. Баран, данный метод не позволяет делать широкие обобщения относительно творческих принципов Хлебникова и не учитывает в должной мере эволюцию его поэтики10.
Можно считать доказанным, что точка зрения, согласно которой произведения Хлебникова по своей природе не доступны токованию, лишена оснований. «Огромная поэтическая практика и программные установки поэтов конца XIX-XX века, и европейских, и русских... свидетельствуют о том, что в какой-то момент поэзия отчетливо предпочла пути «передачи информации» путь «трансформации сознания» своего адресата, пути «оформления смысла» - путь «метаморфоз смысла», возникающего и развертывающегося в ходе сложения самой стиховой ткани»11. «Алогичность» Хлебникова при ближайшем рассмотрении оказывается чистейшей иллюзией, ибо его поэтическое слово «конкретно и не знает многозначной неопределенности»12. В ряду поэтов-авангардистов он,
, единственный, кто избегает (намеренно или инстинктивно) нарочитой непонятности, и главным препятствием в прояснении семантики его произведений является скорее «непредсказуемая эрудиция» автора, чем навязчивое стремление к «поэтической темноте». Но, как заметил В." Турбин, «ни полемическая защита Хлебникова, ни его построчное комментирование - проблемы Хлебникова не решат. Полемика продолжается, комментарии множатся, но не можешь отделаться от ощущения: нечто главное, решающее, о поэте не сказа-но»13.
С вопросом о семантической мотивированности связана проблема композиции, целостности и связности хлебниковского текста, здесь снова актуальным становится предположение о «немотивированности» связей, о своего рода «окказионализме» построения. Наиболее четко это сформулировано в классической работе P.O. Якобсона: «Есть у Хлебникова произведения, написанные по методу свободного нанизывания разнообразных мотивов. Таков «Чертик», таковы, пожалуй, «Дети Выдры». (Свободно нанизываемые мотивы не вытекают один из другого и логической необходимостью, но сочетаются по принципу формального сходства или контраста; ср. Декамерон, где новеллы дня объединены тождественным сюжетным заданием). Этот прием освящен многовековой давностью, но для Хлебникова характерна его обнаженность - отсутствие оправдательной проволоки»14. Н.Л. Степанов считал метод «свободного нанизывания» основной конструктивной особенностью хлебниковского эпоса: «Большинство поэм Хлебникова «бессюжетно» (т.е. не имеет событийной канвы). Поэтому «фабула» поэм у него движется путем ассоциативного нанизывания отдельных тематических звеньев, логически не мотивированных»15. В. Марков еще более категоричен, характеризуя построение многих поэм Хлебникова как «простое присоединение строк и кусков текста друг к другу»16. Б. Успенский, комментируя в специальной статье многоголосую драматургию хлебниковского стиха, обнаруживает в ней «текст в тексте», сведение воедино отдельных текстов как смысловой фокус композиции. По мнению исследователя, у Хлебникова происходит нарочитое употребление необычных или специально создан ных форм с целью, можно сказать, демотивации . А. Панченко и И. Смирнов в своей совместной работе констатируют: «Хлебников по сравнению с Маяковским более анархичен: цельность образного мотива кажется разрушенной при объяснении деталей, далеко отстоящих друг от друга в понятийном плане. Восприятие затрудняется, потому что здесь нет того, что мы назвали словами-переключателями. У Хлебникова мотив формируется скачками; строчки Хлеб-никова «понятнее» строф, а строфы «понятнее» стихотворений» . К сходным выводам приходит B.C. Баевский при сравнении поэтических систем Хлебникова и Пастернака: «Переходя к уровню целого текста, мы наблюдаем у Хлебникова систематические нарушения нормальных условий связности текста, в первую очередь за счет свободного употребления шифтеров. Одно и то же лицо или явление благодаря динамике авторской позиции может обозначаться на протяжении короткого фрагмента разными местоимениями, тогда как разные лица или явления могут обозначаться одинаковыми местоимениями и их формами... Сходную функцию выполняет смена глагольных форм лица (иногда и рода и числа) и особенно времени...» .
X. Баран посвящает отдельную статью хлебниковской композиции2 , где утверждает, что в этой области исследования по доказательству «мотивированности» явно отстают от исследований семантического уровня. Однако, «при тщательном анализе, принимающем в расчет и содержательную сторону, и жанровую специфику, по крайней мере в некоторых произведениях Хлебникова можно выявить хорошо разработанный композиционный рисунок» . Это демонстрируется в работах Дуганова22, Вроона23 и самого Барана, полагающего, «что существует достаточно прочная основа для пересмотра издавна укоренившегося мнения о немотивированности построения хлебниковских текстов»24.
Поиски особого композиционного принципа, действующего в произведениях Хлебникова, привели некоторых исследователей к рассмотрению взаимодействий его поэзии с иными родами искусства. Так, М, Грыгар предлагает аналогии с живописной композицией аналитического кубизма, а Л. Гервер — с музыкальной полифонической композицией . Наконец, существует точка зрения, что своеобразие архитектоники произведений Хлебникова обусловлено особенностями творческого метода, внеположного литературной традиции Нового времени: «Разгадке» композиционного строя в каком-то из сочинений Хлебникова всегда грозит опасность быть опровергнутой следующей публикацией текста... и это не проблема неудовлетворительной практики публикации Хлебникова, но его общего метода, в согласии с которым ни состав, ни последовательность, ни принадлежность отдельных фрагментов этому или другому целому или их изолированное бытование не являются окончательно и однозначно решенными. Статус текста (и, собственно, связность текста) у Хлебникова типологически близки не авторской литературной традиции, но фольклору и средневековой словесности»
Как справедливо отмечает X. Баран, «давая оценку различным подходам к композиции у Хлебникова, необходимо принять во внимание роль жанра, который в принципе может быть определяющим фактором как для композиции, так и для семантики текста»2 . Уже при появлении Хлебникова на русской литературной сцене за ним утвердилась репутация эпического поэта, о чем однозначно заявлял, например, Ю.Н. Тынянов: «Хлебников был новым зрением. Новое зрение одновременно падает на разные предметы. Так не только «начинают жить стихом», по замечательной формуле Пастернака, но и жить эпосом. И Хлебников — единственный наш поэт-эпик XX века. Его лирические малые вещи - это тот же почерк бабочки, внезапные, «бесконечные», продолженные вдаль записи, наблюдения, которые войдут в эпос - или сами, или их родственники»28. В современном велимироведении тезис об эпичности творчества Бу-детлянина стал практически «общим местом»: «Лирическая ипостась обычно проявляется у Будетлянина в причудливом сплаве с «эпической», независимо от формально-жанровой принадлежности текстов; Такую «лирику» он не включал в круг своих главных «осад», очевидно, из-за убеждения в том, что высокая мысль о необходимости для творчества «сердца», «чувства», «вдохновения» или «подсознания» общеизвестна: Но, к примеру, в «Свояси» особо подчеркну та их роль, так что тема осады Хлебниковым «лирического» пока не исследована, пожалуй, только по недоразумению» 9.
Вопрос о соотношении и взаимодействии эпического, драматического и лирического элементов творчества Хлебникова был подробно рассмотрен Р.В. Дугановым , развивавшим «мифопоэтическую» тенденцию велимироведения. По его мнению, в хлебниковском мифопоэтическом пространстве происходит размывание традиционных устоев композиции, а в мифе теряют смысл общепризнанные жанровые различия: «В общей эстетике Хлебникова нужно говорить не о раздельном эпическом, драматическом или лирическом слове и не о их смешении, а о разных сторонах, разных состояниях единого слова... Эстетика абсолютного слова неизбежно порождала относительность категории жанра. Никаких строгих дефиниций, незыблемо определяющих тот или иной жанр, в произведениях Хлебникова провести невозможно, наоборот, жанры свободно переходят путем непрерывного изменения один в другой во всех мыслимых сочетаниях. Так, что любое произведение принципиально представляет собой какой-то обратимый, или амбивалентный, жанр, который в зависимости от тех или иных условий оказывается и лирикой, и драмой, и эпосом»31. Тем не менее, поэзия Хлебникова воспринимается именно как эпическая, поскольку «независимо от того или иного жанрового оформления содержанием его поэзии всегда оказывается эпическое состояние мира, т.е. внеличная данность, чистая взаимо-связанность и взаимоотнесенность смысла»32. В тех случаях, когда «эпический принцип» находил соответствующее жанровое оформление, «это давало исключительную энергию выражения»33.
Вопрос об использовании Хлебниковым исторически сложившихся жанров исследователями практически не рассматривался (за исключением работы Маркова о поэмах ). «Отчасти это объясняется довольно скромной ролью, которую теория литературы отводит ныне проблеме жанра, отчасти же пренебрежение жанром коренится в том предвзятом взгляде, согласно которому творчество Хлебникова воспринимается вне жанровых схем и поражает таким новаторством, что ни о какой предшествующей литературной традиции не может идти речи»35. Новаторство Хлебникова в данной области также осталось без должного внимания (в частности, отсутствует определение «сверхповести» -«принципиально новой формы какого-то многожанра»36, над которой поэт-будетлянин работал на протяжении всей жизни).
В исследованиях по словотворчеству Хлебникова просматриваются те же закономерности, что и во всем «велимироведении». Долгое время господствовала точка зрения, сформулированная P.O. Якобсоном еще при жизни поэта: «На ряде примеров мы видели, как слово в поэзии Хлебникова утрачивает предметность, далее внутреннюю, наконец, даже внешнюю форму. В истории поэзии всех времен и народов мы неоднократно наблюдаем, что поэту, по выражению Тредиаковского, важен «токмо звон»37. От Якобсона идет традиция рассматривать внутренние связи хлебниковского целого как на разных уровнях «немотивированные» (ранний Винокур, Гофман, Степанов и др.). Для самого Якобсона это отбрасывание «эфемерных мотивировок» есть лишь второе название «обнажения приема». Шкловский, Якобсон, Гофман указывали также на рутинность канонического языка, разрушаемого «экспериментатором» - Хлебниковым.
Новый этап в изучении хлебниковского словотворчества открыли русские структуралисты (Вяч. Вс. Иванов). Б.А. Успенскому нарушение обычных грамматических, синтаксических, композиционных связей позволяет рассматривать произведения поэта как «криптограммы» . Не случайно исследования 70-80-х годов пошли именно по пути «дешифровки» Хлебникова (Р. Дуганов, Р. Вроон, Б. Ленквист). Наиболее подробно лингвопоэтические построения Будетлянина изучает В.П. Григорьев, обозначив их как «воображаемую филологию»39. Открывая новые пути к постижению поэтической системы Хлебникова, Григорьев указывает на связи лингвистики и эстетики: 1) «... любые образные структуры у Хлебникова, как и во всем искусстве слова, — это структуры словесно-образные, а «смыслы» и «значения», которые должны быть найдены, — это образные смыслы. Сущность словесного образа легко может ускользнуть от нас, если собственно языковые способы художественной выразительности и подчас очень тонкие «приращения» языкового смысла не попадут в светлое поле нашего сознания»; 2) «Столь же непосредственно связаны лингвистика и эстетика при оценке любого из произвольно выбранного множества хлебниковских неологизмов»; 3) «Без лингвистики невозможно обойтись при обращении к целостному анализу произведений Хлебникова»40. В настоящее время, благодаря работам В.П. Григорьева, словотворчество Хлебникова стало объектом изучения отдельной отрасли велимироведения и получило признание специалистов как попытка реформы поэтического языка: «Хлебников обращался с языком бессознательно-полновластно. Он один принял на себя функцию целого народа, с той разницей, что народ формирует и преобразует язык медленно, постепенно, на протяжении веков и тысячелетий, а Хлебников все открытия и преобразования совершал nic et nunc, в течение своей короткой творческой жизни»41. Составлен словарь неологизмов Хлебникова, изучаются механизмы и принципы словотворчества, связь лингвистических изысканий поэта с поисками «основного закона времени»42.
Как отмечает Е.Р. Арензон, «современное хлебниковедение значительно продвинулось вперед, интерпретируя научный контекст идей Председателя земного шара»43. Многолетние усилия В. Хлебникова по разработке «математической философии истории» принято рассматривать как феномен «мифопо-этического мышления». Высказывались и мнения, что поиск «правил времени» - просто чудачество, пограничное с психопатологией и лишенное рационального элемента. «Однако подробное ознакомление с этой частью творческого наследия поэта показывает, что здесь мы сталкиваемся, скорее, с весьма серьезной попыткой решения проблемы, которая до сих пор остается неисследованной или даже ясно не сформулированной. Хлебников в этом своем увлечении предстает как интересный и глубокий мыслитель, не понятый не только в своем окружении при жизни, но и более поздними читателями и исследователями его творчества»44. Велимироведы говорят об этой стороне творческой работы Хлебникова достаточно осторожно, избегая окончательных выводов. Н.Л. Степанов: «Жажда цельности мира, трагическое восприятие его раздробленности и хаотичности приводили Хлебникова не к покорности перед «роком», не к «отчуждению» личности, а к созданию утопического представления, мифа о гармоническом единстве, о «Гамме Будетлянина», «ладе мира», достигаемом через открытие «законов времени»45. В.П. Григорьев: основной закон времени Хлебникова- «этапный опыт поиска онтологического Единства мира (если не сама находка), в развитие «положительного всеединства» Вл. Соловьева, уже на новом уровне, синтеза естественнонаучных и гуманитарных, философских и социальных знаний и представлений первых десятилетий XX века»46. Как бы то ни было, следует признать, что «числа составляют существенную часть поэтического мира Хлебникова»47, поскольку поэт-футурист посвящал им стихи и трактаты в прозе.
Еще одной из наиболее важных составляющих поэтического мира Хлебникова считается мифотворчество. Это вполне закономерно, если вспомнить, что «неомифологическое сознание — одно из главных направлений культурной ментальносте XX в., начиная с символизма и кончая постмодернизмом»48. Практически все известные «велимироведы» так или иначе затронули данную проблему, но впервые наиболее четко она была сформулирована X. Бараном. Осознав ограниченность своего «метода широких контекстов», американский исследователь разработал новую концепцию, согласно которой «Хлебников был мифологизирующим (мифопоэтическим) художником слова»49. Характеризуя мифотворческий метод Хлебникова, X. Баран привлекает идеи К. Леви-Строса о бриколаже (решении проблемы путем подбора первых попавшихся под руку среддств) и Ф. Боаса о комбинации как характернейшем принципе создания текстов из гетерогенных элементов в мифе. X. Баран полагает, что мысль Боаса о мифологических мирах, которые «обречены распасться, едва родившись, чтобы из их обломков родились новые вселенные»50, могут быть лучшим эпиграфом к обсуждению своеобразия Хлебникова.
Мифопоэтический подход к изучению творчества Будетлянина был подхвачен отечественными и зарубежными исследователями и на сегодняшний день является, безусловно, доминирующим; однако точка зрения X. Барана подвергается критике, дополняется и уточняется в соответствии с новейшими тенденциями в области мифопоэтических исследований.
Выделяются различные причины интереса В. Хлебникова к мифу, проявившегося уже на раннем этапе творчества: близкое знакомство с традициями народов Астраханского региона и Поволжья (обусловленное фактами биографии поэта51); воздействие мировоззрения и культуры символизма, особенно идей Вячеслава Иванова о роли мифа ; национализм раннего Хлебникова, выступавшего за возрождение обычаев языческой старины53; увлечение поисками «математических законов истории»54; установка на обновление поэтического языка55. В последние годы стали появляться работы, в которых творчество Хлебникова вписывается в более широкий контекст мифологизма авангардистских группировок; изучаются отдельные мифологемы, сюжеты, мотивы. Несмотря на трудности, связанные с выявлением конкретных источников, исследователи достаточно уверенно выделяют главные традиции, к которым наиболее часто обращался поэт-будетлянин: 1) славянский языческий фольклор; 2) античная мифология; 3) комплекс религиозно-философских представлений индуизма и буддизма; 4) древний Египет, занимавший особое место в мифопоэтических построениях Хлебникова; 5) иранский мифологический эпос; 6) ритуалы и предания «малых народов» России, в частности - племени орочей. «Уже немало сделано для того, чтобы определить характер работы поэта с мифологическим материалом как этих, центральных для его творчества, традиций, так и других, более периферийных»56.
Рассмотрение вопроса осложняется тем, что «исследовательская литература о «новом мифологизме» огромна, и не стоит уточнять, что она не сводится к сознательному использованию мифологического материала или вторичной литературы о мифе. Мифопоэтические образы и структуры являются спонтанно, стоит обратиться к дологичным глубинам языковых значений и к «измененным» или «расширенным» состояниям сознания»57. О. Седакова выделяет мифотворчество Хлебникова как «совершенно особое явление» в мировой культуре: «Это не эстетически преображенные тени, эхо мифов и архетипов, не «ало гичная логика мифа», осознавшая, что она существует наряду с логикой понятийного мышления - и действующая там, где их предметы не соприкасаются. В созданиях Хлебникова мифотворчество развертывается во всей архаичной силе и тотальности как единственно возможное осмысление мира, как логический (т.е; алогичный с точки зрения бытовой: и понятийной логики) и эстетический (т.е. внеэстетичный с точки зрения классической эстетики) метод» . Эстетическим следствием мифотворческого метода Хлебникова стала «его внеполож-ность огромной традиции — не частной традиции академической или натуралистической школ, которую низвергали авангардные течения, а всему послере-нессансному искусству с его задачами овеществления творчества в законченных произведениях, с законом «органического единства» вещи...»59. Р.В1 Дуга-нов полагает, что центральной мифологемой всего творчества Будетлянина является его теория слова: «Слово есть выражение мира и поэтому оно не просто рассказывает о мире, но самой своей структурой изображает мир, оно изоморфно слову. Слово, собственно, и есть сам мир с точки зрения его осмысленного выражения. Но что такое этот бесконечный, разнообразный и единый мир, включающий в себя и живое, и не живое, и человека, и общество, и природу, содержащий в себе все, что было, и все, что будет, и все, что только можно вообразить; что такое этот мир, понятый, осмысленный и выраженный в слове? Очевидно, это и есть не что иное, как миф. И такое «чистое», «самовитое», абсолютное слово есть слово мифопоэтическое. Мифопоэтическое слово является выражением единства и полноты мира»60.
Гораздо меньше внимания уделялось вопросу о роли стихии фольклора в становлении поэтики Хлебникова (хотя впервые этот вопрос был поднят в фундаментальной работе P.O. Якобсона«Новейшая русская поэзия»). А.В. Гарбуз и В.А. Зарецкий справедливо отмечают: «Процесс словотворчества и мифотворчества издревле запечатлевался в фольклоре. Быстро нарастающее сближение с фольклором — характерная черта развития русской литературы начала нашего века: книжное искусство слова овладевает многими из тех возможностей художественного освоения мира, которые давно уже осуществлялись в устном на родном творчестве, но литературе оставались чуждыми. Участие Хлебникова в освоении фольклорного художественного опыта весьма значительно, но исследовано явно недостаточно»61. Речь идет об отдельных публикациях; в обширном списке литературы о Хлебникове нет ни одной монографии, посвященной русским фольклорным традициям в поэзии и прозе Будетлянина. Н. Степанов в панорамном обзоре жизни и творчества Хлебникова ограничивается довольно общими и нередко спорными замечаниями: «Фольклорные образы, песенные ритмы и мелодии, фольклорные эпитеты и параллелизмы - входят в поэтическую систему Хлебникова. Самое восприятие действительности, ее мифологическое осознание, система поэтических образов, песенные ритмы, обилие диалектизмов — все это сказывается на различных этапах творчества Хлебнико-ва» . Примеров подобной стилизации (использования характерных ритмов, синтаксических конструкций, эпитетов и т.д.) автор практически не приводит (на самом деле в поэзии Будетлянина их очень мало). Впрочем, Степанов склоняется к мысли, что Хлебникова следует выделить из ряда многочисленных «собирателей и интерпретаторов» народных сказаний: «Пользуясь структурными принципами фольклора, он создавал свои собственные мифологемы»63. Некоторые велимироведы рассматривают данный вопрос в контексте общей установки русского авангарда на «карнавалыюсть»64 и возрождение элементов «примитивных культур»: «Художественная практика раннего русского авангарда развивалась под знаком «воскрешения». Заново открывается лубок, икона, храмовая архитектура, пластика африканских скульптур, словам и краскам возвращается их первозданная образность и самоценность. В динамике футуристического карнавала реализуется - в значительно трансформированном виде — и символистская мечта о всенародной мистерии. Здесь сомкнулись традиции народного театра, древнейшая мифология и напряженный эксперимент»65.
Наиболее обстоятельно проблема влияния словесных жанров русского фольклора на поэтику Будетлянина рассматривается в статье X. Барана «Фольклорные и этнографические источники у Хлебникова»66. Американский исследователь выдвигает гипотезу о преобладающем воздействии малых жан фольклора на произведения Хлебникова. В качестве доказательства проанализирован ряд примеров обращения поэта к паремиям - от простого цитирования отдельной пословицы, поговорки или приметы до крайне сложных случаев, когда художественный текст в значительной мере насыщен паремиологи-ческими единицами. Что же касается основных, или центральных, фольклорных жанров (сказки, былины, плачи), то они, по мысли X. Барана, не имели для поэта большой значимости: «По-видимому, русские эпическая и сказочная традиции казались Хлебникову слишком условными, слишком литературными и знакомыми, чтобы вписаться в его модель мира, ориентированную на целое множество культур»67. В последующих публикациях на эту тему X. Баран продолжает анализ воздействия паремиологических жанров на поэтику Хлебникова, а также рассматривает данную сторону творчества поэта в более широком литературном контексте, в том числе сопоставляя его приемы с художествен-ной практикой писателей нового времени .
Необходимо признать, что позиция X. Барана подкрепляется результатами работ некоторых отечественных исследователей. M.JI. Гаспаров обнаруживает следы присутствия в драматургии Хлебникова одного из малых жанров «детского фольклора». Пьеса «Боги», по его мнению, «есть не что иное, как исполински разросшаяся считалка, большая форма считалочного жанра, относящаяся к обычным считалкам, как поэма к маленькому стихотворению»69. В работах Л.В. Евдокимовой говорится о загадке (еще один паремиологический жанр) как архетипе творчества Хлебникова . Н.Н. Перцова и А.В. Рафаева отмечают ряд примеров использования сказочных мотивов в текстах поэта, тем "71 самым «подвергая корректировке» гипотезу X. Барана . Однако обращение Велимира Хлебникова ко всему комплексу эпических жанров русского фольклора (былинам, волшебным сказкам, историческим песням) осталось в стороне от основных направлений научного поиска: Это обстоятельство находится в явном противоречии с тенденцией рассматривать творчество Будетлянина как эпическое по своей природе и стремящееся к эпическому жанровому воплощению.
Таким образом, в современном велимироведении можно констатировать наличие проблемы, связанной с определением приоритетов Велимира Хлебникова в области фольклора: основное внимание исследователей сосредоточено на выявлении многочисленных связей хлебниковских текстов с произведениями малых жанров русского фольклора, а влияние крупных эпических жанров практически игнорируется.
Соответственно объектом исследования является совокупность художественных текстов и программно-теоретических статей Хлебникова, предметом — преемственность традиций эпических жанров русского фольклора в художественном творчестве Велимира Хлебникова:
Актуальность исследования определяется потребностью привлечения, материала эпических жанров русского фольклора для выявления источников поэтики Хлебникова, интерпретации его произведений, определения историко-генетических связей его творчества с русской фольклорно-мифологической традицией.
Цель работы состоит в изучении влияния традиций эпических жанров русского фольклора на творчество и мировоззрение Велимира Хлебникова. В соответствии с основной целью исследования, в диссертации решаются следующие задачи .
? рассмотреть вопрос о приоритетах В: Хлебникова в области фольклора и определить факторы, свидетельствующие о влиянии героического эпоса, исторических песен, волшебных сказок на его творчество;
? выявить различные формы присутствия эпического материала в художественных и программно-теоретических текстах Будетлянина;
? охарактеризовать роль эпических жанров русского фольклора (собственно материала и принципов текстообразования) в формировании и развитии поэтической системы Хлебникова;
? раскрыть особенности художественной и культурно-исторической интерпретации эпического материала в произведениях Хлебникова;
определить, по возможности, круг источников, которыми пользовался Хлебников: как фольклорных (сборники и публикации записей), так и литературных (различные интерпретации былин, сказок, исторических песен в произведениях русских классиков и писателей «серебряного века»).
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена:
? рассмотрением художественного и теоретико-публицистического наследия Велимира Хлебникова в контексте эпических жанров русского фольклора (на материале таких жанровых структур, как волшебная сказка, героические былины, исторические песни);
? выявлением генетических связей и типологических соответствий поэтической системы Хлебникова с народно-эпической традицией;
? пересмотром традиционной точки зрения, теоретически обоснованной в статье американского велимироведа X. Барана «Фольклорные и этнографические источники поэтики Хлебникова» (1986), согласно которой периферия фольклора (малые жанры) имела для Хлебникова большую значимость, чем центральные жанровые структуры (в частности, героический эпос и сказки);
? использованием фольклорно-эпического материала для прояснения «темных мест» и выявления общих принципов композиции в произведениях В: Хлебникова;
? изучением воздействия традиций русских былин и сказок на новую жанровую форму «сверхповести», разработанную Хлебниковым (на примере таких произведений, как «Дети Выдры» и «Зангези»);
? определением сущностных качеств и формальных свойств «сверхповести» как разновидности художественного цикла.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его теоретические обобщения могут быть востребованы при дальнейшем изучении поэтики литературы серебряного века, в частности - произведений В. Хлебникова. Предложенные в диссертации способы и приемы анализа поэтического текста могут найти применение при исследовании проблемы «литература и фольклорная традиция», прежде всего при изучении воздействия фольклорно-мифологической традиции на творчество писателей Нового времени.
Практическая значимость выполненного исследования состоит в том, что материалы диссертации могут быть использованы в школьных и вузовских курсах, спецкурсах и семинарах по русской литературе конца XIX — начала XX вв., фольклористике и истории литературы.
Теоретико-методологической основой диссертационного исследования послужили, с одной стороны, работы известных велимироведов, как отечественных (Ю.Н. Тынянов, P.O. Якобсон, Вяч. Вс. Иванов, Н: Харджиев, Р.В. Дуганов, В.П. Григорьев, А.Е. Парнис, Н.Л. Степанов, П.И. Тартаковский, А. Гарбуз, М.Л. Гаспаров, Н. Башмакова, О. Седакова и многие другие), так и зарубежных (X. Баран, Р. Вроон, Б. Леннквист, Р. Кук, А. Флакер, А. Хан, Л. Си- лард).
С другой стороны, мы опираемся на исследования в области мифопоэти-ки, фольклористики, взаимосвязей литературы и фольклорной традиции, где важными для нас становятся фундаментальные сочинения А.Н. Афанасьева, А.Н. Веселовского, М. Бахтина, Е.М. Мелетинского, В;Я. Проппа, Д.Н. Медри-ша, Б.Н. Путилова, СЮ. Неклюдова, В.Н. Топорова, О.М. Фрейденберг, Е.С. Новика и других.
При анализе произведений В. Хлебникова мы исходим из положения о мотивированности его текстов и наличии в них семантической структуры. На -наш взгляд, метод «широких контекстов», рассматривающий все творчество Велимира Хлебникова (художественное, философское, научное, публицистическое) в виде единого метатекста, пронизанного внутренними связями, не потерял актуальности, более того — является наиболее перспективным (в сочетании с мифопоэтическим подходом).
Методика исследования определяется историко-типологическим подходом (в сочетании с элементами структурно-семиотического метода) к явлениям словесного искусства.
На защиту выносятся следующие положения:
1) Центральные жанровые структуры русского фольклора (сказки, былины, исторические песни) оказали значительное влияние на формирование поэтической системы Хлебникова, что подтверждается следующими фактами:
? наличие ряда теоретических и публицистических работ, в которых автор проявляет очевидный интерес к эпическим жанрам русского фольклора;
? явные следы присутствия русских былин, сказок, исторических песен в образной системе хлебниковских произведений;
? самоотождествление автора с образом эпического героя (или «воином будущего», «воином времени»);
? обращение Хлебникова на раннем этапе творчества к славянской мифологии, эпосу, истории.
2) Преемственность традиций русского историко-песенного фольклора в творчестве В. Хлебникова определила ряд особенностей поэтики его произведений (использование ряда народно-эпических сюжетов, мотивов и образов).
3) Связи раннего творчества Хлебникова с русской волшебной сказкой проявляются на различных уровнях его поэтической системы (сюжетно-композиционном, идейно-тематическом, мировоззренческом).
4) Материал русских народных сказок и героических былин активно использовался Хлебниковым при работе над новой жанровой формой «сверхповести»:
? концептуальной основой «сверхповести» «Дети Выдры» стал былинный сюжет о смерти Святогора;
? «итоговое» произведение В. Хлебникова «Зангези» создавалось под влиянием эпических жанров русской народной смеховой культуры.
5) С точки зрения сущностных (содержательных) качеств «сверхповесть» можно отнести к категории онтологических жанров, тяготеющих к философ- ско-экзистенциальной проблематике и широким обобщениям действительности; с точки зрения формальных (структурных) свойств «сверхповесть» представляет собой разновидность художественного цикла с характерными признаками: общность темы, наличие единой сюжетной линии, сквозные образы главных героев, система взаимопересекающихся лейтмотивов, «цикличный» хронотоп.
Апробация работы: фрагменты глав данного исследования представлялись в качестве докладов на научных конференциях в Астраханском государственном университете. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры русской литературы XX века АТУ. Основные положения диссертации отразились в публикациях:
1) Лупеев Д.Е. Формы присутствия русского народного эпоса в «сверхповести» В. Хлебникова «Зангези» // Итоговая научная конференция АГПУ. Тезисы докладов. Астрахань, 2001. С. 22.
2) Лупеев Д.Е. Мотивы и образы русских народных исторических песен в творчестве В. Хлебникова // Итоговая научная конференция АГПУ. Тезисы докладов. Астрахань, 2002. С. 30.
3) Лупеев Д.Е. Художественная концепция «сверхповести» «Дети Выдры» и былинный сюжет о Святогоре // Итоговая научная конференция АГУ. Тезисы докладов. Астрахань, 2003. С. 25.
4) Лупеев Д.Е. «Поэтический» комплекс моря у Тредиаковского и Хлебникова // В.К. Тредиаковский и русская литература ХУШ-ХХ вв.: Материалы Международной научной конференции 5-6 марта 2003 г. / Под ред. Г.Г. Исаева. Астрахань: Изд-во Астраханского государственного ун-та, 2003. С. 118-121;
5) Лупеев Д.Е. «Сверхповесть» Велимира Хлебникова «Зангези» в контексте русской народной смеховой культуры // Творчество Велимира Хлебникова в контексте мировой культуры XX века: УШ Международные Хлебников-ские чтения. 18-20 сентября 2003 г.: Научные доклады и сообщения. Астрахань, 2003. Ч. I. С. 97-102.
Структура работы.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, а также списка литературы, который насчитывает 411 наименований.
Мотивы и образы русского историко-песенного фольклора в творчестве В. Хлебникова
Историзм давно признан характерной чертой творчества В. Хлебникова. Стремление поэта «изобразить дух времени краской слова» обусловило его интерес к историко-эпическим жанрам русского фольклора (былинам, историческим песням, балладам).
Очевидно, что «сверхповести», поэмы, стихотворения, проза, программные статьи Хлебникова насыщенны фолыслорно-историческим материалом. Имена Владимира и Мамая, Марии Мнишек и Петра, Степана Разина и Пугачева «включены в действие и играют роль своеобразных символов исторического времени» . Представляется возможным выделить ряд эпических сюжетов XVI-XVIII вв., использованных поэтом-будетлянином: «Гибель полонянки», «Разин и персидская княжна», «Князь Роман жену терял», «Иван Грозный и Домна», «Гнев Ивана Грозного на сына» и др.
Образ Степана Разина является одним из центральных в творчестве Хлебникова и подвергается различным культурно-историческим и психологическим интерпретациям: от «отца свободы дикой» («Уструг Разина»), который «полчищем вытравил память о смехе» («Дети Выдры») до «юноши-пустынника», «мальчика-отшельника с тихими задумчивыми глазами», зеркального двойника самого поэта («Две Троицы. Разин напротив»). Вокруг этого образа складывается целый цикл поэм («перевертень» «Разин», «Песнь мне», «Хаджи-тархан», «Ладомир», «Ночной обыск», «Тиран без Гэ», «Уструг Разина»), лирических стихотворений («Мои лоходы», «Я видел юношу-пророка», «Пасха в Энзели», «Ра - видящий очи свои», «Обед»), художественной прозы («Есир», «Две Троицы. Разин напротив»). Работая над этим своеобразным «ра-зинским циклом», автор ориентировался в гораздо большей степени на фольклорную традицию исторических песен, преданий, легенд, былин, чем на исто-рико-документальные свидетельства о Разине. Легендарный предводитель крестьянского восстания приобретает в творчестве Хлебникова (как ив фольклоре) статус мифологического персонажа, иногда контаминируется с образами Вещего Олега, Пугачева, Тараса Бульбы и даже Христа.
Можно выделить несколько этапов эволюции образа Степана Разина в поэмах и лирике Хлебникова. Самый ранний этап был отмечен «романтизацией» Разина и «стихийного мужицкого бунта», в чем, по мнению Н. Степанова, «сказались своеобразные народнические тенденции в русском футуризме» . Эти тенденции наиболее ярко проявились в творчестве В. Каменского, в 10-х годах работавшего над романом и поэмой о Разине, фрагмент которой «Сарынь на кичку» был опубликован с посвящением В, Хлебникову в 1916 г. («но читался на вечерах значительно раньше»34):
Сарынь на кичку. Ядреный лапоть Пошел шататься по берегам. Сарынь на кичку. Казань-Саратов. В дружину дружную На перекличку На лихо лишнее врагам35. В отличие от Каменского, Хлебников избегал откровенных стилизаций «под фольклор». «Разинская» тематика привлекала Будетлянина не возможностью блеснуть познаниями в области народной фразеологии, а потребностью выразить дух древней, «языческой» Руси, какой она представлялась автору. «Идеализированное прошлое славян, «золотой век» простых незамысловатых чувств, героика и патриотизм противопоставляются современной действительности, которая трактуется с иронией или открыто враждебно. Великое прошлое населено героями, которые, по замыслу поэта, воплощают врожденные добродетели славян (приверженность традициям предков и готовность умереть за их наследие)» . Так, в сверхповести «Дети Выдры» (1911-1913) Разин появляется в окружении таких легендарных деятелей русской (точнее, славянской) истории, как Святослав, Пугачев, Самко, Ян Гус, Ломоносов, Коперник, Волынский. Все они внесли свой вклад в становление государственности славянских народов, были славянскими просветителями или пали жертвами борьбы с иноземными (главным образом, западными) влияниями. В поэме «Хаджи-Тархан» (1913), представляющей компиляцию исторических и мифических преданий о прошлом Астраханского края, темы «разинской вольницы» и «пугачевского бунта» также сопряжены с идеей народного сопротивления «онемечиванию»: Мила, мила нам пугачевщина, Казак с серьгой и темным ухом. Она знакома нам по слухам. Тогда воинственно ножовщина Боролась с немцем и треухом. {Творения, с. 246) Образ Разина становится своеобразным alter ego раннего Хлебникова, занимавшего позицию «воинствующего футуриста», непримиримого защитника древних традиций, о чем прямо заявляется в неопубликованной при его жизни поэме «Песнь мне» (1911):
Традиции русской волшебной сказки в ранних поэмах Хлебникова
Есть основания предполагать, что исключительное воздействие на формирование творческого метода В. Хлебникова оказала русская волшебная сказка. Еще Ю.Н. Тынянов отмечал, что «языческая сказка - первый эпос Хлебникова», поскольку «в самые ответственные моменты эпоса - эпос возникает из сказки», и проводил аналоги между ранними поэмами Хлебникова и произведениями ХЕХ века, созданными под влиянием сказочной поэтики («Руслан и Людмила» Пушкина, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова)1. Согласно утверждению Н. Степанова, «для поэзии Хлебникова характерна сказочность» . Правда, исследователь не уточняет, какие именно жанровые или стилистические признаки сказки оказали влияние на поэзию Хлебникова, но лишь указывает на связь сказки с мифологией: «Сказка связана с мифами в сюжетном отношении, нов ней уже забыт первоначальный мифологический смысл самого сюжета. В своем бытовании она пользуется этими сюжетными формами вне их мифологического и культового значения. У Хлебгонсова сказочная фантастика и мифология также утеряли свой мистический и культовый характер, стали своеобразной формой поэтического мышления»3. Вряд ли можно считать фантастику единственным признаком сказочности: «Хотя распространенное мнение о том, что волшебная сказка среди других сказочных жанров наиболее фантастична, вполне справедливо, оно далеко еще не выражает специфики необыкновенного в этом жанре: специфика эта требует не столько количественной, сколько качественной характеристики»4.
Прежде чем приступить к непосредственному поиску следов сказочной поэтики в текстах Будетлянина, необходимо уточнить, что сам Хлебников понимал под сказкой (в чем видел наиболее существенные признаки этого жанра) и как понимает специфику волшебной сказки современное литературоведение. Как уже отмечалось, сейчас трудно с достаточной уверенностью определить, на какую традицию в изучении фольклора опирался Велимир Хлебников. Однако можно обратиться к его статье «О пользе изучения сказок», написанной, по мнению Н.Л. Степанова, в 1914 или 1915 году. На первый взгляд, по объему и глубине освещения вопроса эта статья представляет собой скорее фрагментарную заметку и не идет ни в какое сравнение, скажем, с работой А. Блока «Поэзия заговоров и заклинаний». Однако содержание статьи наводит на мысль, что изучение сказок имело для Хлебникова принципиальное значение, поскольку было напрямую связано с предсказанием будущего — «осадой времени», которую он вел на протяжении всей жизни: «Тысячелетие, десятки столетий будущее тлело в сказочном мире и вдруг стало сегодняшним днем жизни. Провидение сказок походит на посох, на который опирается слепец человечества» (Творения, с. 594). Сказочные образы являются, по мысли автора, ничем иным, как интуитивным прозрением юного человечества о своем будущем: «Так в Сивке-Бурке-вещей-каурке он предсказал железные дороги, а ковром-самолетом - реющего в небе Фармана» (Творения, с. 594). Генетическая связь волшебной сказки с научной фантастикой у современных исследователей сомнения не вызывает, и все же «сближать, а тем более отождествлять сказочные чудеса с научным предвидением не следует. Угадывание каких-либо конкретных научных открытий будущего не входит в прямые функции сказки, это результат непредвиденный и непроизвольный»6 (Д.Н. Медриш). Кроме прогностической функции сказочной фантастики, Хлебников отметил и ее утопичность (ср. вывод Д.Н. Медриша: «Сказка - веками выработанная форма, иде-ально приспособленная для выражения утопических представлений о жизни» ). Утопичность сказочных образов подчеркнута их сопоставлением с учением «о едином роде людей, слиянии всех государств в общину земного шара» (еще одна из ключевых идей Хлебникова). Единое человечество олицетворяют эсхатологические образы «Масиха аль Деджаля, Сака-Вати-Галагалайама или Антихриста», заимствованные из различных религиозных и мифологических систем и приобретающие у Хлебникова неожиданно положительную семантику (ср. повесть «Ка», где образы великих искусителей человечества - Масиха аль Дед-жаля и Антихриста- снова сближаются8).
О том, что выраженные в данной статье идеи продолжали оказывать влияние на автора и в более поздние периоды его творчества, свидетельствует стихотворение «Иранская песня» (1921), где воспроизведены и сказочные мотивы, и основная мысль статьи, облеченная в афористическую форму:
Ходит в небе самолет Братвой облаку удалой. Где же скартерь-самобранка, Самолетова жена? Иль случайно запоздала, Иль в острог погружена? Верю сказкам наперед: Прежде сказки - станут былью... {Творения, с. 141) Две последние строки поразительно напоминают известную сказочную формулу «что было сказано - будет сделано» и заставляют вспомнить о том, что природа и культура представлялись Хлебникову в виде текста, где действовали те же законы модальности, что ив сказке: «Одно из центральных в мировосприятии Хлебникова представлений о мире как книге, возможно, связано с приравниванием познания к чтению, когда «название» вещей рассматривается одновременно и как акт творения, переименование же - как перевоплощение и перерождение»9. Разумеется, безусловная вера автора сказочному слову, первоначально подкрепленная поразительными метаморфозами революционной действительности, постепенно переходила в горькую иронию. Уже в «Иранской песне» эта вера сталкивается с мыслью о недостижимости идеала в ближайшем будущем («Или все свои права // Брошу будущему в печку?»), а в поэме«Ночной обыск» народный идеал «жирного царства» (Садись, братва, за пьянку! За скатерть-самобранку») явно дискредитирован.
Композиционный принцип двоемирия в ранних пьесах В. Хлебникова
Сказочного героя при встрече со змеем также подстерегает опасность сна, засыпания. Этот сон - наваждение. «Царевич стал по мосту похаживать, тросточкой постукивать, выскочил кувшинчик и начал перед ним плясать; он на него засмотрелся и заснул крепким сном». Ложный герой засыпает, истинный герой - никогда: «Отправился Иван-царевич на дозор, залез в кусты и крепко заснул. Иван Быкович на него не понадеялся; как пошло время за полночь — он тотчас готов был, взял с собой щит и меч, вышел и стал под калиновый мост»58.
Змей в поэме ассоциируется с конем («Сгибали тело чудовища преемственные мига, // То прядая кольцами, то телом коня, что встал, как свеча. // Ка-салися земли нескромные вериги», «Наместник главы, зияла раскрытая книга, // Как челка лба на скакуне»), его сопровождает ворон («Власам подобную читая книгу, попутчик // Сидел на гаде, черный вран, // Усаженный в концах шипами и сотнями жучек»). Ср. типическое описание змея в сказке: «Вдруг на реке воды взволновалися, на дубах орлы раскричалися - выезжает чудо-юдо девяти-главое; под ним конь споткнулся, черный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ощетинился» .
Атрибуты змееборца в сказке и эпосе — конь и меч. Герой поэмы этих атрибутов лишен, однако меч упоминается при описании змея («И пасть разинута была, точно для встречи меча»), а в эпиграфе возникает образ конного богатыря: «Посвящается охотнику за лосями, павдинцу Попову; конный, он напоминал Добрыню. Псы бежали за ним, как ручные волки. Шаг его — два шага простых людей». Кроме того, в поэме действует еще один персонаж — «товарищ», спутник «змееборца», прототипом которого обычно считают брата В. Хлебникова, с которым была совершена поездка в Павду в 1905 году60 (ср. Алешу Поповича и Екима Парубка в былине «Тугарин Змеевич»).
Традиционный змееборческий сюжет включает в себя два элемента: 1) бой со змеем; 2) погоня змеихи и попытка проглотить героя, убийцу ее зятя или сына. У Хлебникова первый элемент присутствует только как нереализованная возможность, схема, но реализован второй элемент - «бегство». Создается впечатление, что автор возвращается к истокам мотива змееборчества, поскольку «мотив змееборства возник из мотива поглощения и наслоился на него»61. Змей-поглотитель первоначально мыслился как благой змей, податель магических способностей, а обряд «поглощения» входил в систему инициации. Мыслительная основа этого обряда заключается в том, что «еда дает єдиносущне со съедаемым. Чтобы приобщиться к тотемному животному, стать им и тем самым вступить в тотемный род, нужно быть съеденным этим животным» .
Исследователи отмечали неопределенность пространственного сосредоточения происходящего в поэме (герои видят змея со стороны и в то же время находятся внутри него). Это позволяет предположить, что поэма в целом воспроизводит структуру обряда инициации, лежащего в основе сказки: герой поглощается, затем в желудке поглотителя переносится в другую страну и там выхаркивается или вырезывает себя («Тогда, доволен сказки остановкой, // Я выпрыгнул из поезда прочь»). Но в таком случае традиционная схема змеебор-чества сознательно отвергается автором, который обращается к более глубокой мифологической основе.
Как известно, змей имеет связь не только со смертью, но и с рождением: «Змей здесь представляет материальное начало, чрево. Не забудем, что при обряде выход из чрева змеи представлялся вторым рождением; собственно рождением героя»63. Если же змей фигурирует как отец или предок, то символика материнского чрева заменяется фаллической символикой. В любом случае, герой сказки изначально является сыном змея и его двойником: «Змееборец исконно - сын змея. Именно потому он один способен змея одолеть»64.
Есть ли в тексте поэмы прямые или косвенные указания на «двойничест-во» героя и змея? По мнению С. А. Ланцовой, в текст поэмы вкраплены намеки на «єдиносущне героя и чудовища». Одним из наиболее убедительных доказательств этого «единосущия» является прямое соотнесение змея с конем: «На мифологическом уровне подобная метаморфоза восходит к одному и тому же фонду народных зооморфных представлений громовой стихии быком (туром), конем и огненным змеем»6 . В то же время с образом коня, который «представляется едва ли не самой «невралгической» точкой мира поэмы», связан пучок других, не менее значимых, ассоциаций: 1) конь соотнесен с глубинной сущностью героя, покоящимся в нем богатырством (ср. эпиграф); 2) конь символизирует в каком-то смысле Логос, слово как таковое и в культурной традиции (Пегас — аллегория поэзии), и в контексте поэмы («раскрытая книга» сравнивается с «челкой лба на скакуне»); 3) конь идентифицируется с самим поэтом66.
Итак, герой через замкнутую цепочку ассоциаций соотносится непосредственно со змеем, являясь как бы его отражением, «двойником», и к тому же выходит на свет из змеиного чрева, что можно рассматривать как метафору рождения. Но, как отмечает В.Я. Пропп, русская сказка не сохранила мотива рождения от змея или поглощения змеем как блага. Зато она «сохранила другую форму: рождение от рыбы. И, действительно, можно заметить, что именно рожденный от рыбы чаще всего есть змееборец»67. Возможно, этим обстоятельством можно объяснить наличие «рыбьих» черт, которыми наделены змей и его «попутчик» в поэме: «Почудилось, что жабры // Блестят за стеклами в тени», «Разнообразные людские моры// Как знаки жили в чешуе», «...попутчик // Сидел на гаде, черный вран, // Усаженный в концах шипами и сотнями жучек».
Былинный сюжет о Святогоре и художественная концепция «сверхповести» «Дети Выдры»
Обращение к новой жанровой форме было обусловлено прежде всего масштабом поставленной автором перед собой задачи («постройка общеазий-ского сознания в песнях»), реализованной в «сверхповести» «Дети Выдры». Источником вдохновения для Хлебникова, по его собственному признанию, послужили предания сибирского племени орочей: «В «Детях Выдры» я взял струны Азии, ее смуглое чугунное крыло и, давая разные судьбы двоих на протяжении веков, я, опираясь на древнейшие в мире предания орочей об огненном состоянии земли, заставил Сына Выдры с копьем броситься на солнце и уничтожить два из трех солнц — красное и черное» {Творения, с. 36). X. Баран полагает, что в своей обработке мифологических мотивов орочей Хлебников основывался на монографии В.П. Маргаритова «Об орочах императорской гавани», где собраны уникальные сведения о культуре и традициях «амурского племени» . Миф об уничтожении двух солнц, образы Выдры - «Матери Мира», ее сына и дочери (прародителей человечества), явно заимствованы из космогонических преданий, приводимых в монографии Маргаритова. Круг научных и художественных источников, «вмонтированных» в текст «сверхповести», по-видимому, достаточно широк. В «Детях Выдры» использован материал иранской эпической поэзии (Низами) , греческой; мифологии; содержатся аллюзии на поэму Пушкина «Кавказский пленник», повесть Гоголя «Тарас Бульба» и т.д. Но концептуальной основой произведения, на наш взгляд, является известный былинный сюжет о смерти богатыря Святогора, переосмысленный В: Хлебниковым. Это становится очевидным при обращении к программно-теоретическим статьям поэта, предшествовавшим написанию «сверхповести».
В статье «Курган Святогора» (конец 1908) Хлебников впервые использует мотив из былины о смерти в каменном (или дубовом) гробу богатыря Святогора, передавшего свою силу младшему «названному брату» Илье Муромцу. Непосредственно в тексте статьи этот мотив переплетается с фактом геологической истории — отступлением северного моря (ледника) с европейской части России, которая; впоследствии была заселена народами-предками восточных славян:
«Отхлынувшее море не продышало ли некоего таинственного, не подслушанного никем третьим, завета народу, восприявшему в последний час, сквозь щель времового гроба, восток живого духа, распятого железной порой воителя? Народу, заполнившему людскими хлябями его покинутое, остывающее от жара тела первого воителя ложе, осиротелый женственно мореем?» {Творения, с. 579).
Хлебников создает собственный миф, отождествляя отступившее море с титаническим образом «северного воителя», а морское дно, или северную равнину - с его Вдовой или Женой (аналог матери-сырой земли в русском фольклоре). Русские унаследовали жену и ложе исчезнувшего богатыря, а также его облик: «Своими ласками передала нам Вдова лик первого и милого супруга; Щедро расточаемыми ласками создала кумир целящий. Так мы насельники и. наследники уступившего нам свое ложе северного моря» (Творения, с. 579).
Однако с течением времени живая связь народа и матери-земли нарушилась, и наследники «северного воителя» попали под влияние «чужих голосов», т.е. культурного влияния Запада: их уста молчат, «зачарованные злой волей соседних островов» или вторят «крику заморских птиц». Для Хлебникова актуально противопоставление «материкового» (т.е. русского) и «островного» (европейского) сознания: «Должно ли нам. нести свой закон под власть воспринявших заветы древних островов?». Современная русская литература («славо-ба») находится под властью «злых, но сладких чар» еще со времен «великого Пушкина», которому автор бросает упрек в измене «звучащим числам бытия народа». Хлебников предчувствует, заклинает и приветствует появление того, кто разорвет эти «злые чары» («злые чары» и «крики заморских птиц» - явные аллюзии на поэтические сборники К.Д. Бальмонта, представляющие собой попытки стилизации под русский фольклор59).
Статья-проповедь завершается призывом вернуть русскую культуру к изначальному состоянию, когда она, по мнению Хлебникова, была свободна от чужеродных влияний и проникнута подлинно народным духом:
«О, станем же верны морскому супругу Жены, нашему прообразу, совооруженному с нами латами - море, конем - тысячелетний ропот, щитом - водянистость существа. Он же вдохнул в нас дыхание иной поры, поры иных могачей, богачественной иной мощью. Вдова ваяет в нас лик: пред ее волей мы должны преклониться». {Творения, с. 582)
Здесь образ Святогора и связанный с ним былинный мотив использованы автором «для утверждения собственной позиции в теоретических построениях и в полемике» (Х.Баран). «Курган Святогора» воспринимается в контексте неославянофильских идей автора, который накануне первой мировой войны приходит к мысли о болезненном состоянии современной ему русской культуры и в ряде произведений развивает идеи возрождения древних, языческих традиций (драмы «Снежимочка» и «Аспарух», шуточная поэма «Внучка Малуши», рассказ «Велик-день» и др.) В дальнейшем мотив передачи жизненного дыхания, жизненной силы лег в основу новой культурно-исторической концепции Хлебникова, несколько раздвинувшей рамки его «языческого традиционализма».
В программной статье «О расширении пределов русской словесности» (1913 г.) Хлебников сетует на «искусственную узость» русской литературы, составляя перечень областей, «которых она мало или совсем не касалась». Сюда входят малоизвестные области русской истории («В промежутках между Рюриком и Владимиром или Иоанном Грозным и Петром Великим»), полузабытые вожди и герои («Само, первый вождь славян, современник Магомета», «Управда как славянин или русский (почему нет?) на престоле второго Рима»), культурные традиции южно- ш западно-славянских народов («Удивительный быт Дубровника..., с его расцветом», «Рюген, с его грозными божествами, и загадочные поморяне, и полабские славяне»), наконец, географические просторы западнее Австрии и восточнее Урала. Но главное, что знаменует переход Хлебникова от «славянского традиционализма» к позиции «поэта-международника» - это пробудившийся интерес к реалиям быта и культурным традициям наро дов, не относящихся к славянскому ареалу: «Она не знает персидских и монгольских веяний, хотя монголо-финны предшествовали русским в обладании землей. Индия для нее какая-то заповедная роща», «плохо известно ей и существование евреев». Восток (пока еще только азиатский) начинает властно притягивать внимание поэта-будетлянина, для которого все более актуальным становится вопрос о включенности славяно-русской культуры в контекст азиатской, и все более отчетливо проявляются связи преемственности между русскими и народами, населявшими материк задолго до легендарных времен Рюрика.