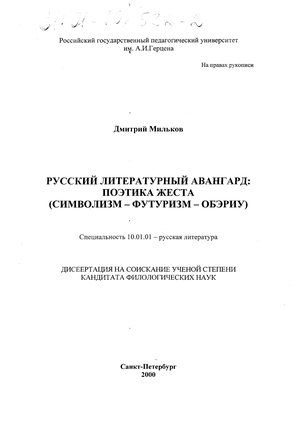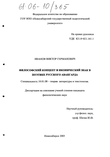Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА Первая. Русский символизм: от слова к молчанию 17
ГЛАВА Вторая. Русский футуризм: молчание зауми 37
ГЛАВА Третья. Обэриу: поэтика жеста 57
Заключение 73
Список использованной литературы 94
Введение к работе
Цель данной работы - определение и анализ феномена поэтики жеста как одного из основополагающих свойств русского литературного авангарда первой половины XX века.
Предметом исследования служат три направления русской литературы первой половины XX века: символизм, футуризм и ОБЭРИУ. Данные направления выбраны предметом исследования как исторически и концептуально связанные с развитием русского литературного авангарда, как представляющие, в определенном смысле, его преддверие, расцвет и итог, а также как наиболее ярко являющие нам, по мнению автора работы, поэтику жеста и ее наиболее характерные проявления.
Основной ход исследования представляет собой анализ представляющих феномен поэтики жеста и связанных с поэтикой жеста особенностей в поэтике символизма, футуризма, ОБЭРИУ (анализ причин возникновения данных особенностей, а также их характеристика в контексте общих характеристик каждого из названных направлений); утверждение данных особенностей как именно поэтики жеста; уточнение общей характеристики и разнообразия форм поэтики жеста на примере ее проявления в символизме, футуризме, ОБЭРИУ; определение роли и значения поэтики жеста в контексте общей поэтики русского литературного авангарда первой половины XX века, на примере ее роли и значения в исследуемых направлениях; уточнение характеристики русского литературного авангарда первой половины XX века на примере роли и значения поэтики жеста для его формирования и развития.
Данное исследование является попыткой анализа свойств и тенденций русского авангарда, ранее малоизученных и в практически новом научном преломлении. Такое положение задает определенных характер исследованию: характер вступления в тему, предварительных подступов к возможным дальнейшим разработкам многих заявленных в данной работе проблем. Такое положение оправдывает широту охваченного материала, идущую порой в ущерб более локальному, концентрированному и углубленному анализу. Исследование жестовой природы авангардного текста способно, по мнению автора данной работы, существенно дополнить наши представления о русском авангарде первой половины XX века, его отдельных направлениях и авторах. Между тем, на данном этапе, уже само оправдание исследуемой темы, как объективно значимой, сама постановка тех или иных проблем в контексте поэтики жеста, само определение возможных контуров общей проблемы и возможных путей ее дальнейшего раскрытия являются достаточно важными.
Заявляя поэтику жеста как одно из наиболее характерных, типичных и основополагающих свойств русского литературного авангарда первой половины XX века, данное исследование претендует способствовать уточнению самого феномена русского литературного авангарда.
Несмотря на свою широту, эта задача представляется вполне актуальной и обоснованной. До сих пор понятие «авангард» («авангардизм», «авангардистское», «авангардное») по большей части остается невыясненным, туманным. До сих пор нет не только единства в толкованиях понятия «авангард» (это вполне естественно), но нет также и достаточной ясности в том, что же представляют собой по крайней мере наиболее яркие противоречия, каковы хотя бы наиболее основные из существующих взглядов. Одно из наиболее часто употребляемых связи с искусством XX века понятий по сей день остается одним из самых неопределенных. Русский авангард многолик. Явившись множеством направлений, школ, имен и, наконец, отдельных произведений, он полон противоречий даже внутри каждой школы, каждого имени. Символизм, футуризм, ОБЭРИУ и прочие направления русского экспериментального искусства первой половины XX века, в контексте которых развивалась история русского литературного авангарда, в определенной степени - абстракции. Между именами Андрея Белого и Вячеслава Иванова, Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова, Александра Введенского и Даниила Хармса, Валерия Брюсова, Бенедикта Лившица, Александра Туфанова, Ильи Зданевича, Игоря Бахтерева... -расстояния огромные. Многие из перечисленных авторов не раз переживали значительные перемены своего мировоззрения, перемены важнейших принципов своего творчества. Традиционные определения авангарда как новизны формы, искусства экспериментального, ломающего незыблемые в традиционном искусстве нормы, границы, предельно расширяющего «сектор свободы»1 в искусстве не кажутся достаточными для объединения данного многообразия. Почти «общим местом» стало признание того, что «авангард» -«понятие дискуссионное и многозначное»2, что «литературный авангард, как и наши представления о нем, крайне неоднороден»3, что по сей день «нет представления о его структуре в целом, нет принципиальной периодизации»4, что «можно обнаружить известную беспомощность в жизни этого понятия, не только в советском искусствознании, но и в западном»5.
Не имея своей целью дать какие-либо окончательные формулировки феномена русского литературного авангарда первой половины XX века, данная работа предполагает, что выявление, определение и анализ наиболее существенных свойств и тенденций русского литературного авангарда, к коим, по мнению автора, относится поэтика жеста, может способствовать выработке более определенных толкований феномена авангарда в целом, выработке определяющих его характеристик. Учитывая важную роль понятия «жест» и связанных с ним понятий «тело», «телесность» для характеристики современного литературного процесса, учитывая распространенность этих понятий в мировом литературоведении последних десятилетий, можно предположить, что анализ поэтики жеста и ее форм в русском символизме, русском футуризме, ОБЭРИУ будет способствовать также дальнейшему выяснению связей между русским литературным авангардом первой половины XX века и современной литературой.
При этом важно подчеркнуть, что под авангардом в данной работе понимается прежде всего не ряд литературных направлений, имен или произведений, а определенная система взглядов на цели, функции, задачи искусства; иными словами, творческая и мировоззренческая установка, «ситуация авангарда», а не следствия, которые, как мы видим в русском искусстве первой половины XX века, могут быть очень различны.
В первоначальном значении слова, avant-garde - та часть войска, что выдвигается вперед во время похода, когда неизвестно расположение противника, то есть граница между чужой территорией и той, что можно назвать «своею». Движение avant-garde а - всегда эксперимент, нарушение норм, границ, положенных ранее, сознательная трансформация того объекта, частью которого он является, трансформация во имя выяснения тех пределов, в которых объект остается самим собою. Исходя из самого слова, к авангарду в искусстве должно относить те явления, что рождены ощущением или предположением несоответствия границ, в которых находится современное им искусство (его цели и средства, отдельные его формы), реальной границе, за которой «своя» территория для искусства действительно заканчивается. Доля художественного эксперимента присутствует в очень многих произведениях искусства, определенное нарушение художественных канонов эпохи и новизна свойственны любому значительному художественному произведению, всякое новое творчество имеет своей целью противостоять естественному «изнашиванию» предшествующих художественных норм и приемов, а художественная эволюция есть внутренний закон искусства как такового («Нельзя творить в уже найденных формах»6; «История искусства, если мы рассматриваем ее с точки зрения эстетической нормы, предстает перед нами как история мятежей против господствующих норм»7). Однако, движение avant-garde а не просто производит какие-либо изменения внутри «своей» территории, оно изменяет сами ее контуры. Дело не только в том, что авангард особенно резко нарушает сложившиеся эстетические нормы; быть в авангарде искусства значит нарушать самые существенные, самые общие художественные законы эпохи. «Разрушение нормы, принявшее массовый характер к концу Серебряного века, началось во второй половине XIX века»8, - писал Александр Жолковский, однако свойственные авангарду нарушения границ превосходят всю некорректность предшествующего ему экспериментального творчества, разрушают общепризнанные основы искусства, возводят творческий эксперимент до степени художественного экстремизма (наличия в самом слове «авангард» конотации границы, края говорит об авангардном искусстве как искусстве принципиального экстремизма; экстремизм - от латинского extremus - крайний).
Avant-garde идет впереди, по направлению к линии фронта, идет в ожидании столкновения, идет с расчетом на столкновение, идет, чтобы выяснить границу «своего» и «чужого», чтобы являть эту границу собою во время похода, чтобы явить ее собою, когда столкновение произойдет. Быть в авангарде искусства значит быть на границе искусства и отдельных его форм, стремиться к пределу искусства, к заполнению всего возможного для искусства пространства. Попирающий положенные устои, нарушающий общепризнанные представления общества о самой сути феномена искусства, авангард граничит с областями, искусству не принадлежащими. Стратегия авангарда направлена вне искусства, за его пределы. Цель художественного авангарда - добраться до «чужой» территории и, если противник окажется слаб, ввязаться с ним в бой, чтобы, может быть, сделать эту территорию «своею» и двигаться дальше, к новым границам. «Чужой территорией» в данном случае является для художественного авангарда непосредственное бытие, границей - граница между словом и миром. Основополагающим принципом рассмотрения тех или иных явлений русской литературы в контексте проблематики авангарда является в данной работе характеристика «ситуации авангарда» как ситуации, предполагающей высокую степень конфликта между искусством и теми сферами бытия, на которые направлена его активность, конфликта между означающим и означаемым, между словом как средством выражения бытия и выражаемым бытием. Русский символизм, русский футуризм, ОБЭРИУ берутся в данном исследовании преимущественно в тех проявлениях, где мы можем говорить о наличии авангардной ситуации в описанном выше смысле. Рассматривая русский символизм, русский футуризм и ОБЭРИУ в контексте поэтике жеста, мы рассматриваем, с одной стороны, лишь общие настроения каждого из течений, связанные с изучаемой проблематикой, с другой стороны, лишь крайние, наиболее экстремальные, далекие от традиции их проявления. Безусловно, ни одно из названных направлений (символизм, футуризм, ОБЭРИУ) не ограничивается описанными далее тенденциями.
Имея объектом исследования поэтику жеста в контексте русского литературного авангарда первой половины XX века, данная работа, как уже отмечалось, касается проблемы, изученной исключительно мало и преимущественно только в одном из ее аспектов. Используя понятие «жест» применительно к русскому литературному авангарду, большинство авторов руководствуется наиболее распространенным буквальным толкованием этого понятия, связывает жест, с одной стороны, с физическими движениями, с другой - с различными формами театральности, эпатажа, публичности и экстравертности в целом. Существует ряд работ, касающихся вопроса значимости физической жестикуляции как механизма художественного творчества Андрея Белого, вопросов значения поэтической декламации в футуризме, «жесто-поведенческих» аспектов русского символизма, футуризма, ОБЭРИУ. В одной из последних работ о русском футуризме Владимир Альфонсов неоднократно использует понятие жест, характеризуя футуризм как поэзию, в которой нередко «главную суть составляли поза, жест, поведение»9. Между тем, исследований, посвященных жестовой природе самого авангардного текста, а не фактов его исторического существования, практически не существует. Более того, сама постановка вопроса о тексте как жесте является достаточно непривычной и может вызвать ряд вопросов на самом первом этапе.
Одним из первых в России, кто начал говорить о жесте применительно не только к движениям тела или (в переносном значении) человеческим поступкам, а применительно к искусству, литературе, языку, был Андрей Белый. При этом Белый был не только первым, но также и тем, кто говорил о жестах, пожалуй, чаще других (Вячеслав Ивано.в также говорил о том, что произведения современного искусства «отмечены как бы жестом указания, подобным протянутому и на что-то за гранью холста указующему пальцу на картинах Леонардо да Винчи»10). Не раз говорилось о том, что творчество Белого можно условно разделить на два периода: Белый - символист, неокантианец и Белый -предтеча (если не создатель) русского формализма, антропософ, около- (если не самый истинный) футурист («На середине своего творческого пути он резко сменил свою поэтическую манеру, сменил философское мировоззрение и сменил теоретический подход к стиху»11). Несмотря на то, что сам Белый не раз подчеркивал неизменность своего мировоззрения и поэтики, в определенном смысле это вполне справедливо. Что до жестов, то говорить о них Белый начинает именно в так называемый второй период своего творчества; в работах первого периода, включая статьи, вошедшие в «Символизм», «Луг зеленый», «Арабески» (в том числе стиховедческие статьи «Символизма», в коих во многом предсказывается поздний Белый), Белый этого термина не употребляет. Более того, чем позднее, тем чаще Белый говорит о жестах в самых различных контекстах и сочетаниях. В книге «Глоссалолия. Поэма о звуке», изданной в Берлине в 1922 году, Белый употребляет словосочетания «мимика звуков», «жест смысла», «жест звука». В законченной в 1927 году и выпущенной из печати в 1929 книге «Ритм как диалектика и "Медный всадник"» Белый говорит об «интонационном жесте», «жесте паузы», «строфном жесте», «шестистрочном жесте», «жесте содержания», «смысловом жесте», «жесте ритма», «жестикуляции отрывков», «логике жеста» и даже о «жестикуляции жеста».
Понятие «жест» у позднего, «антропософского» Андрея Белого не случайно занимает столь важное место. Исповедуя взаимосвязанность физических, психических и духовных процессов, Белый ищет некий общий, универсальный язык аналогий, способный раскрыть эту взаимосвязанность, например, пытается проследить связь языка как логоса и языка как части тела, связь между движениями речевого аппарата с движениями всего тела и движениями духа и смысла («Опыт всей жизни моей говорит мне: у лучших лириков совпадает моральное (внутренне интонационное) дыхание с физиологическим; история происхождения стихотворной речи из "мантр" это ясно подчеркивает»12; «Жесты рук отражают все жесты безрукой танцовщицы, пляшущей в мрачной темнице: под сводами неба; безрукую мимику отражает движение рук; те движения — гиганты огромного мира, незримого звуку; так язык из пещеры своей управляет громадою, телом; и тело рисует нам жесты; и бури смысла — под ними»13).
Изучая случаи употребления Белым понятия «жест» применительно к культуре, искусству, языку, можно отметить следующее... Во-первых, понятие «жест» связано у Белого с оригинально трактуемым им понятием «ритма» («кривая ритма есть интонационный жест»14, жест есть «качественная тональность ритма»15). Во-вторых, подобно тому, как связывает Белый понятие «ритма» с понятием «музыкальности» (в достаточной мере центральное для поздних работ Белого понятие «ритм», как справедливо подметил, например, Михаил Гаспаров16, представляет собой эволюцию одного из центральных понятий ранних работ Белого «дух музыки»), так же связано с «музыкальностью» и понятие «жест». Учитывая эти связи, а также отдельные случаи, когда Белый дает понятию «жест» некие подобия пускай и расплывчатых определений («жесты — юные звуки еще не сложившихся мыслей, заложенных в теле моем»17), мы можем говорить, что жест для Белого (Белый говорит как о жесте текста в целом, так и о жестикуляции отдельных его частей, моментов) есть некое семантически значимое молчание (говоря в 1908 году о том, что главные заповеди Фридриха Ницше выражены не словами его книг, а чем-то стоящим за ними, Белый говорит о неком ницшевском жесте, который и есть его главная заповедь, главное, молчаливое Слово18), что понятие «жест» служит у Андрея Белого обозначением смысловой энергии, содержащейся в звуке, звукового значения, звуковой семантики слова («звукопись - доисторическая жестикуляция языка; в нее вписана печать в ней некогда жившего и не всегда угасшего смысла»19), что для Белого, противопоставлявшего «текучий», «динамичный», «диалектичный» и «богатый» смысл, данный в ритмическом жесте, и «не текучий», «мертвый», «склеротический» смысл «в обычном понимании»20, разделявшего содержание содержания, содержание формы и содержание формо-содержания, жест есть «предел содержания в формо-содержании»21.
Между тем, «жест» не является у Белого четким понятием, термином: значение его в работах Белого всякий раз слишком размыто и меняется в зависимости от контекста (порой под «жестом» Белый подразумевает физические действия, жесты актеров или жесты литературных персонажей, порой употребляет понятие «:.г.ест» в интересующим нас метафорическом смысле, нередко эти два значения у Белого взаимосвязаны). С учетом традиционного для Белого противопоставления «мертвый» термин / «живое» слово, повышенная метафоричность его языка вполне закономерна и является, с точки зрения Андрея Белого, безусловным достоинством. Однако она не только затрудняет определение, конкретизацию значения слова «жест» у Белого, но делает ее в перспективе невозможной.
Параллельно с Андреем Белым понятие «жест» употребляли русские формалисты. В работах Юрия Тынянова, Евгения Поливанова, Бориса Эйхенбаума можно встретить словосочетания «звуковой жест», «языковой жест», «словесный жест», «интонационный жест».
Пытаясь сколько-нибудь прояснить значение понятия «жест» в работах русских формалистов, первым делом обращаешь внимание на то, что использование формалистами понятия «жест» обуславливается, по-видимому, свойственным формалистам утверждением ориентации поэтического языка на произнесение, изучением влияния работы органов речи на соотношения звучания и значения, взглядом на слово как на «артикуляционное движение», вниманием к «речевой мимике», «мимической артикуляции», исследованиями истории ораторского искусства. Иными словами, понятие «жест» нередко употребляется формалистами в том или ином контексте речевой физики и физиологии (в 1922 году Юрий Тынянов рассуждал о том, что ломоносовские оды предполагают жестикуляцию22). При этом, однако, остается неясным предполагаемое формалистами соотношение вербального и невербального в языковом жесте. Говоря о звуковых жестах японского языка, Поливанов говорит о том, что они не несут особого значения, а «предназначаются лишь для оживления представлений, вызванных окружающими словами»23. Тынянов не раз говорит о том, что жест в поэзии характеризуется повышенной конкретикой24, пишет, например, в связи с поэзией Брюсова: «Интонации превращены в жесты, даже определенные жесты - жесты театральные (это достигается тем, что обращения и прямая речь как бы вторгаются в рассказ, синтаксически не спаяны с ним, выделены): И вздрогнула она от гнева, / Казнь -оскорбителям святынь! / И вдаль пошла - среди напева / За ней толпившихся рабынь»25. Однако тот же Тынянов, говоря в другом месте о явлении звукового жеста, «необычайно убедительно подсказывающего действительные жесты»26, добавляет: «нужно только отметить, что здесь не подсказываются конкретные и однозначные жесты»27. Показательно следующее рассуждение Тынянова о Лескове: «Он один из самых живых русских писателей. Русская речь с огромным разнообразием интонаций, с лукавой народной этимологией, доведена у него до иллюзии героя: за речью чувствуются жесты, за жестами облик, почти осязаемый, но эта осязаемость неуловима, она сосредоточена в речевой артикуляции, как бы в конце губ - и при попытке уловить героя, герой ускользает. И это закономерно. До комизма ощутимое слово, превращаясь в языковой жест, подсказывая своего носителя, как бы обратилось в этого носителя, подменило его; слова вполне достаточно для конкретности героя, и "зрительный" герой расплывается»28. Здесь, с одной стороны, Тынянов говорит о языковом жесте как намеке на жест физический (мимика, телодвижение), то есть о языковом жесте, при котором слово служит созданию визуального образа («за речью...», «подсказывая»), с другой, он указывает на повышение самодостаточности слова (вербального) в языковом жесте («ощутимое слово»). Таким образом, мы видим, что физиологией дело, по всей видимости, не ограничивается.
Пытаясь выделить у формалистов моменты понимания языкового жеста вне его служебного по отношению к визуальным образам значения, вне его зависимости от физиологии произношения, мы видим, что понятие «жест» связано у формалистов (как и у Белого) с понижением семантической значимости слова. Говоря о жестовой природе пушкинских строк из «Евгения Онегина» (сон Татьяны, начиная с «взглянуть назад / Не смеет; мигом обежала» до «Упала...») Тынянов пишет: «Эти стихи совершенно не воспринимаются с точки зрения их значения - они являются как бы преградой для моторного образа»29. В работах формалистов явная взаимозаменяемость, синонимичность понятий «языковой жест» и «звуковой жест» неслучайна, ибо слово (элемент речи, языка) становится жестом как раз в связи с повышением значения и выразительности его звукового ряда (Поливанов говорит о том, что для звуковых жестов характерна повышенная ценность «определенного звукового состава»30). В связи с этим можно сделать вывод о том, что, так как звуковая семантика слова есть значимость, независящая от «логического или вещественного значения»31 («логическое или вещественное его значение тускнеет - зато обнажается звуковая семантика»32), языковой жест связан у формалистов с независимостью от смысла33 (слова «приобретают значительность помимо своего прямого смысла»34), понимаемого вовсе не как синоним семантики (можно, например, говорить о бессмысленной семантике). Можно предположить, что языковой жест для формалистов есть передача семантики «вне всякого отношения к смыслу»35. При этом понятие «жест» у формалистов связано (как и у Белого) с явлением поэтического ритма (обращаясь к гоголевским «Мертвым душам», Тынянов пишет о том, что «слово, подчиняясь ритму, само играет роль как бы словесного жеста»36).
Однако, подобно тому, что мы видим в работах Белого, понятие «жест» у формалистов также не имеет какого-либо жестко закрепленного за ним толкования. Редчайшие случаи, когда понятию «жест» в работах формалистов дается какое-либо определение, мало способствуют его прояснению (в статье «О звуковых жестах японского языка» Поливанов пишет: «Выражение "звуковой жест" требует пояснения. Под ним отнюдь не надо понимать жеста, сопровождаемого звуком, каким, например, является хлопанье дверью, топанье ногой об пол, скрежет зубовный и пр. и пр. Слово "жест" употреблено в этом выражении условно - имеются в виду не жесты, а элементы устной речи (слова или части слов), роль которых в языке походит на роль жеста»37). Беглый анализ употребления понятия «жест» Андреем Белым и формалистами позволяет определить некоторые существенные характеристики этого понятия при его применении к слову и тексту, но в то же время не позволяет рассматривать его как понятие достаточно сформированное, конкретное.
Вслед за Белым и формалистами понятие «жест» применительно к проблемам языка, слова, литературы упоминали Юрий Лотман и другие ученые «тартуской школы», исследователи творчества самих Андрея Белого и формалистов. Между тем, употребление понятия «жест» носило в данном случае преимущественно спарадический характер и не было частым; как само понятие «жест», а также образованные от него «звуковой жест», «языковой жест», «жест словесный», так и понятие поэтики жеста остались вне распространенной российской филологической лексики, так и не приоблели существенно большей конкретики, чем при первых своих употреблениях.
Таким образом, данное исследование оперирует понятием «жест» в толковании требующем уточнений. Несмотря на присущую понятию «жест» метафоричность и определенную неизбежность этой метафоричности (пытаясь дать максимально полное толкование понятию «жест» в области театра, Патрис Пави справедливо говорит о том, что всякое описание жеста средствами языка ущербно, хотя мы и не имеем для жестов иного языка описания38), необходимо определить его основные контуры, основные семантические вектора.
Русское слово «жест» происходит от латинского gestus: поза, тело, движение. Словарь русского языка в четырех томах дает слову «жест» следующее толкование: «телодвижение, преимущественно движение рукой, сопровождающее речь для усиления ее выразительности или имеющее значение какого-либо сигнала, знака и т. п.; поступок, совершаемый с каким-либо умыслом или в знак чего-либо»39. По сути так же толкует слово «жест» словарь русского языка Ожегова40. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля говорит о «жесг » следующее: «жест - телодвижение человека, немой язык, вольный или невольный; обнаружение знаками, движениями чувств, мыслей»41. Исходя из латинской этимологии слова «жест», выделяя основные семантические вектора приведенных словарных толкований, мы можем говорить, что: жест есть некое движение, действие, поступок, хотя он может быть как подвижным, так и статичным, в том случае, когда жест статичен, он есть «поза», то есть достаточно выразителен и является как бы скрытым, потенциальным движением, преддвижением или постдвижением, выраженным предвосхищением движения или его ставшим итогом; понятие «жест» связано с понятием «тело»; жест связан с языком и речью, он сопровождает речь или заменяет ее; жест есть выразительное средство; жест есть знак; жест есть средство коммуникации.
Говоря о жесте в контексте данного исследования, мы оказываемся перед следующей проблемой: с одной стороны, мы можем говорить о том, что имеющий невербальную природу жест может служить знаком, выразительным средством, средством коммуникации, то есть быть своеобразным немым языком, невербальной речью, невербальным текстом, с другой стороны, можем ли мы говорить о вербальном языке, вербальной речи, вербальном тексте как о вербальном жесте? Уместен ли в данном случае закон тождества? Возможно ли говорить о наличии жестов, жестовой природы, поэтики жеста в литературном тексте, в поэтическом языке, в поэтической речи? Насколько оправдана такая постановка вопроса? Можем ли мы рассматривать текст или какой-либо элемент текста как вербальный жест?
На первый взгляд, нет. Во-первых, все приведенные выше толкования понятия «жест» так или иначе связывают жест с движением, рассматривают жест как некое действие или совокупность действий, литературный же текст, как, впрочем, и всякое иное произведение, казалось бы, бездейственен (имеется в виду непосредственное совершение действий, а не их провоцирование). Было бы нелепо предположить возможность непосредственного осуществления произведениями искусства каких-либо физических действий (движений). Однако отсутствие внешней активности объекта может быть компенсировано наличием активности внутренг ой. Например, действия или совокупность человеческих действий, даже несущественных с точки зрения внешней активности, начинают восприниматься нами подобиями действий в том случае, когда в них высвечивается более или менее явное отношение, установка к миру, как бы сказал Михаил Бахтин, «смысловая позиция», «ценностно-смысловой ряд» (пускай даже наличие этой установки, этой позиции кажущееся). Причем степень активности действий того или иного человека порой в большей степени зависит именно от того, насколько активно, агрессивно выражается в тех или иных его поступках установка к миру, чем от количества совершаемых им физических движений или степени их динамичности. В широком смысле, совершение действий вообще не связано исключительно с возможностью осуществления объектами физических движений. С одной стороны, система физических движений того или иного объекта есть форма его активного присутствия в мире, с другой, - хотя мы можем говорить о различной степени активности присутствия в мире тех или иных объектов, присутствие это не бывает абсолютно пассивным, окончательно состоявшимся, можно сказать, что само присутствие чего-либо в бытии уже есть в определенном смысле некое действие, и чем активнее, явленней что-либо присутствует в мире, тем больше действия в этой явленности. Нам не дано увидеть или даже предположить мир вне нашего присутствия в этом мире, вне нашего миропредставления, и в этом ценностно-полагаемом нами мире всякая вещь является по-своему активной участницей некоего диалога между бытием и нами, его осмысляющими. В широком смысле своеобразным действием (движением) является уже само присутствие чего-либо в бытии. Если так, то говорить о совершении действий произведениями искусства вполне позволительно. Более того, всякое произведение искусства присутствует в мире гораздо более активно, чем присутствуют в нем «просто вещи». Мартин Хайдеггер замечательно писал о том, что любое художественное произведение, в отличие от «просто вещи», которая скрывает от наших глаз свою сущность, стремится спрятаться, скрыть то, что она существует (сокрытость - одна из основных характеристик «просто вещи»), есть «несокрытость» и характеризуется тем, что откровенно заявляет о своем существовании42. Различные произведения искусства по-разному заставляют нас реагировать на свое присутствие, однако несомненно то, что, сталкиваясь с ними, мы сталкивается с объектами, обладающими достаточной степенью активности по отношению к нам.
Степень активности, агрессивности, несокрытости того или иного действия, явления обычно определяется степенью их ненормативности, степенью их несоответствия привычному, ожидаемому, степенью их вырванности из общего фона. Можно сказать, что чем меньше то или иное действие вписывается в границы общепринятого, чем меньше то или иное явление вписывается в окружающий его контекст, тем заметнее и, следовательно, активнее это действие. Во все времена в мире, где все «просто вещи» растворяют факт своего существования в своей служебности, функциональности, произведения искусства, даже служа элементами интерьера или предметами купли-продажи, являлись чем-то «не от мира сего», выделялись характером своего присутствия. С учетом же разнообразных форм современного творчества, сегодня мы особенно ясно можем наблюдать тот факт, что бытие произведений искусства не только сопровождается их обособленностью от окружающих вещей, но зачастую произведения искусства становятся таковым, именно благодаря этой своей вырванности из контекста. При свойственном нашему времени колоссальном расширении границ искусства, включении в предполагаемую область искусства тех явлений, кои ранее не имели к понятию искусства ни малейшего отношения, при техническом развитии, сделавшем возможными немыслимые ранее виды произведения и воспроизведения искусства, мы видим, что сегодня, по сути дела, искусством может быть признано все что угодно. Любой предмет, любой текст потенциально могут быть представлены как художественные творения. При этом все эти вещи становятся художественными творениями обычно именно вследствие того, что автор вырывает их из привычного (природного) контекста, делая их бытие как произведений искусства «искусственным». Стоит нам поместить тот или иний предмет в раму, в том числе и условную, как этот предмет перейдет из разряда просто вещей в разряд художественных произведений (Михаил Ямпольский справедливо отмечал «семантизацию видимого» за счет «рамки»43, «Ограничение рамой придает плоскости определенные смысловые свойства, и в первую очередь свойство, благодаря которому то, что заключено в раму, является смысловой единицей (целым)»44, -писал Ян Мукаржовский). Даже если мы начнем воспринимать пейзаж вне его функционального бытия, а как эстетическую ценность, мы будем воспринимать его своеобразным произведением искусства: творением Бога, природы и т. д.
Таким образом, говоря о совершении действий произведениями искусства, вовсе не обязательно доказывать их способность совершать те или иные физические движения, физически реагировать на окружающую действительность, необходимо скорее определить характер их присутствия в мире, степень активности, «несокрытости» этого присутствия. Говоря о совершении действий произведениями искусства, необходимо определить особенности их отношения к нам, необходимо определить те разнообразные формы диалога, которые они навязывают нам, при нашем общении с ними. Произведения искусства и в том числе литературные тексты вовсе не бездейственны и в этом смысле не неподвижны; то, что жест есть движение, не может, следовательно, являться препятствием к тому, чтобы мы рассматривали литературные тексты как жесты.
Вторым моментом, казалось бы удерживающим нас от разговора о литературном тексте как жесте, о жестовой природе языка, о «поэтике жеста» является то, что понятие «жест» обычно связано с понятием «тело», что под совершаемым жестом движением мы обычно понимаем телодвижение. Литературный же текст (как и все его составляющие) вроде бы не является телом и не имеет с телом ничего общего. Вместе с тем на сегодняшний день употребление понятия «тело» применительно к произведениям искусства и литературным текстам в частности является вполне распространенным, хотя, безусловно, и метафоричным. Понятие «тело» не смешивается при этом с понятием «организм», и, говоря о теле литературного текста, его телесности, сегодня обычно имеют в виду вовсе не наличие в литературном произведении некой структуры и не уподобление литературного произведения живой материи.
Понятие «тело», «телесность» применительно к феноменам культуры и искусства активно вводилось в современный философский и филологический дискурс Мишелем Фуко, Жилем Делезом, Морисом Мерло-Понти, Роланом Бартом, многими другими. Если современная философская мысль подразумевает под телесностью наличие чувственного начала и пространственно-временных координат в актах мышления, первичную материю мысли, психические состояния, неподвластные контролю субъекта, феномены, не поддающиеся описанию в привычных категориях классической философии и рационального сознания, лишенный какого-либо дальнейшего осмысления факт присутствия чего-либо в мире, то применительно к художественным произведениям, к текстам под «телесностью» обычно понимается или феномен искусства в его чистой, не подвергнутой или не подвергаемой осмыслению данности, или какой-либо элемент, наличествующий в феномене искусства и сопротивляющийся его осмыслению, схватыванию, систематизации, описанию и разложению в каких-либо определенных категориях разума («Телесность предстает как аура тайны»45). Таким образом, традиционная связь физических жестов с телом не является помехой к тому, чтобы говорить о жестах применительно к искусству, к языку. Говорить о вербальных жестах, о жестикуляции языка возможно.
Понятие «жест» покидает границы своего обычного толкования. Жест как телодвижение, жест как поступок оказываются лишь одними из внешних проявлений жеста в широком смысле этого слова. Понятие «жест» теряет обязательность своей связи с совершением объектами физических движений. Мы получаем возможность говорить о жесте вербальном, о жесте красок, о жесте звуков, о жесте мысли и о жесте самого понятия «жест». Понятие «жест» становится выражением некой чистой телесности. Понятие «жест» становится понятием, выражающим некий чувственный импульс, некою вне-, до-, пред-, за-семантическую активность, то есть не подвергнутую или, скорее, не подвергаемую осмыслению, схватыванию, систематизации, описанию и разложению в каких-либо определенных категориях разума данность, наличность, несокрытость. Исходя из сказанного, жест в тексте и языке должен характеризоваться понижением конкретной семантической значимости слова или элемента текста, языка вплоть до его независимости от семантики; повышением значения и выразительности звукового ряда слова или элемента текста, языка (звуковая семантика); отрывом семантического поля слова или элемента текста, языка от конкретно-логического смысла; сближением природы слова или элемента текста, языка с природой физических и телесных действий. Именно в таком понимании понятие «жест» и будет употребляться в дальнейшем в данной работе.
Связываемое в данной работе с поэтикой жеста явление «зауми», безусловно, изучено в гораздо большей мере, чем сам языковой/словесный/звуковой жест. Однако и здесь мы сталкивается с открытым характером темы.
Наиболее традиционно понятие «заумный» применяется к ряду направлений русского футуризма, к творчеству Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Ильи Зданевича, Игоря Терентьева, других будетлян. Это вполне естественно. Именно русские футуристы изобрели само понятие «заумь» («заумный язык», «заумная поэзия»), именно они наиболее часто использовали его в своих статьях, манифестах, именно они явились первыми теоретиками зауми, давшими ей начальные определения. Помимо футуризма о зауми говорят применительно к поэзии Александра Туфанова, основавшего группу «Орден заумников», поэзии обэриутов (сам Даниил Хармс некогда относил свои поэтические опыты к заумным46). Хотя отношение к зауми их предшественников футуристов у этих поэтов было далеко неоднозначным (так обэриуты, как известно, впоследствии настаивали не только на непричастности своих текстов к заумной поэзии, но даже на своей враждебности зауми47), такое применение также имеет бесспорные основания. Гораздо реже о зауми говорят в контексте более широком. Существуют работы, касающиеся проблем зауми у Андрея Белого, Константина Бальмонта, Андрея Платонова, Николая Гоголя, взаимосвязи поэтической зауми с языком сектантов. Сам Крученых в 1925 году находил проявления зауми у Лидии Сейфуллиной, Всеволода Иванова, Леонида Леонова, Исаака Бабеля, Артема Веселого, других авторов тех лет, расширяя тем самым само толкование понятия «заумный язык». Велимир Хлебников отмечал что заумный язык «господствует» в заклинаниях, заговорах48. Такому снижению частотности употребления понятия «заумь» от Хлебникова, Крученых до Белого и Платонова соответствует наиболее традиционное понимание зауми как сугубо фонетической поэзии (наподобие крученыховского «Дыр булщыл», с которого, по мнению автора этих знаменитых строк, и началась история заумной поэзии). Однако насколько же все-таки справедливо подобное ограничение в толковании зауми? Насколько справедливо говорить о зауми в более широком толковании и, следовательно, контексте?
Исходя из самих слов «заумь», «заумный», нетрудно заметить заложенное в них противопоставление уму. За-умность первое, что напрашивается при толковании зауми. Говоря о толковании понятия «заумь», Жан-Филипп Жаккар пишет: «Надо понимать "за-ум" как противоположность "уму" или "разуму"»49. Без-умный характер зауми отмечается и Крученых, и Хлебниковым («Заумный язык - значит находящийся за пределами разума»50). Алексей Крученых, хотя и разделял в «Ожирении роз» «заумное» и «безумное» («Ранее было: разумное или безумное, мы даем третье: - заумное, - творчески претворяющее и преодолевающее их»51), говорил о том, что в заумном и безумном «слова почти сходны»52, что заумное берет «все творческие ценности у безумия ... кроме его беспомощности - болезни»53. «От прямой, кратчайшей линии рассудка поэзия всегда уклонялась к небрежной странности, увеличивая градус этого отклонения в последовательной вражде школ»54, -писал Игорь Терентьев. Однако говорить о без-умном происхождении зауми вряд ли возможно. С одной стороны, культивирование случайности и ошибки («Когда нет ошибки, ничего нет). 55) и элементов автоматического письма (заумь как выражение не подвергнутых рефлексии разума эмоций) у общепризнанных заумников футуристов позволяет сделать вывод, что многие авторы зауми отмечали значение вне-разумных источников и механизмов творчества. С другой стороны, заумь чаще всего рождалась при непосредственном и активном участии разума. Традиционные формы «умного» языка разрушались чаще всего не только вполне осознанно, но и посредствам вполне обдуманных методов и схем разрушения, вполне сознательного использования тех или иных приемов. Большинство заумных текстов творились в процессе не менее скрупулезного моделирования, чем тексты «традиционные». Особенностью работы по подбору слов и звуков, созданию общей звуковой картины текста, разгрому синтаксиса и грамматики при создании зауми являлась прежде всего ее направленность, а не ее характер. Упомянутые элементы случая или автоматического письма (пускай и в меньшей степени их, кстати, можно найти чуть ли не у любого автора, любой поэтической эпохи) были действительно лишь элементами в целом вполне «умной» работы над заумным текстом.
Так же мы не может отрицать присутствия в зауми какого-либо содержания. С одной стороны, в заумной поэзии мы нередко видим казалось бы полное отсутствие какого либо «ума», понимаемого как наличие некоего здравого смысла. С другой стороны, даже при наиболее узком, традиционном понимании зауми, даже при отнесении к зауми лишь самых крайних экспериментов Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, других русских футуристов, мы не можем не признать, что определенный смысл наличествует и в этих текстах. Неспроста очень многие не раз протестовали против понимания, например, хлебниковской зауми как бессмыслицы, да и сам Велимир Хлебников многократно настаивал на наличии смысло-содержания в своих заумных стихах. Конечно, содержание заумного текста иное, чем содержание текста «умного». Заумный текст предполагает порой в качестве своего содержания некий высший смысл, не поддающийся выражению в привычных и «традиционных» формах языка, некий чувственно-эмоциональный энергетический заряд, непосредственное бытие, еще не подвергнутое логической обработке или же являющееся следствием ее минимизации, разрушения. Однако, протестуя обычно против понимания смысла лишь как «здравого смысла», заумь не отрицает смысл как таковой. Заумь можно назвать поэзией беспредметной, но это не значит, что ее всегда можно назвать поэзией бессмысленной и бессодержательной. Даже «бессмыслица» обэриутов требует определенных уточнений. Более уместно скорее говорить о двух различных видах зауми. Эти виды зауми можно условно обозначить как «фонетическая» и «семантическая». Для первой характерна ориентация на звуковую и эмоциональную сторону слова, разрушение понятия о слове как носителе какого-либо внутреннего смысла, неверие в возможности слова познавать суть явлений и служить выражением какого-либо содержания, иными словами, - уход от понимания слова как гносеологического знака, от понимания языка как выразителя объективной реальности. Слово как таковое уступает здесь место звучанию. Для второй характерно сочетание отрицания существующих языковых форм со стремлением к преобразованию языка, утверждение выразительных и познавательных функций слова, понимание слова как носителя смысла, восприятие эмоционально-звуковой стороны слова как смыслового элемента.
Нельзя в полной мере говорить и о принципиальной невозможности разумного постижения зауми. Большинство заумных текстов действительно не рассчитаны на разумно-логическое постижение. В том случае, когда то или иное понимание зауми предполагается в принципе, нередко она или обращена к механизмам восприятия, напоминающим скорее религиозное откровение, чем разумный анализ. Если текст «умный» обращается к нашему разуму, хотя и не ограничивается этим обращением, то текст заумный обращен не только преимущественно к иным сферам нашей психики, но зачастую к ним исключительно. Дубравка Ораич Толич писал о том, что заумные тексты ориентируются «на сферы сознания, которые ниже или значительно выше разума»56. Часто мы встречаем примеры зауми и вовсе на понимание не рассчитанные, обращенные скорее исключительно к сферам чувственно-эмоционального восприятия. Вместе с тем, нельзя не заметить и те случаи зауми, что не только предполагают свое разумное постижение, но порой и стремятся создать для этого постижения необходимые предпосылки (как в случае с заумью Велимира Хлебникова). Нельзя не заметить и возможности пускай частичной дешифровки многих заумных текстов посредством различных кодов, находящихся внутри самих этих текстов (мы можем наблюдать это, например, в творчестве обэриутов). Такие тексты можно было бы исключить из области заумной литературы, однако наличие в них содержания, рассчитанного, пускай лишь отчасти, на разумное постижение, вряд ли является для этого достаточным основанием.
Таким образом, заумный текст может иметь самое разное происхождение. Он может быть сознательно смоделирован, являться следствием случайных ошибок, опечаток или же поэтических «сдвигов», о которых так много писал Крученых, он может быть результатом «автоматического письма» и так далее. Разнообразные проявления зауми не могут быть объединены безумным происхождением, отсутствием какой-либо семантики, отрицанием возможности постичь заумь посредством ума. Присутствие всего перечисленного возможно в зауми, но вовсе не обязательно и, следовательно, не может служить для зауми определением.
Вместе с тем, как мы только что отметили, смысл и содержание зауми отличаются от привычных смысла и содержания текста, а восприятие этих заумных смысла и содержания требует отличных от привычных нам механизмов восприятия. Причина этого кроется, пожалуй, в том, что семантическое содержание зауми гораздо менее конкретно и определенно, чем в «умных» текстах. Именно неопределенность содержания отличает заумный текст от текста «умного», «традиционного». Даже в фонетической поэзии заумь передает некое содержание, важно то, что в любом случае в итоге мы имеем текст, чье содержание туманно, неопределенно и принципиально не может быть «дешифровано» при помощи традиционно-логических языковых средств. В 1913 году, комментируя в сборнике «Помада» свое «Дыр бул щыл», Алексей Крученых писал о том, что заумные слова не имеют «определенного значения»57. Это первое толкование зауми, не отрицающее наличие в зауми значений, но отрицающее их определенность, несмотря на свой лаконизм и простоту, в общем, пожалуй, самое верное. Виктор Григорьев хотя и говорит о том, что «заумь не есть непременно бессмыслица»58, пишет, что в ней «как правило» «семантика - статична, одномерна, а то и редуцированна до нуля или до расплывчатых полу междометных эмоциональных звукообразов»59. Таким образом, заумный язык - язык с размытой семантикой. Именно эта характеристика, а не принадлежность к тому или иному литературному направлению служит для зауми отличительным и определяющим ее признаком.
Такое понимание зауми дает нам право более смело, хотя и с осторожностью, говорить о зауми в широком литературном контексте, говорить о различных формах заумности в русском символизме, у обэриутов, понимая при этом не только наличие формальной общности между приемами футуристической зауми и отдельными элементами поэтики символизма и ОБЭРИУ, но также о различных формах проявления заумности как размывания семантики в каждом из данныу. направлений. Эта же тема остается сегодня разработанной явно не достаточно.
Русский символизм: от слова к молчанию
Вне зависимости от дискуссионности причисления русского символизма к литературному авангарду, символизм явился течением близким авангарду как исторически, так и по сути. Нередкий взгляд на бесспорно авангардные направления русской литературы первой половины XX века футуризм и ОБЭРИУ как на явления «постсимволизма» (не только по хронологии, но также и по сути) подчеркивает колоссальное влияние, оказанное русскими символистами на последующее развитие всей русской литературы и, в частности, литературы русского авангарда; влияние, сказавшееся как на самом возникновении авангарда, так и на характере и путях его развития, его мировосприятии, на формировании многих наиболее существенных и основополагающих его принципов.
Свойственная русскому литературному авангарду поэтика жеста, наиболее ярко проявившаяся в русском футуризме и творчестве поэтов ОБЭРИУ, формировалась в контексте символистских философских, эстетических и поэтических исканий и опытов. Явив в своем творчестве примеры тяготения художественного текста к жестовой природе, определив в своих теоретических работах многие предпосылки и свойства поэтики жеста, русские символисты во многом предопределили последующие формы развития данной поэтики в творчестве Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Ильи Зданевича, Игоря Терентьева, Александра Введенского, Даниила Хармса, других авторов.
Говоря в 1910 году об истоках русского символизма, Вячеслав Иванов писал: «Мысль изреченная есть ложь60. Этим парадоксом-признанием Тютчев, ненароком обличая символическую природу своей лирики, обнажает и самый корень нового символизма: болезненно пережитое современной душою противоречие - потребности и невозможности "высказать себя"»61. «Мысль изреченная есть ложь», и «О если б без слова сказаться душой было можно»62, -эти строки Федора Тютчева и Афанасия Фета стали эпиграфами к авторскому предисловию в одном из первых символистских сборников русской поэзии: в сборнике «Chefs d oeuvre» Валерия Брюсова, опубликованном еще в 1895 году63. «Наступила пора, когда "мысль изреченная" стала "ложью"»64, - писал, обращаясь все к тем же строкам Тютчева, в 1904 году Вячеслав Иванов о годах предшествующих новому веку. Обращаясь к строкам Фета, Александр Блок писал в статье «О современном состоянии русского символизма» о том, что «всякий художник мечтает "сказаться душой без слова"»65. «Ангел благого молчанья, / Душу от слов сохрани»66, - молил в своем стихотворении 1908 года Валерий Брюсов.
«Мысль изреченная есть ложь»... Это тютчевское утверждение не спроста стало, возможно, самым популярным в арсенале цитат русского символизма. «Корень» русского символизма был определен Вячеславом Ивановым точно. Проблема ложности слова (изреченной мысли), пожалуй, -одна из центральных и основополагающих его тем. Ощущение несоответствия слова как средства выражения выражаемой им действительности, ставшее впоследствии одним из основных свойств русского авангарда, нередко служило для русского символизма отправной точкой в его поисках новых ориентиров творчества, новых поэтических средств, новых путей выражения мира.
Противоречие между потребностью и невозможностью высказать себя, понятое как следствие противоречия между словом и миром, несоответствие изреченного тому, что мы желаем изречь, или, по крайне мере, сомнение в таком соответствии - ощущение неновое. Конечно, его вряд ли можно назвать свойством лишь символистского сознания. Являясь составной частью общей проблемы соответствия слова и бытия, означающего и означаемого, а в конечном счете материи и смысла, проблема «ложности» слова была заявлена еще, как минимум, в древнегреческой философии. Задолго до символистов названная проблема была знакома и русской поэзии («В русской поэзии чаще, чем в какой-либо другой, повторяется тема старого сомнения в способности слова к выражению чувства»67, -лисал Осип Мандельштам).
Русский символизм зарождался, питаясь философией Анри Бергсона, Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше, романами Федора Достоевского, символизмом Западной Европы. Художественным направлением, из лона которого произрастал русский символизм, было декадентство. Разочарованность в возможностях научно-логического познания бытия, убежденность в том, что интеллект не познает вещи, а лишь служит приспособлению к внешним условиям жизни, разрушение представлений о мире как о статически данном единстве, отвращение ко всякому позитивизму -такими были унаследованные от предшественников настроения будущих создателей русской символистской поэзии. Бытие теряло свои конкретные очертания. «Ужас декадентства, подлинная его трагедия - в потере ощущения и сознания реальностей, в крайнем антиреализме. Декадентство есть отражение иллюзорности бытия»68, - писал в 1907 году Николай Бердяев. «Открывается бессмыслица и призрачность мира, и в нем жуткая заброшенность и одиночество человека»69, - описывал Георгий Флоровский ощущения тех лет. «Душевным ледоходом в русской культуре»70 назвал Георгий Флоровский эпоху рубежа XIX и XX веков, время зарождения русского символизма.
Актуализация проблемы несоответствия объективной действительности и традиционных форм ее выражения являлась одной из существенных составляющих общей интеллектуальной ситуации тех лет. Проблема восприятия и познания бытия связывалась с проблемой соответствия бытию слова, языка, как инструментов этого познания и восприятия. Связь вопросов гносеологии с вопросами языка, языковая природа сознания были осознаны культурой конца XIX - начала XX века, может быть, как никогда ранее. В России первых десятилетий XX века вопрос о соотношении языка и действительности оказался важнейшим вопросом не только для Павла Флоренского, Сергия Булгакова, Алексея Лосева, Владимира Эрна, других «профессиональных мыслителей», но также и для многих литераторов, окончательно перестал быть делом преимущественно философов и богословов, пожалуй, как никогда ранее стал темой общекультурной, широко распространившись на сферу искусства.
Неновым был и контекст, в котором осмыслялась русским символизмом проблема познания бытия и его словесного выражения: контекст проблемы несоответствия образов сознания времени и движению как природе непосредственного бытия («Движение - основная черта действительности»71). Как и многим их современникам, познание времени, а точнее, приобщение времени, движению нередко виделось русским символистам единственным средством постижения бытия, средством приобщения его истинной природе. Соответствие слова/языка/речи текучести бытия виделось залогом всякого познания. Приобщение времени (и это станет впоследствии одним из общих свойств русского литературного авангарда, важнейшей составляющей эстетики русского футуризма и группы ОБЭРИУ) виделось русским символистам критерием истинности искусства, критерием соответствия искусства объективной реальности («Приведением к времени обуславливается совершенство всякой формы»72). Воспетый символистами «дух музыки» был для них, в определенном смысле, как бы «духом времени», «духом движения», избавлением от «плена пространственности» («В музыке нам открываются тайны движения, его сущность, управляющая миром»73; «Музыка - искусство чистого движения»74).
Русский футуризм: молчание зауми
Исторически возникнув как противник символистского мировоззрения и символистской поэтики, русский футуризм не являлся чем-то вовсе символизму противным, ничем, кроме взаимной неприязни и даже вражды, с ним не связанным. Враждебность символизму и символистам декларировалась будетлянами в их манифестах, литературных выступлениях, быту, поэтика футуристов действительно существенно отличалась от символистской. Однако очень многое все же объединяло как отдельных представителей обоих движений, так и сами движения.
Во-первых, некоторые футуристы были выходцами из символистской или околосимволистской поэтической среды. Велимир Хлебников был участником сред Вячеслава Иванова, личность которого оказала на Хлебникова немалое влияние. Первая книга стихов Бенедикта Лившица «Флейта Марсия» (еще не имеющая никакого отношения к футуризму) заслужила одобрительный отзыв Валерия Брюсова. Что же до литературных симпатий и увлечений, то символистами в свое время увлекались и Хлебников, и Лившиц, и Владимир Маяковский (который, судя по воспоминаниям Лили Брик, даже в 1915 году «был еще околдован Блоком»173, а по признанию Виктора Шкловского174, любил даже и Константина Бальмонта,- автора «парфюмерного блуда», как называли его футуристы в своих манифестах175). В той или иной форме симпатии эти нередко сохранялись и после обращения в футуризм. Даже «отец-основатель» русского футуризма Давид Бурлюк признавался впоследствии, что в молодости увлекался все тем же Бальмонтом176, был «учеником русских символистов»177 и сохранил в себе черты символизма и позднее178.
Более того, одними симпатиями дело не ограничивалось. Александр Лавров утверждал влияние формальных опытов Андрея Белого (в том числе визуального ряда в стихах, графического их оформления, особого расположения текста и др.) на «постсимволизм» и в частности на Владимира Маяковского179. Владимир Альфонсов отмечает влияние на поэзию футуристов Брюсова и Блока180. Александр Парнис пишет о том, что Владимир Маяковский «постоянно "преодолевал" в себе Блока»181, Виктор Жирмунский называл Маяковского блоковским учеником182. Футуристический радикал Илья Зданевич называл Маяковского «послом символизма при дворе футуризма»183, писал: «Маяковский не имеет ничего общего с русским кубо-футуризмом, ни с будетлянами, ни с "41". Он символист»184. Лучисты в вышедшем в 1913 году (год признаваемый обычно за год рассвета русского футуризма) сборнике «Ослиный хвост и мишень»185 обвиняли футуристов в следовании символистским традициям.
Во-вторых, с течением времени в противостоянии русских символизма и футуризма вообще многое перемешалось. По словам, например, Адольфа Урбана, поэтический сборник Бенедикта Лившица «Болотная медуза» оказался чужд футуризму и «возвращал» Лившица к символистам. С другой стороны, многие поздние опыты символистов приближали их к футуристической эстетике. Вячеслав Всеволодович Иванов справедливо писал о том, что «Андрей Белый, по его собственным словам, всегда остававшийся символистом, вместе с тем в очень большой степени в лучших своих произведениях переходил стилистические границы символизма и шел гораздо дальше в том направлении "эстетического эксперимента" (его термин), который ближе всего был именно к футуризму»186, писал об «удивительном сходстве» мыслей Белого, высказанных им в «Глг ссало лии» с мыслями Велимира Хлебникова (отрицая при этом, что особенно любопытно, взаимное влияние поэтов друг на друга187). Юрий Лотман отмечал, что язык Белого «далеко выходил за границы норм символизма, приближаясь к дадаизму Хлебникова»188. Александр Лавров назвал сборник Андрея Белого «Золото в лазури» «протофутуристическим произведением». Виктор Григорьев назвал Андрея Белого «самым "будетлянским" из символистов»189. Говоря о Вячеславе Иванове, Барзах пишет: «Как это ни парадоксально, Иванов оказывается в каком-то смысле предтечей футуризма»190. Связь символизма и футуризма заключается не только в переплетении отдельных поэтических судеб, но и во взаимном обогащении одного течения за счет другого.
Для проблемы взаимосвязанности русских футуризма и символизма наиболее показательной, пожалуй, является фигура Велимира Хлебникова. В хлебниковском отношении к языку, в хлебниковской поэтике общего с символизмом очень много. Юрий Степанов в своем исследовании, в котором он выстраивает три семиотические модели, свойственные различным литературным направлениям XX века, разграничил поэтику русского символизма и поэтику русского футуризма соответственно как «поэтику имени» («семантическую поэтику») и «поэтику предиката» («синтаксическую поэтику»). При этом Степанов пишет: «о поэтике футуризма нужно судить по ее наивысшему достижению - поэтике Хлебникова»191, а на следующей странице добавляет: «поэтику Хлебникова можно назвать, так же как и поэтику символистов, "поэтикой имени"»192, объясняя, правда, что «по способам достижения цели (операции с текстом и языком) - это совершенно иная, синтаксическая поэтика, общая у Хлебникова и остальных футуристов»193. Вячеслав Всеволодович Иванов писал о том, что «подход Хлебникова к поэтическому языку всегда оставался близким к символистскому»194.
Так или иначе граница, разделяющая русский символизм с футуризмом, в действительности не была столь непроходимой, как это публично представляли обе стороны. Не даром неугомонному Давиду Бюрлюку удалось «примирить» в вышедшем в феврале 1915 года первом выпуске альманаха «Стрелец» Александра Блока, Федора Сологуба, Михаила Кузмина, Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Василия Каменского, которые, порой несмотря на собственное неудовольствие, все же все приняли в нем участие. Так или иначе историческое развитие русской литературы по линии символизм—футуризм было не только вполне органичным, но и достаточно преемственным.
Назвать русский символизм истоком будетлянской поэзии было бы неверно. Однако вполне можно говорить о схожести истоков эти двух поэтических направлений, об их переплетении.
Определить исток русского футуризма непросто. Несмотря на то, что начало его публичной истории сопровождалось выпуском многочисленных манифестов, футуризм, в отличие от русского символизма (со всеми упомянутыми в предыдущей части оговорками), не создал себе достаточно объемной и хоть сколько-нибудь стройной и единой теоретической основы, по крайней мере не сформулировал ее достаточно четко.
Обэриу: поэтика жеста
Если попытаться (безусловно, во многом искусственно) выстроить историю русского литературного авангарда первой половины XX века в некую смысловую прямую, то окончанием этой прямой, как хронологическим, так и смысловым, будет литературная группа ОБЭРИУ. Бурная жизнь русского авангарда была, как известно, насильственно прервана в 30-х - 40-х годах и нелепо, пожалуй, гадать сегодня, как бы сложилась дальнейшая судьба русского искусства, сложись по-иному история всей России. Но вот что интересно: будучи последним поэтическим объединением русского авангарда в его историческом развитии, ОБЭРИУ явилось также и неким внутренним ее завершением, своеобразным итогом пройденного авангардом пути.
Поэтика группы ОБЭРИУ, воспринимающаяся порой как явление в достаточной степени изолированное от литературно-художественного процесса России первой половины XX века, будучи вполне самодостаточной, на самом деле вобрала в себя, пожалуй, все основные элементы поэтик русских символизма и футуризма, по своему преломив их в своем творчестве и мировоззрении.
Связь ОБЭРИУ с русским символизмом гораздо более тесная, чем это может показаться на первый взгляд. Могущие показаться совершенно неожиданными слова Якова Друскина: «Введенский вышел не из Хлебникова (Крученых был ему ближе, чем Хлебников), а из Блока, которого (примерно до 1920 года) любил больше всех»336 перестают казаться таковыми при более пристальном всматривании в обэриутскую поэтику.
Основой этой связи является, пожалуй, общий для символистов и обэриутов взгляд на проблему соотношения языка и действительности как на центральную проблему литературного творчества. Общим является и рассмотрение этой проблемы в контексте ряда действительность—время—язык. Подобно русским символистам, обэриуты выстраивают следующую последовательность рассуждений: (1) бытие текуче, (2) слово статично и, следовательно, оторвано от реальности, (3) разумно-логическое познание бытия возможно только посредством с.юва, (4) разумно-логическое и, следовательно, словесное познание не способно познать бытие.
Для обэриутов чувствование движения времени - одно из существенным моментов чувствования мира. Проблема же заключается не в том, что наше сознание не успевает за временем и все наши представления есть представления о прошлом, а в том, что наше сознание, работающее посредством языка, речи, принципиально не соответствует времени. У истоков творчества обэриутов лежит уверенность в том, что слово, а следовательно и разум не соответствуют действительности, что всякая попытка при помощи языка (языка бытового, языка научного, языка искусства, внутреннего нашего говорения) приблизиться к бытию, как оно есть, обречена на неизбежную неудачу. Более того, в мироощущении обэриутов язык не только не способен помочь в продвижении к действительности, но и является гарантом ее неуловимости. Язык стоит между человеком и миром, между человеком и другим человеком, между человеком и им самим. С точки зрения обэриутов, будучи существом языковым (пленником языка), человек есть существо непонимающее. Пробуя взглянуть в истинное лицо мира (всякого предмета), человек сталкивается с вечным его ускользанием, оказывается в очередной раз отброшенным от действительности к своему языку, к самому себе. В стремлении остаться наедине с собой или наедине с миром (что, может быть, одно и то же), в стремлении заглянуть себе и миру прямо в глаза Александр Введенский и Даниил Хармс могли обнаружить лишь вечное ускользание несущейся в потоке времени действительности и вечное посредничество разума и языка, его жилища, вырастающего на месте уходящий в прошлое реальности. Именно время, как сила беспрестанно меняющая бытие, и слово, заставляющее нас иметь перед собой бытие статическое, не соответствуя друг другу, порождают безвыходную ситуацию изолированности сознания от истинного и непосредственного бытия как оно есть. Именно несоответствие языка времени является причиной, по которой обэриуты обращаются к изобретению нового языка, языка бессмыслицы.
Текучесть бытия - причина несоответствия языка действительности. Человек находится в плену языка, но находясь в этом плену, он оказывается оторванным от бытия временем, как неким стражем, охраняющим его плен. Человек находится в плену языка, но является пленником времени. Язык является для человека темницей, но именно время всякий раз возвращает нас в нее, лишь только мы пытаемся сделать первые шаги к свободе. Время - некое наваждение, ниспосланное на человека. Будучи, пожалуй, с точки зрения Александра Введенского, свойством человеческого существования («Время единственное, что вне нас не существует»337), оно обрекает человека на вечное блуждание в иллюзиях. «Время поедает мир»338, - пишет Введенский. Анатолий Александров назвал творчество обэриутов «главою, частью бесконечного повествования о разрушении " объективной видимости "»339. Если ранее мы говорили о том, что русский футуризм зародился из близкого с символистским «корня», то применительно к символизму и ОБЭРИУ можно говорить о корне, по сути дела, одном. Тютчевское «Мысль изреченная есть ложь» вполне может быть названо истоком поэтики ОБЭРИУ. «Перед тобой стоит дорога. И позади тебя лежит тот же путь. Ты стал, ты остановился на быстрый миг, и ты, и мы все увидели дорогу впереди тебя. Но вот тут мы взяли все и обернулись на спину, то есть назад, и мы увидели тебя дорога, мы смотрели тебя путь, и все как один подтвердили правильность ее. Это было ощущение - это был синий орган чувств. Теперь возьмем минуту назад или примеряем минуту вперед, тут вертись или оглядывайся, нам не видно этих минут, одну из них прошедшую мы вспоминаем, другую будущую точку воображаем. Дерево лежит, дерево висит, дерево летает. Я не могу установить этого. Мы не можем ни зачеркнуть, ни ощупать этого. Я не доверяю памяти, не верю воображению. Время единственное что вне нас не существует. Оно поглощает все существующее вне нас. Тут наступает ночь ума. Время восходит над нами как звезда. Закинем свои мысленные головы, то есть умы. Глядите оно стало видимым. Оно восходит над нами как ноль. Оно все превращает в ноль. (Последняя надежда - Христос Воскрес.)»340, - так описывает Александр Введенский потерю настоящего в стремительно складывающемся потоке между прошлым и будущим и ужас от этой потери. Близкий обэриутом Казимир Малевич (в 1926 году на своем заявлении в ГИНХУК обэриуты поместили супрематический коллаж, в 1927 году журнал «Жизнь искусства» определил ОБЭРИУ как супрематизм341) в 1920 году рассуждал о том же и почти теми же словами: «Жизнь и бесконечность для него человека - Д. М. в том, что он ничего не может себе представить - все представляемое так же неуловимо в своей бесконечности, как все.