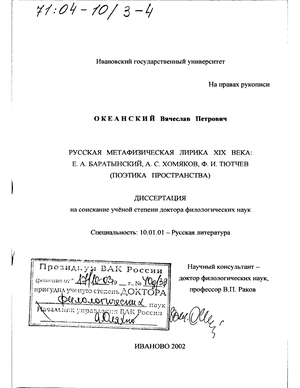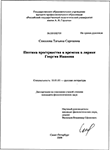Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Е.А. Баратынский: эсхатология и родина
1. Поэтическая эсхатология Е.А.Баратынского 25
2.Тема «малой родины» в поэтическом мире Е.А.Баратынского 45
ГЛАВА II. А.Схомяков: ландшафт и небо
1 . Специфика художественного пространства в лирике А.С.Хомякова 61
2.Поэтическая метафизикаm стихотворения А.С.Хомякова «Заря» 75
3.Тотальность бытийного сна в последнем стихотворении А.С.Хомякова 94
ГЛАВА III. Ф.И.Тютчев: космизм и кенозис
1 . Человек и пространство в художественном мире Ф.И.Тютчева 98
2.Символическая герменевтика стихотворения Ф.И.Тютчева «Сны» 106
3.Лексическая субстанция ТЫ в художественном мире Ф.И.Тютчева:
персонологические особенности поэтической софиологии 119
4.В.С.Соловьев и Ф.И.Тютчев: проблемы поэтической софиологии 130
ГЛАВА IV. Человек и тотальность в русской метафизической лирике XIX века
1. Антропное и космическое в культурных горизонтах Нового времени 140
2.Антропоморфология тотальности в русской метафизической лирике XDC века 146
3.Эсхатологическая мистерия «Листопада»: эзотерическая герменевтика «Осенней поэмы» И.А.Бунина 174
Заключение.
Поэтическая метафизика места:
Художественный миф и бытийный топос 185
Примечания 189
Библиография 249
- Поэтическая эсхатология Е.А.Баратынского
- Специфика художественного пространства в лирике А.С.Хомякова
- Человек и пространство в художественном мире Ф.И.Тютчева
- Антропное и космическое в культурных горизонтах Нового времени
Введение к работе
ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ И ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА
Мир субъективного создания, с его пространством и временем, также действителен, как мир внешний...
А. С. Хомяков Любая объективная история литературы построена на глубинно поставленной интерпретации — по существу, академически значимой (обоснованной и обосновывающей) теории. После выхода знаменитых работ западно-европейских мыслителей М.Мерло-Понти «Феноменология восприятия» (1945 г.) с особым разделом «Пространство», Г.Башляра «Поэтика пространства» (1957 г.), М.Хайдегтера «Искусство и пространство» (1969 г.) топологическая проблематика ныне активно транспонируется философией, искусствознанием, культурологией, не обошла она и литературоведение, о чем свидетельствует богатое наследие М.М.Бахтина, задолго и совершенно самостоятельно разработавшего глубочайшую прикладную идею «хронотопа», а также труды Ю.М.Лотмана, А.В.Михайлова, В.Н.Топорова... И однако художественная метафизика — метафизическая феноменология поэтического творчества — остается и по сей день предметной сферой, все еще не достаточно раскрытой именно в топологическом отношении. Всеобъемлющее (а именно с этим опытом прежде всего имеет дело метафизика) в слове поэта (и, по-преимуществу, поэта-романтика) становится пространством, со-размерным его душе. Это креативное событие порождает комплекс общезначимых герменевтических
проблем, весьма своеобразная возгонка которых только усиливается причастностью к русскому культурно-историческому контексту...
Художественный топос всегда отмечен человеческой странностью. Взаимопринадлежность русской поэзии XIX века и определенного культурно-природного пространства онтологически исходна и вполне очевидна; интересно, однако, что всякий раз здесь вступают в игру стоящие за словом и местом — личность и глобальное. Эвристическим решением этого взаимо-действия, отнюдь не расколдовывающим его магико-мистическую энигму, является особая форма философско-эстетического смысла — метафизическая лирика. Характерология этого квазижанрового феномена потребует предварительного обращения к онтологии и типологии культуры как метафизического целого.
Русская культура подчеркнуто антиномична: невегласие и литературоцентризм, бесформенность и ландшафтность, открытость и потаенность... Последнее качество относится и к самому существу русской тайны. Понятно поэтому обращение к нему современной русской науки о слове, ищущей самобытных оснований и ключей в мир осердеченного пространства...
Настойчивое движение гуманитарной и, в частности, филологической мысли в сторону от концептуально-теоретической магистрали научного восприятия искусства как «второй реальности» к «первичности» опыта раскрытого в нем Бытия — пожалуй, единственное, что сегодня можно реально противопоставить методологической агрессии, отчуждающей нас от предмета изучения, и неизбежно сопутствующему этому отчуждению теоретическому хаосу, фатально порождаемому логической симуляцией сути.
Эта никем еще не решенная в полноте своего онтологического замысла исследовательская задача носит в самых существенных чертах герменевтический характер и связана с непрерывно длящимся самрпониманием тотальности культурно-исторического присутствия в опыте
7 русской мысли. Впрочем, исходный масштаб этого самопонимания заведомо шире: «На почве истории литературы, — писал В. Дильтей, — у нас
развернулось философское осмысление истории»!; «История литературы, —
подчеркивал М. Хайдеггер, — должна стать историей проблем»^.
Главное, как нам представляется, препятствие на этом герменевтическом пути лежит скорее всего в обширной зоне слишком поспешного академического одомашнивания онтологии в качестве «методологической
процедуры»-*. Этому подспудно потворствует и та глобализация нашего научного знания, которая стала несомненной идеологической реальностью в
XX веке, породившей парадоксальный феномен ученого антисциентизма**... Но ведь еще покойный А. В. Михайлов своевременно предупреждал нас, теоретиков и историков словесности: «Не стоит останавливаться сейчас на проблемах методов литературоведения. По мере углубления в ту сферу, которую мы назвали основаниями науки о литературе, будет, по всей вероятности, проясняться, что сегодняшнее многообразие «методов» — дело условное и преходящее... При обдумывании сути науки о литературе, при ее осмыслении и по мере такого осмысления методы, наверное, будут отодвигаться от нас в область сугубо исторической относительности и необязательности»^.
Р. Генон, исходя из других предпосылок, говорил, что «к нашей эпохе, больше чем к любой другой, можно приложить арабскую пословицу,
согласно которой «существует много учений, но мало ученых»»**. Б. Эйхенбаум в своем «морфологическом» контексте отмечал, что «принципиальным является вопрос не о методах изучения литературы, а о литературе как предмете изучения. Ни о какой методологии мы, в сущности,
не говорим и не спорим»^. Но часто получается так, что мы читаем книги великих людей для того, чтобы поскорее забыть то самое существенное, что в них сказано.
Этой странностью отмечено и наше движение филологической мысли вокруг архипелага онтологической поэтики. Ведь по сути в онтологизме поэтики про-задумана герменевтическая активизация имманентных ресурсов самого художественного слова. Следовательно, это — не метод и, таким образом, не «субъект» и даже не «объект» исследования в ряду других возможных «объектов», но это сама «предметная» сфера, само «субстанциональное» лоно нашего научного изучения. А функцию, условно говоря, методологическую выполняет по отношению к онтопоэтике как предмету исследовательского гнозиса герменевтика — древнейшая наука о понимании и толковании. «Герменевтикой, — пишет современный ученый, — называют особый род интеллектуальной деятельности, в результате которой открытие истины осуществляется путем истолкования знаково-символической формы, прежде всего, слова. При этом слово должно рассматриваться как начало бытия, способ его самоорганизации и выражения»**.
При этом «онтологизм» выступает не как «способ» изучения слова (в ряду других таких способов), но как бытие самого слова. Нам доводилось об этом писать не раз, уже с начала девяностых годов. Например: «...поэтика фундируется очертаниями и силовым полем бытийно-исторического простора, коему имманентна и текстовая пространственность. <...> Поэтика есть структурная выстроенность в Бытии, в сущности — морфология Бытия... <...> ...онтологические глубины красоты... в Тексте Бытия... Если мы подойдем к художественно-поэтическому слову «с точки зрения» его полной самодостаточной глубины, то... ничего не найдем в нем, кроме Бытия
сущего...»^; «Слово языка указывает за пределы лингвистически понятого «языка» и трансцендентно его фактичности. Более того: в языке и слове нет ничего, кроме того, что (!) в них есть. Но в этом самом «что» опробованы
Недра Первосущности»Ю.
Есть тончайшая грань, отделяющая эту указанную нами бытийную укорененность слова от онтологической теории словесности: бытийностъ
9 слова не есть в каком бы то ни было смысле «теория»; последняя начинается с момента истолкования этой в основе своей пра-герменевтической ситуации. Глубочайшее ядро слова не «понимается», а по-имает-ся, вкушается. Локус Присутствия, его густотность или разреженность, выстроенность или распад обязательно предшествуют взыскующему осмыслению. Герменевтичность слова всегда вторична по отношению к его герметичности.
Лишь на первый теоретико-моделирующий взгляд можно фиксировать полную аутентичность вышеизложенного следующей характерологии онтологической поэтики. Например, В. П. Раков еще на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов указывал на «онтологическую теорию литературы и эстетики, исходящую из допущения тождества жизни и ее эстетической
выраженности», во многих отношениях обязанную «органицизму»И. Е. А. Трофимов в 1995 году писал следующее: «Из некоторого взаимовлияния разных теоретических составляющих возникает массив ОНТОПОЭТИКИ: понять через художественность бытие, раскрыть бытие через язык, прояснить логосность литературы. Онтопоэтика имеет вполне зримый круг идеальных границ: вся христианская словесность, в центре которой — Библия; от нее истекает определяющее значение для художественного смысла, образа, мотива, композиции, сюжета и прочих поэтических средств. Онтопоэтика — поэтика Бытия, ставшая художественной реальностью»^, н. П. Крохина, рассматривая функционирование «мифа в системе культуры» и следуя самым последним культурологическим веяниям, сближает понятия «эзотеризм» и «онтологизм»: «Кроме видимой, — пишет она, — явленной объективной реальности, человеку открыта другая реальность — сущностная, онтологическая, потенциальная, тайная, скрытая реальность — природа вещей»13.
В трех вышеприведенных вариантах основания для онто-логии различны. В первом, строго говоря, это — онтизм, во-площенность, телесно-вещественная выраженность. (Любопытно, что в таком же ключе предлагает
10 понимать онтологическую поэтику московский исследователь Л. В. Карасев,
несмотря на то что после переводов М. Хайдеггера и М. Бубера^^ современная гуманитарная наука никак не может согласиться с таким отождествлением Бытия и Сущего, онтологического и онтического. Справедливости ради надо отметить, что сам Л. В. Карасев независимо от
других ввел в научный оборот термин «онтологическая поэтика» 15? хотя нам ближе восприятие этого идиоматического словосочетания скорее как гносеологически-продуктивной ключевой метафоры*6, нежели как нового термина с «авторской родословной»... Верификация последней весьма проблематична.) Во втором варианте — это «библейский Логос», задающий смысловую перспективу так называемой «христианской словесности». В третьем — основанием для онтологии является сокрытая сущность вещей. Однако, при всей приемлемости и продуктивности подобных герменевтических линий — онтической, логоцентрической и эзотерической — в разнообразных частных случаях исследования тех или иных текстов, «основа» нашего восприятия онтологической поэтики все-таки является иной. Но об этом — ниже.
Перечисленные «теории» прежде всего объединяет вера в возможность адекватного метода, на основе которого начинает моделироваться предметная сфера. Однако, как нам представляется, это-то как раз и мешает понять сам предмет нашего изучения — онтологическую поэтику русской литературы, бытийную метафизику русского слова, его поэтическую онтологию. Действительно, последнее вносит тот существенный поворот мысли, благодаря которому мы, наконец, за строительными лесами всевозможных «поэтик» начинаем видеть искомое и чаемое: сущность слова залегает в его бытийной существенности! Во всяком случае, это так применительно к русской литературе^7.
Речь идет прежде всего о коренном онтологизме русского слова, если исходить из того исконно греческого понимания онто-логии, которому нельзя навязать наши сегодняшние побуждения, не потеряв при этом
путеводной нити. Онто-логия есть такая собранность Сущего в Бытии, которая может осуществиться-сбыться лишь благодаря Логосу, впервые сопрягающему Всё как Целое из многообразия его ликов и качеств, переходов и путей, из тьмы вещей и царящего различия их явлений. Русское слово всегда со-мирно, и в этом его метакультурное родство с древнегреческими языковыми («логоцентрическими») возможностями.
Индоевропейская (а в символико-эзотерических истоках, наиболее отчетливо артикулированных именно древними греками, арктически-гиперборейская) макроисторическая генеалогия этого «древнегреческого» Логоса делает исторически возможным само восприятие мира как художественного произведения Бога уже в более позднюю риторико-классическую культурно-историческую эпоху, когда слово одновременно становится фонологоцентрично и софийно. «Слово есть мир, — пишет о. Сергий Булгаков, — арена самоидеации Вселенной»!**. Словесность обнаруживает таким образом свою философическую природу. Слово, собирающее мир, софийно: «Все сущее в Бытии едино, — пишет М. Хайдегтер, — все сущее есть в Бытии. <...> При этом «есть» является переходным глаголом и означает «собранное». Бытие собирает сущее как сущее. Бытие есть собирание — А.оуоо\.. Именно то, что сущее появляется в свете Бытия, изумило греков, прежде всего их, и только их. Сущее в Бытии, — это стало для греков самым удивительным. Философия ищет, что есть сущее,
поскольку оно есть. Философия находится на пути к Бытию сущего...»19.
На северную арктическую прародину этого универсального Пути евразийской прото-метафизики более отчетливо, чем древнекитайские,
древнеиндийские и древнеиранские мифы^О, указывает как раз цикл древнегреческой мифологии, связанный с особым почитанием покровителя красоты Аполлона Гиперборейского, совершающего периодические странствия в сопровождении белых лебедей на Северный полюс земли, в страну его матери — богини Лето.
12 Если принять точку зрения М. Хайдегтера, что «метафизическое поведение
есть исторический продукт»^, то его стадиальное развертывание может быть понято следующим образом: из древнейшего ритуального жреческого знания происходит выделение особой, не сводимой к ритуалу эзотерической мудрости, связанной с универсальной софийной ориентацией человека в мировой глобальности; на почве виртуализации этой мудрости совершается рождение философии. Параллельно этому процессу изнутри языка открывается способность формулировать словесные пред-ставления о мире — начинается переход от дориторической стадии культуры к риторической^, от «доосевых» культур к «осевому времени»23. Собственно, впервые в истории словесно формируется образ мира. По всей видимости, предпосылки этого заложены значительно раньше новоевропейской войны за «картину мира». Сомнительно в этой связи сужение историософского масштаба, проводимое М. Хайдеггером от работы «Учение Платона об истине» (1930) к более позднему труду «Время картины мира» (1938)24. На мир покушались уже греки...
Любопытно, однако, что почвой для риторики оказывается пред-варяющее мифологическое господство глаза — приоритетность зрения над другими способами рецепции Бытия. Д. Л. Попов удачно называет это «световыми (или оптическими) интуициями»25. Здесь необычайно важную роль играет так называемый индоевропейский макрокультурный контекст, именуемый нами «ариософией»26, и прежде всего его языковая почва — санскрит. Язык отмечен здесь господством «видения» и «созерцания», регулятивно подчиняющих себе оптически дифференцированную тотальность Сущего. Это господство зрения (мышления как языкового видения: умо-зрения, мировоззрения, бого-узрения; состояние же гносеологической помраченности расценивается как «а — видья»), помимо позитивных точек отсчета, сформировавших современного человека в том виде, в каком он есть на
із
протяжении как минимум трех последних тысячелетий, обнаруживает глобальный утопизм.
«Картина мира», понятая в лучах исторической истины, отнюдь не та или иная панорама Бытия-в-Целом, но герменевтическая идиома, исходно стоящая под вопросом: почему, собственно, картина, а не, допустим, музыка или даже запах? вкус1? событие? Мы ведь не только зрим, вслушиваемся или вдыхаем мир, проникая в его потаенные недра, — непрерывно происходит в-кушение мира, встреча с миром, опробованным на вкус... Поэтому миро-вос-при-ятие — суть более глубокое и обширное по своему регистровому диапазону ключевое слово для освещения вопросов онтопоэтики, нежели миро-воз-зрение27.
Но, с другой стороны, мир ведь не только ре-цепция, но и ре-продукция: потенцирование наших «я», «ты», «они», «мы»... Мир сбывается, со-бытие мира про-ис-текает из взаимо-согласованности всех этих составляющих: как ре-цептивных, так и ре-продуктивных. В благодарение за Дар Божий мы, ответствуя, дарим самих себя. Понятно, что такой мир не может быть бесчеловечен. Напротив, мир с-бывает-ся лишь как человеческий, экзистенциально-одомашненный мир. Вселенная бытийно замкнута на человека: в современной космологии этот внеастрофизический фактор именуется «антропным принципом»28. и этимологическое значение самого слова «в-селенная» — не только «святая», «причастная свету» (в основе древлеславянских лексем «всё», «все» лежит световая интуиция, несколько ретушированная перестановкой согласных), но и — на-селенная... Исследователь русской древности И. К. Кузьмичев, указывая на то, что
«славяне называли мир светом»^, пишет: «Слово мир общеславянское. Оно имеет, по крайней мере, три основных значения: а) люд, народ; б) покой, согласие; в) свет, Вселенная. Употреблялось оно на Руси и в смысле судить, рядить миром»30. Далее обращается внимание на индоевропейское «этимологическое тождество мир и слав»: «А. А. Куник, опираясь на этимологию немецкого языка, пришел к заключению, что мир и слав —
14 одного значения, что более ранняя форма мир (покой) была заменена на
слав»31. Но самое удивительное то, что вся эта многопроблемная сфера миро-логии про-задумана в русском слове, которое само по себе, как никакое другое слово, имеет исходную пред-рас-положенность к за-думчивости об этих вещах. «В представлении русских, — пишет В. П. Раков, — язык слишком экзистенциален, чтобы филологи, берущиеся за его изучение, могли относиться к нему сугубо прагматически или формально»32.
Очевидный факт русской литературоцентрической культуры — миро-при-ятие-в-слове, которое обретает мистериальные черты... Необходимо обратить особое внимание на интереснейшее явление семантической диффузии древнерусского слова «мир», определившей во многом специфику православия на русской почве и почти магической власти самого имени «мир» в русском сознании: «...древнерусскому образу мышления было свойственно синкретическое понимание мира, в котором согласие выступает принципом связи отдельных частей: мир — это то, что связано согласием, а также и само согласие»335 — подчеркивает А. М. Камчатнов. Мир в смысле метафизическом, как Божье творение, и мир в смысле экзистенциальном, как область, пролегающая меж людьми и Богом и, следовательно, разделяющая их, — в русском сознании неотрефлектированы и отождествлены. Отсюда вытекает тенденция к «приятию мира»34. Она обусловлена во многом и чисто языковым фактором, усугубляющим «мироприятие»... Таким образом, последнее объясняется отнюдь не только православной ориентацией на эллинскую культурную традицик>35.
Как показывает А. М. Камчатнов, в слове «мир» изначально присутствовал синкретизм двух значений — совокупность и согласие. В России лишь с XVIT века и только до реформы 1917-1918 годов эти значения было принято выражать на письме двумя разными словами: «мірь» и «миръ» — соответственно греческим лексемам: о коо~ц.о — космос, вселенная, свет, мир в целом, материальный мир, стихии мира, земля (с распространением
15-христианства на греческом языке это слово у отдельных церковных авторов стало приобретать отрицательную окраску, означая мир падший, лежащий во зле...) и eipt|vn —тишина, спокойствие, покой, согласие. «Таким образом, — пишет Камчатнов, — те смыслы, или семемы, которые в греческом языке выражались разными лексемами, в славянском переводе Нового Завета были
выражены одной лексемой»36.
Приведем также очень интересную в данном аспекте цитату из замечательной книги В. В. Бибихина с характерным названием «Мир»: «Русский язык занимает, — подчеркивает мыслитель, — исключительное положение... благодаря смысловому размаху слова «мир». Мы пытаемся осмыслить этот размах, до сих пор редко останавливавший на себе внимание пишущих. Сергей Георгиевич Бочаров в статье «"Мир" в "Войне и мире"» (в сборнике «О художественных мирах», 1985, издательство «Советская Россия») замечает, что Толстой в заглавии своего романа имеет в виду мир — как это ни странно — в обоих значениях слова. «Это соединение значений "eirene" и "космос" в смысловой емкости одного слова — уникальное свойство русского (шире — славянского) "мира", не имеющее аналогий в западноевропейских языках. Лучше всего выявляется эта полнота значений слова "мир" в понятии крестьянского мира — сельской общины: это одновременно "все люди", малая вселенная, и мирное, согласное сообщество людей — сообщество и согласие» (с. 232). Бочаров ссылается на статью Владимира Николаевича Топорова «О семиотическом аспекте митраической мифологии (т. е. мифа индо-иранского Митры, посредника между богами и людьми. — В. Б.) в связи с реконструкцией некоторых древних представлений» (в кн.: Semiotyka і struktura textu. Warszawa, 1973. S. 370), где Топоров пишет: «Славянская (в частности, русская) традиция уникальным образом сохраняет трансформированный образ индо-иранского Митры в виде представлений о космической целостности, противопоставленной хаотической дезинтеграции, о единице социальной организации, возникшей изнутри в силу договора и противопоставленной внешним и недобровольным
объединениям (типа государства), наконец, о том состоянии мира (дружбы), которое должно объединять разные коллективы людей в силу Завета, положенного между людьми и их верховным патроном»»37. в. В. Бибихин отмечает, что «значение — мир как община — похоже, очень старо, и его нужно отличать от позднего евангельского «мира» как «мира сего», противопоставляемого «будущему веку»... Называя общину, общество миром, наш язык ставит опыт мира в связь с нашим отношением к другим людям»38.
«...В писаниях основателей пустынножительства (Антония Великого, Макария Египетского и др.) нередко выражается мысль о необходимости презрения к миру, космосу, ради сбережения согласия с Богом, душевной тишины и покоя», — справедливо утверждает А. М. Камчатнов, далее, однако, замечая: «Для русского языкового сознания такой ход мысли был затруднителен, ибо две противоположные смысловые тенденции совершались в пределах одного слова и противоречие между миром, связанным согласием, и миром, пораженным грехом и следствием его — рознью, должно было переживаться очень остро. <...> ...славянский Апостол предписывал одновременно любить мир (Рим., 14 : 19) и не любить мир (Ио., 2 : 15)... Выход из этого противоречия русская православная мысль нашла в идее преображения мира»-*9.
Самые различные русские мыслители начала XX века оказались очень восприимчивы к этой идее. «Тот, кто хочет творить христианскую культуру, — считал И. А. Ильин, — должен принять для этого и самый мир,
созданный Богом...»40 «Православие, — отмечал на свой лад И. Л. Солоневич, — отличается от остальных христианских религий, даже и догматически, тем, что оно «приемлет мир»...»41 «Истины антропологии и космологии, — писал между тем Н. А. Бердяев, — не были еще достаточно раскрыты христианством вселенских соборов и учителей Церкви... Церковь космична по своей природе, и в нее входит вся полнота бытия. Церковь есть
17 охристовленный космос»43. «Православие есть любовь к красоте, — подчеркивал в софиологическом ключе о. Сергий Булгаков, — любовь к ней требует, чтобы вся жизнь была пронизана ею, что и составляет суть православия. Это стремление выражается в богослужении, которое нужно понимать как переживание небесной красоты, как теургическое пресуществление жизни. Отсюда желание видеть освященным все, до государства включительно, которое должно быть не «кесаревым», а «царским-миропомазанным». Энергией благочестия всегда является аскетизм... Русский аскетизм исходит из мотива явить на земле Царство Божие... он не отрицает мира, но все объемлет. Символом его является икона Богородицы на нивах (осеняющая сжатые снопы), стоявшая в келье старца Амвросия Оптинского (1812-1891)»43.
Близкие идеи развивал в конце XIX века В. С. Соловьев, придя к ним главным образом через Ф. М. Достоевского и Н. Ф. Федорова. Но восходит такое «мироприятие» в русской культуре XIX века, безо всякого сомнения, к А. С. Хомякову, о чем свидетельствует не только его богословие и религиозно-философская публицистика, но и лирика, например, стихотворение «Видение» (1840 г.):
Весь мир лежит в торжественном покое, Увитый сном и дивной тишиной; И хоры звезд, как празднество ночное,
Свои пути свершают над землей**.
Таким образом, преображенный и, следовательно, спасенный мир, мир в его восстановленной цельности, а значит, целительный мир проистекает от русского слова. Вместе с тем необходимо указать и на одно субстанциальное качество, позволяющее судить о русском языковом мышлении как о радикально-утопичном и даже — анахроничном, архаическом, «детском»45.
Речь идет об особой, визуально-пространственной, ориентированности русского слова, где доминантой оказываются не «историческое становление» и не логико-смысловая «вертикаль», как в западноевропейском метакультурном округе, но распростирающиеся-в-ширъ «равнина», «долина», «степь» — субституты горизонтального апофатического символизма, снимающего устойчивое для средиземноморских культур напряжение между «временем» и «вечностью».
«Среди народов Запада, — отмечал О. Шпенглер, — именно немцам выпало на долю изобрести механические часы, зловещий символ убегающего времени, чей днем и ночью звучащий с бесчисленных башен над Западной Европой бой есть, возможно, самое неслыханное выражение того, на что
вообще способно историческое мироощущение»^^. С другой стороны, А. А. Фет в стихотворении с характерным (а-хронным\) названием «Никогда» великолепно прорисовывает антонимическую модель, связанную с использованием топологической метафоры (победа русского пространства над мировым временем):
Бегу. Сугробы. Мертвый лес торчит Недвижными ветвями в глубь эфира, Но ни следов, ни звуков. Все молчит...
Куда идти, где некого обнять, -
Там, где в пространстве затерялось время?
Вернись же, смерть...^
Отметим, что культурогенный пространственно-морфологический фактор новой русской литературы набирает силу при высвобождении от эстетических оков романтического схематизма, всегда подключавшего отечественных авторов к мистериальному опыту Западной Европы, по
которому и сегодня свежа тоска... Тем не менее он, этот фактор, вполне очевиден уже в русской классической словесности: например, у Тургенева, Некрасова, Достоевского, Чехова, Блока, Бунина — вопреки различию индивидуальных стилей, вполне органичному для эпохи антириторического слова. Из современных авторов, как нам представляется, отмеченный пространственный морфологизм наиболее проявлен в прозе Мамлеева...
Здесь не место останавливаться дальше на этом интересном вопросе, но заметим, что русское словесное миро-видение при всей его топологичности радикальным образом отличается от архаического «доосевого» культурного опыта, ибо возникает на «почве», исторически профундированной средиземноморским Логосом, однако полагает себя как Иное — не чуждое ему, но и не совпадающее с ним. В традиционной трехчастной концепции макроисторической типологии художественного слова (дориторическое слово-вещь-миф — риторическое слово-регулятивно-типизирующий-стиль — антириторическое слово-релятивно-индивидуальный-стиль) русская классическая словесность (в отличие, например, от древнерусской, впрочем, имеющей свои яркие интонационные особенности) занимает совершенно специфическое и лишь отчасти со-относимое с ней место. Если данная научная типология «работает» на европейском, уходящем корнями в античность, макрокультурном масштабе, укрупняющемся до индоевропейских горизонтов, и спроектирована прежде всего на бытийный фактор времени, выражающийся в первую очередь повышенной рефлексией относительно динамики исторических изменений, то русское литературное слово, исторически со-относимое с антириторической стадией по мере причастности европейской культуре (что нелепо было бы отрицать), тем не менее ориентировано прежде всего на топос, на свое собственное пространство, которое, по крайней мере изнутри этого слова, не подвержено темпоральному выветриванию и исторической девальвации. И поэтому необходимо в качестве предмета нашего осмысления и научного изучения
20 говорить об особой метафизической форме русского художественного
слова...48.
Претендующая на роль будущей синтетической сверхнауки современная синергетика, возникшая не в гуманитарном русле (а конкретнее — из термодинамики и физики неравновесных процессов), но все более входящая, хотим мы того или нет, в наш научный и интеллектуальный оборот, оперирует в ряду прочих новых терминов (вроде бифуркации) интересным понятием, выраженным топологической метафорой «стрела времени», что предполагает направленность и необратимость совершающихся в мире изменений4^. Пространственно это выражается в известной асимметрии правого-левого, в неоднородности и анизотропности мирового пространства, где свойства Большой Вселенной отнюдь не одинаковы по всем направлениям, а крупномасштабная космологическая структура представляет собою скорее «хаосмос» энергий, нежели «космос» в исконно античном смысле. Такая метафизическая ситуация имеет поучительные аналоги в русском культурном пространстве, где различные направления приводят к разнородным качественным состояниям: «Направо поедешь — себя спасать, коня потерять. Налево поедешь — коня спасать, себя потерять. Прямо поедешь — женату быть».50 Известно, что Иван-царевич идет путем смерти. Между тем русское пространство неевклидово... Герой обретает счастье. «Русские, — писал О. Вейнингер, — самый негреческий (неклассический) народ из всех народов».51
Нигде таким интимно-осердеченным образом не связаны художественная словесность и метафизическое философствование, как в русском культурном мире. А. Ф. Лосев в работе «Русская философия» писал об этом так: «...русская философия является насквозь интуитивным, можно даже сказать, мистическим творчеством, у которого нет времени (курсив наш. — В. О.), а вообще говоря, нет и охоты заниматься логическим оттачиванием мыслей»52, «Русская художественная литература — вот истинная русская
21 философия...»53, — говорит мыслитель, подчёркивая далее, что «художественная литература является кладезем самобытной русской философии. <...> ...В творениях Тютчева, Фета, Льва Толстого, Достоевского, Максима Горького часто разрабатываются основные философские проблемы, само собой в их специфически русской... форме».54 ю. В. Мамлеев в метафизическом трактате «Судьба Бытия» приводит весьма схожие глубинные наблюдения: «В подтексте классической русской литературы (от Гоголя до Платонова), видимо, лежит глубочайшая метафизика и философия, которые, однако, зашифрованы в виде тончайшего потока образов. В этом смысле русская литература несет в себе философию значительно, на мой взгляд, более глубокую, чем, например, собственно русская философия (от Чаадаева до Бердяева и Успенского и т. д.), — так как образ глубже идеи, и именно образ может лучше всего выразить весь таинственный подтекст русской метафизики»55. Писатель, долгое время проживший на Западе (США, Франция), а ныне преподающий религиозную философию индийского Востока, отмечает, что «познание России в целом, во всех ее безднах и глубинах... невозможно на уровне западной философии (она слишком рационалистична и поверхностна для этого) — здесь нужна... всепроникающая мощь восточного, в первую очередь индусского метапознания».56 Вместе с тем он указывает и на то, что «в основе русской литературы лежит грандиозная, еще не раскрытая, философия жизни, которая постепенно расширяется до бездн метафизики. Границы этого расширения не определены и не могут быть определены. Но ее «подтекст» связан как с непрерывно углубляющимся пониманием России, так и, по крайней мере, со специфической концепцией человека... Русский писатель стоит, таким образом, перед лицом Сфинкса (Россией). Но этот Сфинкс одновременно находится и внутри его души».57
Вот в этой мистериальной области прежде всего нам видятся будущие перспективы изучения онтологической поэтики русского слова —
22 метафизического континента, потаенного в недрах нашей литературы. При таком онтологическом со-пряжении и со-проникновении философии и словесности в пределах того культурно-исторического присутствия, которым является Россия и носителями которого являемся мы сами, уместно, как нам представляется, усиление и чисто культурологического опыта изучения литературного творчества, традиционно уже связанного с именами М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, А. В. Михайлова, В. Н. Топорова, Г. Д. Гачева, В. В. Бибихина... При этом можно говорить об особой культурологической поэтике макроисторических констант, вовлеченных в динамическое взаимодействие и формирующих метахудожественную структуру. И существенны в данном случае не столько различия предпосылок, сколько побуждение и негаснущий порыв к осмыслению.
Ведь сложность — это не антоним простоты, но, скорее, то исходное, в дебрях которого простота прощается. В науке слишком много было и «живой жизни», и «мертвой воды» — нужна живая мысль...
Активизация онтологических подходов к изучению русской литературы, ставшая заметной научной новацией за последние годы, постепенно подводит филологов, теоретиков и историков словесности, к несомненному качественному сдвигу в самой постановке проблем онтопоэтики: выясняется, что за искомыми сущностно-содержательными доминантами, за их диспозициями и функциональностями, за самим «образом времени» скрывается более изначальная данность — язык пространства. На это
обратили внимание уже структуралисты (например, Ю.М. Лотман^^), однако онтологическая наполненность данного фактора осталась за пределами их рефлексии. Любой прикладной тезаурус показывает, что наиболее значительную часть поэтической лексики составляют топологические
образы.59 Язык, согласно Хайдеггеру, исходно топографичен.60 При этом в настоящем случае нас интересует прежде всего антропологическое своеобразие художественного слова как места встречи поэта и мира, авторская синхроэкспликация глобального хронотопа.
23 Наше герменевтическое исследование метафизической лирики Баратынского, Хомякова и Тютчева на предмет художественной топологии исходно предполагает дифференцированное со-отнесение их художественных миров на фоне общеевропейского культурного кризиса (сопоставительного исследования этих трёх поэтов до нас ещё не предпринято, хотя сближение их было намечено уже в аксаковской
биографии Ф.И. Тютчева 1874 г.^1). Поскольку поэтика интересующих нас авторов метафизически ориентирована (по сути это художественное слово, понимающее себя в мировом пространстве, не равнодушное к его направлениям и трансформациям), мы выдвигаем гипотезу об особом тематическом направлении в русской поэзии и характере его эволюции.
Особо отметим, что жанрово-родовые и тем более стилевые вопросы (с учетом специфики нашего подхода и характера самого материала) отнюдь не выпали из нашего поля зрения, хотя и несколько отошли на второй, коннотативный, план (см. заключительную главу нашего исследования). Дело в том, что «ситуация литературы XIX в., индивидуально-творческая поэтика приводят, — как давно было отмечено в академической науке о словесности, — к радикальному переосмыслению традиционных жанров... Романтикам виделась в идеале внежанровая и внеродовая поэзия. Ламартин в «Судьбах поэзии» настаивал, что литература не будет ни лирической, ни эпической, ни драматической, ибо она должна заместить собою религию и философию; Ф.Шлегель полагал, что «каждое поэтическое произведение — само по себе отдельный жанр».
Практически предпочтительными становятся личностные жанры...»62 Тем не менее, резонно здесь говорить именно о квазижанровых и даже псевдородовых синтетических направлениях, возникающих по линиям разрушения нормативных границ риторико-классической культуры. Так, метафизической правомерно будет назвать ту часть философской лирики, поэтическая онтология которой обращена к тотальности и её топологической экспликации. Отметим также, что в сферу нашего внимания
24 не входило установление герменевтических аналогий с выделяемой в западном литературоведении «метафизической школой» английских поэтов-маньеристов XVII века. Это могло бы стать особой интересной и совершенно отдельной темой культурологической компаративистики и генетического литературоведения, однако далеко уводящей за пределы означенной в нашей работе предметной сферы — поэтика пространства в русской метафизической лирике XIX века (см. приложение к библиографическому разделу «Научно-теоретическая, исследовательская, критическая, проблемно-познавательная и справочная литература»).
«Метафизику, — писал М.Хайдегтер, — можно определить как
встраиваемую в слово мысли истину о сущем как таковом в целом»63. С другой стороны, в опыте художественно-философской реальности метафизика предстаёт по преимуществу как «архитектонический идеал» и «метафора ландшафтного мира»64. «Выражение окружающий мир, — согласно Хайдеггеру, — содержит в этом «окружающий» указание на пространственность. <...> принадлежащий окружающему миру пространственный характер проясняется скорее только из структуры мирности»65.
В нашем случае мы, как уже говорилось, имеем дело с ярко очерченными индивидуально-авторскими художественными мирами, что обусловлено прежде всего культурно-историческими особенностями эпохи — временем, в которое интересующие нас авторы жили. Вместе с тем, в творчестве этих поэтов поднимаются темы, способные в ансамбле составить по мере удалённости в истории некую парамифологию Нового времени. В основе её лежит определённая эго-логия тотальности, обращающаяся в непроходимую проблему трансцендентализма, а в пределе — эстетического солипсизма. Многоплановое обращение поэтов к опыту сакральных традиций не столько решает эту проблему, сколько оттеняет метафизическую специфику каждого из них.
Поэтическая эсхатология Е.А.Баратынского
«Мысли поэта, выраженные в его произведениях, есть исповедь его, хотя часто сам писатель не сознаёт этого,» — писал оптинский старец Варсонофий, делая весьма поучительное замечание о русской литературе: «Из наших русских писателей чуть ли не более других искал Бога Пушкин, но нашёл ли Его, не знаю.»66 Искание Бога и трагическое переживание Бого-отсутствия — не что-либо ещё! — составляет метафизическую (и — метаисторическую!) основу поэзии Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844). Известная биографическая драма, связанная с «финляндским изгнанием» (1816-1825 гг.) и характеризуемая часто как «жизненная подоснова его элегических раздумий» , экзистенциологически вплетается в эту глобальную канву. Судьба поэта пред-решает не только биографические катаклизмы, но и профетически освещает культурно-историческое движение надолго вперёд: в судьбе поэта раз-решается грядущее...68 Такое понимание поэзии имеет романтические корни, идущие от Новалиса, Гёльдерлина — вплоть до Рильке и Хайдеггера. Наш современник знаменитый русский филолог С. С. Аверинцев также пишет: «Мне совершенно чуждо намерение выводить творчество из внешних обстоятельств жизни поэта. Соблазнительнее, на худой конец, объяснять из творчества биографию, как его, творчества, подсобный черновик. Но это было бы уж черезчур похоже на брюсовское «всё в жизни лишь средство...» Нет, не средство — иначе поэт был бы распластан в двухмерной плоскости «литературы». Когда Жуковский и Брентано ищут умиротворения и отречения от страстей в Боге, я отказываюсь видеть в этом внутрилитературное событие, то есть, прости Господи, что-то вроде «приёма». Но я не могу не видеть, как они и здесь оставались поэтами — пожалуй, к несчастью для покоя своих душ. Равным образом я — враг слишком некритического сближения, чуть ли не отождествления биографии с творчеством и творчества с биографией: при этом приходится нещадно упрощать творчество и ещё более нещадно стилизовать биографию. Однако я верю, что так называемая психология поэта и его поэтика — две проекции на плоскость одного и того же морфологического принципа (как сказал бы Мандельштам, формообразующего порыва). В этом, но только в этом смысле представляется возможным пояснить психологию — поэтикой, поэтику — психологией. Когда поэзию пытаются замкнуть на биографию поэта, что может получиться, кроме — короткого замыкания?»69
Сфера нашего внимания — не биография, тем более — не метафизическая разрешённость в запредельности конкретной земной судьбы; но — исповедальный ансамбль смыслов, имманентная герменевтика художественного слова, конкретнее — эстетическая историо-космо-софия лирики Баратынского, выступающая, правда, в негативной — инволюционной и антикосмистской — форме...
Принято рассматривать поэтические тексты интересующего нас автора как «философические раздумия»70, а самого Баратынского — как «поэта мысли» (Белинский) !, между тем как его собственное восприятие «любви к мудрости» вносит здесь важное уточнение: «Искусство, — утверждает Баратынский, — лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни... ... ... самые мрачные поэты могут сохранять бодрость духа.»72
Мудрецы, гностики, познавшие неизменную «сущность вещей» — вызывают недоверие у поэта:
Жизнь, определенная через «тревогу» и «волнение», представляет собою область метафизической неустойчивости, зыбкости, «заброшенности»...
Уже в раннем стихотворении «Рим» (1821 г.) поэт проводит мысль о призрачности глобальных исторических свершений: ...был ли... Рим? — Рим... забыли боги... Он обращается к «вечному городу», «саркофагу погибших поколений»: ...нараспутий времён Стоишь в позорище племён... и находит в нём символ «судьбы... всех держав» (89), но — вместе с тем — «призрак-обвинитель»: «немые развалины» Рима обвиняют тех «сильных мужей», которые тщетно связали с его именем свои метафизические надежды.
Стихотворение «Истина» (1823 г.) проникнуто характерным для Баратынского гносеологическим пессимизмом, окрашенным в эпикурейские тона, что сближает его с Батюшковым. Но если для последнего человек изначально обречён на полный агностицизм: «И смерть ему едва ли скажет, /Зачем он шёл долиной чудной слез...»74 То для Баратынского смерть — хранилище истины о бесцельности существования: «В пустыне бытия... цели нет»(104). Вместе с тем поэт показывает сложность переживания этой экзистенциальной катастрофы, ибо «души разуверенье/Свершилось не вполне» и «слепое сожаленье / Живёт о старине», о «младых снах» и «надеждах» на близкое «счастье».
«Узрение истины» — «роковой гостьи» — опрокидывает, однако, все сентиментальные упования и обещает иное утешение, весьма близкое буддийскому пониманию нирваны (nirvana — санскр., букв.: угасание, охлаждение): ...со мной ты сердца жар погубишь... ...разлюбишь И ближних и друзей.
Условно персонифицированная истина предлагает поэту стоический идеал философской атараксии — бесстрастия, но более близкого к выходу из кармических цепей «сансары» в индусской традиции, нежели к просветляющей «исихии» — бесстрастию восхищенного безмолвия у православных мистиков. «Привет» истины «печален»: Я бытия все прелести разрушу,
Но ум наставлю твой; Я оболью суровым хладом душу. Но дам душе покой. (105) Этот печальный нирванический покой бездоннее христианского ада, и поэт, преданный бессмысленному волнению жизни, отвращается от него:
Специфика художественного пространства в лирике А.С.Хомякова
Мир поэта есть онтологически организованный стиль. В романтической поэзии он имеет рельефно выраженные индивидуальные черты при известном конструктивно-композиционном схематизме. Стихотворения Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) в значительной степени представляют собою некие лирические философемы, ибо практически всегда их почвою оказывается готовая мысль, ее эстетическая экспликация. Однако мысль у Хомякова не стремится покинуть художественное пространство, но поэтически во-площается, становясь ословесненным гармоничным телом. Вместе с тем, изящная статуарная выраженность, формальная отточенность здесь выступают отнюдь не признаком главенства формы на почве смысловой инфляции, но совсем напротив — свидетельствуют именно о готовости мысли, пред-данности со-держания — идеи, которой подчинено все.
Стихи Хомякова в полном отличии от стилевой манеры его «витальной» публицистики отличаются стройной композиционностью. Славянофил Хомяков, как доктринальный анти-западник, был противником систематизма и рационализма в науке и философии, но, как имплицитный «западник» 126? последовательным «рационалистом» в своих стихах: «...беда в том, — отмечал В.В.Зеньковский, — что Хомяков не смог выпутаться из сетей трансцендентализма»! Вместе с тем, не следует забывать, что мифологический генезис «трансцендентального субъекта» не изоморфен истории западной культуры, поскольку «беда» имеет общеарийские, индоевропейские корни. «Без притворного смирения я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслию, т.е прозатор везде проглядывает, и следовательно должен, наконец, задушить стихотворца..,»129} — откровенно признается Хомяков, давая себе слишком суровукД О оценку, в январском письме 1850 г., адресованном А.П. Попову. Уже одно только это признание побуждает нас фокусировать свой интерес на том, что же «мыслилось» автору в его «хороших стихах», а не столько на формальной стороне дела, «приемах» и т.п. Таким образом, на первый план выводится аспект поэтической субстанциальности мышления... Однако, само это «держание мыслью», о котором говорит Хомяков, безусловно, есть определенная художественная манера с ее собственной поэтикой и аксиологией. Разумеется, самих этих «внутренних ресурсов» индивидуального стиля никогда не бывает достаточно для метафизического раскрытия той жизненной и, соответственно, художественно-философской парадигмы, к которой они телеологически обращены и с которой онтологически связано их содержание. Есть плодотворное напряжение между имманентным и трансцендирующим в поэзии, вообще — в художественном слове. Существование произведений всегда больше их морфологической фактуры. Подобно весенним ставням произведения открыты, «выставлены» — в мир...
Прежде всего бросается в глаза ландшафтностъ лирики Хомякова. И обусловлена она не само-проступанием ландшафта, как, например, в «Книге картин» Рильке131? но таким немаловажным аспектом хомяковского творчества, как авторская позиция, которая несёт на себе антропоцентрическую печать леонардовской ренессансной метафизики:
И полный сил, торжественный и мирный. Я восстаю над бездной бытия... (117) 132
Точка зрения автора заявляется... с высоты орлиного полёта: пел — и Обь, Иртышь и Лена В степях вилися подо мной; Белела их седая пена, Леса чернели над волной. (110) «Поэт, — отмечает Б.Ф.Егоров, — ищет гармонию и счастье над бытом, над миром, оказываясь вдохновлённым на творчество... При этом Хомяков мыслит возвышение над суетным бытом не только идеальное, но и, так сказать, материальное, пространственное — отсюда постоянный образ орла, парящего высоко над землёй: ...с выси небосклона Отрадно видеть край земной И робких чад земного лона Далёко, низко под собой.
(«Жаворонок, орёл и поэт») Возвышение над миром и твёрдая уверенность в божественной природе вдохновения придавали поэтической речи Хомякова торжественность, а также глубокую архаичность стиля...».133
ЛЯ.Гинзбург в работе «Опыт философской лирики» так же отмечает «архаические черты в творчестве Хомякова» 134? с которыми связано обилие церковнославянской и античной лексики... Однако, Б.Ф.Егоров, ссылаясь на рукопись Т.А.Николаевой, приводит в качестве «наиболее излюбленных понятий автора» следующие: «небо, бог, сердце, душа, мир, сила, песня»!35 Мы видим в этих первичных именных элементах протоплазму будущего богословия Хомякова, в котором прихотливо сочетаются экклезиологическое «рыцарство» (как указывал Н.А.Бердяев, характеризуя хомяковский образ мысли) и орлиный полёт ума... Как поэт Хомяков сложился ранее, чем обратился к написанию богословских трудов, и это — существенно для понимания их специфики. Орёл в церковной символике указывает на высокое парение богословского мышления и, прежде всего, является церковным символом св. апостола евангелиста Иоанна Богослова. Таким образом, уже в лирике Хомяков выступает как имплицитный богослов. Вместе с тем, учитывая некоторую языческую завороженность раннего Хомякова (мистериальная драма «Вадим»), следует отметить, что орёл есть и «символ небесной (солнечной) силы, огня и бессмертия; одно из наиболее распространённых обожествляемых животных — символов богов и их посланец в мифологиях различных народов мира.»136 Столь близкое Хомякову романтическое представление о поэтах как вестниках Божества более сродственно мифологическому, а не православному мирочувствию, где эта «роль» вестничества принадлежит, скорее, ангелам и святым. Можно говорить об эзотерическом снятии их радикального взаимо-напряжения в поэтическом сознании романтика А.С.ХомяковаД37
Человек и пространство в художественном мире Ф.И.Тютчева
В своей неоконченной последней работе «Положение человека в Космосе» (1928 г.) знаменитый немецкий философ-антрополог М.Шелер отметил одну ключевую особенность, весьма значимую для адекватного понимания художественной метафизики Фёдора Ивановича Тютчева (1803-1873): «Если спросить образованного европейца, о чем он думает при слове «человек», то почти всегда в его сознании начнут сталкиваться три несовместимых между собой круга идей. Во-первых, это круг представлений иудейско-христианской традиции об Адаме и Еве, о творении, рае и грехопадении. Во-вторых, это греко-античный круг представлений, в котором самосознание человека впервые в мире возвысилось до понятия о его особом положении, о чем говорит тезис, что человек является человеком благодаря тому, что у него есть разум, логос... С этим воззрением тесно связано учение о том, что и в основе всего универсума находится надчеловеческий разум, которому причастен и человек, и только он один из всех существ. Третий круг представлений — это тоже давно ставший традиционным круг представлений современного естествознания и генетической психологии, согласно которому человек есть достаточно поздний итог развития Земли, существо, которое отличается от форм, предшествующих ему в животном мире, только степенью сложности соединения энергий и способностей, которые сами по себе уже встречаются в низшей по сравнению с человеческой природе. Между этими тремя кругами идей нет никакого единства.»209
В художественном мире Тютчева нетрудно обнаружить поэтические прецеденты указанных Шелером трёх новоевропейских герменевтических моделей Бытия — соответствующие аналоги, подтверждающие метафизическую неоднородность этой эпохи: Пускай страдальческую грудь - Волнует страсти роковые - Душа готова, как Мария, К ногам Христа навек прильнуть. (144)210
«О вещая душа моя...», 1855 г. Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые! Его призвали всеблагие Как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, Он в их совет допущен был -И заживо, как небожитель, Из чаши их бессмертье пил! (62) «Цицерон», 1830 г.
Природа знать не знает о былом, Ей чужды наши призрачные годы, И перед ней мы смутно сознаем Себя самих—лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, Свершающих свой подвиг бесполезный, Она равно приветствует своей Всепоглощающей и миротворной бездной. (218) «От жизни той, что бушевала здесь...», 1871 г.
Приведенные стихи принадлежат разным периодам творческой биографии Тютчева, однако согласимся с Л.В.Пумпянским и Ю.М.Лотманом, предлагавшими рассматривать его поэзию как единый текст, охваченный «одним грандиозным мифом» тем более, что она в своем развитии, как видим, стадиально изоморфна метатексту европейской культуры: античность (антропоцентризм) — христианство (теоцентризм) — Новое время (натурализм). Этот метатекст может быть экстремально раздвинут, причем, в результате получится хронологическая инверсия местоположения антропоса: от натурфилософов-досократиков — до постмодернистской трансгрессии барокко, от Фалеса — до Борхеса... Но важно, что, мы здесь имеем дело с особой метафизической формой культурно-оприходованного времени, где прошлое и будущее взаимонеобратимы: они улетают в противоположных направлениях от настоящего, никогда не встречаются и, тем самым, создают структуру сно-видного Присутствия — «заколдованного сна» («Черное море», 1871 г.). Этот глобальный период в макроистории человеческой культуры принято называть риторико-классической эпохои с её базисной ориентацией на оче/!/-видное «подлинное», «вечное», «непреходящее». Дело не только в том, что Тютчев предельно собирает в своем художественном мире смысловые возможности этой метакультурной эры, так, что, по словам Б.Эйхенбаума, «в нем сочетаются разные культуры»213? HOj как «чрезвычайно сложный» и «загадочный» поэт, он имеет дело преимущественно с мифом пространства. Речь идет не о тех или иных топологических моделях, где человек откликается на призыв Божий во Христе, восхищает божественный бессмертный Логос, растворяется без остатка в природе — все это онтологически возможные и метафизически несочленимые следствия более изначальной и фундаментальной ситуации: человек перед ускользающим лицом пространства. Не озабоченность местоположением, но сокровенная затронутость Бездной превращает тютчевского лирического героя по-преимуществу в запоздалого пилигрима пространства, оседлавшего непроходимую тайну «незагадочного сфинкса»... Универсальная ситуация «пусто все — простор везде» («Есть в осени первоначальной...», 1857 г.) распространяется за пределы осеннего очищения мира на тотальность Бытия, его «всепоглощающую и миротворную бездну». Это — очень близко к той онтологической ситуации фундаментальной открытости, о которой позднее (столетие спустя) будет писать поздний М.Хайдеггер214? воспроизводя индоевропейские метаментальные структуры: «отверстие (бездна, дверь, окно, сосуд, череп) в мифопоэтической традиции имеет двойственную (бинарную) символику: это точка, откуда всё происходит, а с другой стороны, место, куда всё возвращается»215? уходя «от жизни той, что бушевала здесь...» Но это возвращение не несет за собой архаического повтора.
Тютчевский человек исходно выведен за пределы любой из топологических возможностей и обречен чистому анахронному пространствуй , а значит — неприкаянности и метафизической муке.
Однако при этом мы должны понимать, что в его художественном мире лишь наиболее остро обнажается базисная ситуация всей риторико-классической культуры, с которой лишь немногие её носители готовы были встретиться лицом к лицу.
Антропное и космическое в культурных горизонтах Нового времени
Если бы потребовалось наиболее емко определить внутреннюю логику всей новоевропейской истории, то вполне достаточно одного слова — децентрация. Н.А.Бердяев указывал в этой связи на отсутствие «видимого и признанного духовного центра, центра умственной жизни эпохи» Р.Гвардини проникновенно писал о том, что «Новое время стремится вытащить человека из центра бытия» . Эта устойчивая тенденция связана с глобальной трансформацией традиционного мировидения: «...мир начинает расширяться, разрывая свои границы. Оказывается, что во все стороны можно двигаться без конца. ... Земля перестает быть центром мира. Человек получает простор для движения, но зато становится бездомным. ...человека Нового времени неизведанное манит, влечет к познанию. Он начинает открывать новые земли и покорять их. Он ощутил в себе отвагу отправиться в бесконечный мир... ... Все эти перемены вызывают у человека двойственное ощущение. ... ...самовластный, отважный человек-творец... теряет объективную точку опоры, которая в прежнем мире у него была, и возникает чувство оставленности и даже угрозы. ... ...у человека нет больше ни своего символического места, ни непосредственно надежного убежища... ... ...потребность человека в смысле жизни не находит убедительного удовлетворения в мире»336. Отмечая «космическое переживание бесконечности» связанное с тем, что «новые астрономические знания вытесняют Землю из занимаемого ею положения», ибо «земля становится чем-то, с космической точки зрения, вообще не имеющим особого значения»338} Р.Гвардини указывает на своеобразный антропологический антикосмизм новоевропейского человека: «Человек становится важен себе самому; Я, и в первую очередь незаурядное, гениальное Я, становится критерием ценности жизни. ... Субъект автономен, самостоятелен и обосновывает собой смысл духовной жизни.»
Вместе с тем, генеалогия творческой гениальности идет по пути осознания глубокого одиночества, трагизма, Бого-отсутствия. Уже в XVII веке Б.Паскаль будет писать, что «бесконечную пустоту может заполнить лишь нечто бесконечное и неизменное, то есть Бог» («Мысли», аф.425)340? а молодой Гегель в трактате «Вера и знание» (1802 г.) напишет о «чувстве, на которое опирается вся религия Нового времени, о чувстве: сам Бог мертв»341
В Новое время качественно меняется сам смысл понятия «космос»342 отныне он уже не античный (красота, гармония, мера) и не средневековый (художественное творение Бога) — но вполне противоположный, вне-этимологический, радикально новый (без-дна, без-мерность, меон). Космическое впервые ужасает: «Если у человека, — пишет уже в середине XIX века С.Кьеркегор в своей «Похвале Аврааму», — не существует никакого вечного сознания, если на дне всего скрывается дико действующая сила, которая, клубясь в зарослях страсти, породила все то, что было великого, и то, что не имело никакого значения, если под всем скрывается бездонная и никогда не насыщаемая пустота, чем же иным становится жизнь, если не отчаянием? Если это так, если нет никаких святых уз, связывающих человечество, если поколение за поколением появляются, как листья в пуще, если одно поколение приходит на смену другому так, как следуют сами собою песни птиц в лесу, если поколения людей проходят по жизни, как корабль по морю, как вихрь по пустыне, как бессмысленное и бесплодное действие, если вечное забвение всегда подстерегает свою добычу и нет вещи, которая была бы достаточно сильна, чтобы освободить от этого, — то какой же пустой и безнадежной представляется жизнь!»
Нет сомнения, что именно в XIX веке проблемная ситуация всего Нового времени (а по крупному счету это — период средиземноморской метакультурной истории с XIV по XX столетия) достигает своего апогея. В.В.Набоков, говоря о «возникновении мещанства на определенной ступени развития цивилизации» в статье «Пошляки и пошлость» характеризует эту ситуацию с убийственным сарказмом: «...вековые традиции превратились в зловонную кучу мусора, которая начала разлагаться».344 «Воды религии, — писал веком ранее Ницше, — отливают и оставляют за собою болото или топи»345.
Вместе с тем, русский европеец И.В.Киреевский, отмечая, что общее новоевропейское «господствующее направление умов было безусловно разрушительное»3469 точно обозначил основную культурную тенденцию XIX века как мистическую «контрреволюцию», при которой «умозрения взяли верх над ощутительным опытом»347. Несомненно, что первенствующая роль в этом интеллектуальном процессе принадлежала Германии; романский, англо-саксонский и особенно славянский романтизмы при всем своеобразии и относительной генетической автономии несут на себе несмываемые следы немецкого метафизического присутствия.348
Ряд глубоких развернутых характеристик исследуемого в нашей работе культурно-исторического периода оставил в начале XX столетия Н.Котляревский: «Решения, какие XIX век давал вопросам о нашей связи с Богом и о царстве Божием на земле во многом отличаются от ответов прежних веков на эти вопросы и отводят минувшему веку совсем особое место среди предшествующих столетий» «в минувшем веке поэт был о себе очень высокого мнения»_ «Художнику почему-то кажется, что именно он — служитель красоты — призван решать высшие вопросы; что именно ему доверены ключи от разных тайн, облегающих наше существование, что сила вдохновения может заменить собою силу знания. Художник приравнивает себя к ясновидящему... Он посредник между людьми и Божеством. Целый ряд литературных направлений в XIX веке окрашен такой гордой самооценкой поэта»351. «Чаще всего по чертежам Платона, Протагора и Аристотеля... философы XIX столетия построили ряд вавилонских башен, чтобы с их вершин обозреть все творение»352, «Художник был мыслителем и выразителем религиозного чувства...»; «...в XIX веке воскресли для культурного мира религии древнего Востока, Индии, Ирана, Ассиро-Вавилонии, мистерии старой Греции, языческое богопочитание в его художественно-пластических античных формах, Библия, Талмуд и Каббала, гностики и неоплатоники — вообще все, что когда-либо говорили люди о Боге... ... ...и многим казалось, что из этих обломков старины может быть построен Новый Пантеон, с единым алтарем, сложенным из старых камней, алтарем, для которого пока еще не найдена икона, не найден символ, сочетающий в себе все лики богов, некогда царствовавших!»354 Но, с другой стороны, «никогда человек, столь уверенный в себе и такой поклонник своего «Я», не говорил о себе столько страшной, безжалостной правды, сколько было ее сказано в XIX столетии»