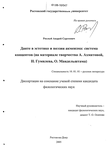Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Эволюция образа Христа в поэзии Андрея Белого и Бориса Поплавского 14
1. Философские принципы восприятия образа Христа Андреем Белым и Б. Поплавским 14
2. Образ Христа в поэзии Андрея Белого 1900-х годов 22
3. Образ Христа в поэзии Белого 10-х - 30-х годов XX века 47
4. Образ Христа в поэзии Б. Поплавского 62
Глава 2. Эволюция символа Вечной Женственности в поэтическом творчестве Андрея Белого и Б. Поплавского 85
1. Символ Вечной Женственности в сборнике «Золото в лазури» Андрея Белого 85
2. Эволюция символа Вечной Женственности в сборниках «Пепел», «Урна» и «Королевна и рыцари» Андрея Белого 98
3. Трансформация символа Вечной Женственности в поздних поэтических сборниках А. Белого 123
4. Символика женских образов в поэтическом сборнике Б.Ю. Поплавского «Флаги» 135
5. Образ «души мирозданья» в «Автоматических стихах» Б.Ю. Поплавского 148
6. Эволюция символа Вечной Женственности в поздней лирике Б.Ю. Поплавского 160
Заключение 186
Библиография. 191
- Философские принципы восприятия образа Христа Андреем Белым и Б. Поплавским
- Образ Христа в поэзии Б. Поплавского
- Эволюция символа Вечной Женственности в сборниках «Пепел», «Урна» и «Королевна и рыцари» Андрея Белого
- Символика женских образов в поэтическом сборнике Б.Ю. Поплавского «Флаги»
Введение к работе
Творчество писателей «серебряного века» и литература Русского зарубежья в последнее время привлекают пристальное внимание исследователей. В этой связи следует отметить повышенный интерес читателей и литературоведов к именам Андрея Белого и Бориса Поплавского. Показательным является уже выход в свет незаконченного многотомного собрания сочинений Белого, начатый в 1995 году издательством «Республика», шеститомного собрания сочинений этого автора, осуществленный «Терра - Книжный клуб» в 2003-2005 годах, появление трехтомника Б.Ю. Поплавского, выпущенного в 2000 году издательством «Согласие», а также целый ряд отдельно изданных сочинений этих писателей.
В рамках нашего исследования оказывается особенно важным то, что в 1922 году, во время короткого пребывания Б. Поплавского в Берлине, произошло знакомство писателей, оказавшее значительное влияние на творческую судьбу Б.Ю. Поплавского. Уже Д. Мережковский, Г. Адамович, Н. Бердяев отмечали возможность сопоставления этих двух имен - причем не только (и даже не столько) на основе особенностей их творчества, но и с учетом особенностей их личностей и жизненных позиций. Особенно любопытными в данном случае оказываются следующие мнения: «У Бориса Поплавского есть некоторое сходство с Андреем Белым, от которого всегда можно было ожидать измен, у которого была яркая индивидуальность, с проблесками гениальности, но не было личности» - Н. Бердяев, «По поводу «Дневников» Б. Поплавского» (35, 489); «Сила нездешней радости (от сборника «Флаги» сопоставима - С. Р.) <...> с впечатлениями от симфоний Белого»-Г. Иванов, «Борис Поплавский. «Флаги» (30, 15).
Показательно также, что массовый интерес к творчеству обоих авторов зарождается на Западе практически одновременно, в 70-е годы XX века. Виктор Ерофеев в статье «Споры об Андрее Белом» (1989; 75, 482-501) объясняет причину стремительного развития «беловедения» в этот период
ошеломляющим новаторством его поэтики, оказавшейся актуальной и в условиях постмодернистских художественных поисков. В основу первых научных работ о творчестве Б. Поплавского - A. Olcott. «Boris Poplavsky: а forgotten poet» (1973; 212), «Poplavskij's life» (1980; 212); S. Karlinsky. «The alien comet» (1980; 211)- также заложено стремление раскрыть якобы не свойственное русской литературе сюрреалистическое начало его произведений. Е. Менегальдо в своей докторской диссертации «L'univers imaginaire de Boris Poplavsky» (Париж, 1981; 206) пытается отойти от-этой точки зрения, однако истоки дарования поэта автор пытается найти прежде всего в его приверженности достижениям французского символизма. Заметим, что в литературоведении к этому времени уже сложилось целое направление, стремящееся найти параллели между творчеством Андрея Белого и произведениями западноевропейской школы символизма, прежде всего творчеством Ш. Бодлера и П. Верлена. Так, для В. Александрова в работе «Andrey Bely. The major symbolist fiction» (Harvard, 1985; 207) общее между этим пластом произведений наблюдается в стремлении преодолеть в акте восприятия различие между субъектом и объектом. К настоящему времени количество авторов, творчество которых сопоставляется с творчеством Андрея Белого и Б. Поплавского - в первом случае, как правило, более доказательно и фактологически достоверно, - оказывается почти необозримым: так, для Поплавского это А. Блок, Ш. Бодлер, И. Бунин, Н. Гоголь, Н. Гумилев, Д. Джойс, А. Жарри, Н. Заболоцкий, Е. Замятин, О. Мандельштам, Б. Пастернак, М. Пруст, А. Рембо, Д. Стивенсон, Ф. Тютчев, В. Хлебников, П. Элюар; для Белого - А. Блок, М. Волошин, М. Цветаева, Д. Хармс, Б. Пастернак, X. Моргенштерн, М. Булгаков, М. Горький, В. Маяковский, С. Есенин, Н. Гоголь, Л. Андреев и многие другие писатели. Заметим, что в таком калейдоскопе сравнений зачастую теряется подлинная индивидуальность авторов. Однако близость подходов, применяемых к творчеству обоих писателей, причем уже на самых ранних стадиях научного исследования их произведений, становится показательной.
Очевидная для современников связь творчества Поплавского и Белого оказывается практически не раскрыта в современной научной литературе. Ситуация в данном случае осложняется тем, что при всем обилии возникающих справочных, библиографических работ и вузовских учебников, посвященных литературе Русского зарубежья - «Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920-1940. Франция» (М., Париж, т. 1-4, 1995-1997; 184), Д.Я. Северюхин, О.Л. Лейкинд «Художники русской эмиграции (1917-1941). Библиографический словарь» (СПб., 1994; 186), «Словарь поэтов русского зарубежья (под общей редакцией В. Крейда) (СПб., 1999; 188), М.И. Раев «Россия за рубежом. История культуры российской эмиграции. 1918-1939» (М., 1994; 181), Т.П. Буслакова «Литература русского зарубежья» (М, 2003; 142) и многие другие издания, -творчество младшего поколения первой волны эмиграции, в том числе и Б.Ю. Поплавского, по-прежнему мало изучено. Несмотря на то, что общие подходы к комплексному освоению этого пласта литературы намечены уже в работах Г. Струве «Русская литература в эмиграции» (Нью-Йорк, 1956; 191) и В. Варшавского «Незамеченное поколение» (1956; 146), Поплавский до сих пор, пожалуй, воспринимается как «самый эмигрантский из эмигрантских писателей» - В. Варшавский (146, 189). В сферу внимания исследователей прежде всего попадает его проза, в чем проявляется традиция, заложенная Г. Адамовичем («Одиночество и свобода», Нью-Йорк, 1955; 132) и Г. Струве, считавших, что именно в этом жанре особенно проявился талант молодого автора. В этом отношении интересны работы Ю. Линника «Эстетика небытия» (Новый журнал, 1997; 165), Н.В. Барковской «Поэтика символистского романа» (Екатеринбург, 1996; 138), Л. Аллена «Домой с небес. О судьбе и прозе Бориса Поплавского» (СПб., Дюссельдорф, 1993; 134).
Для нас в рамках данной работы важна задача комплексно рассмотреть творчество Б. Поплавского, проследить эволюцию ключевых образов в его поэзии, отойти от интерпретации его произведений как догматически
отражающих философские взгляды художника, выраженные в его дневниках,
статьях и письмах. К этому уже в 1990 году призывает A. Gibson в работе
«Russian poetry and criticism in Paris from 1920 to 1940» (Leuxenhoff, 1990;
210), справедливо полагая, что углубление в индивидуальный мифологизм со
ссылками на разных западных философов затеняет типологические
особенности лирики поэта. Заметим, что в отношении Белого, несмотря на
принципиально большую ориентацию его творчества на художественное
осмысление достижений мировой философии, попытки
литературоведческого анализа всегда оказывались продуктивными. По близкому пути идет в освоении творчества Поплавского и А.И. Чагин в работах «Орфей русского Монпарнаса» (М., 1997; 196), «Расколотая лира» (М., 2002; 197). Этот исследователь при интерпретации образов поэта отталкивается от того, «насколько целостен этот художественный мир - при всей его изменчивости и фантасмагоричности, при всей зыбкости его границ, отделяющих (здесь, скорее, подошло бы слово - «соединяющих») поэтическое творчество от его прозы, критики, дневников» (196, № 8, 172). В данной связи вспомним, что Белый в статье «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» (1928; 16) пытается осмыслить свое творчество как единое целое, независимо от идей, сторонником которых он был в тот или иной период своей жизни, хотя и делает это за счет выявления в произведениях концепции, предвещающей его приход к антропософским взглядам на природу мироздания и творчества. Чагину удается полноценно исследовать механизм создания поэтических образов Б. Поплавским, причем в первой названной работе он делает это, по сути, на основе многостороннего анализа образного мира одного стихотворения писателя - «Возвращение в ад» (1933).
Данный путь литературоведческого анализа текстов обоих авторов кажется нам наиболее соответствующим природе их творчества. Андрей Белый неоднократно в своих трудах наделяет искусство бытийной,
теургической силой, стремится воплотить идею художественного творчества как мистерии, преображающей мир. О.В. Латышко в статье «Язык жалости в творчестве Б.Ю. Поплавского» (2005; 162, 147) отмечает, что у Поплавского «талант лирика и романиста был отдан жреческому служению светлой цели -оживлению связей с Богом. Поплавский, как многие, полностью отстранился от чистого эстетизма во имя высоких религиозных устремлений». Данные взгляды на природу творчества поэта русского зарубежья О.В. Латышко высказывает и в своей кандидатской диссертации «Модель мира в романе «Аполлон Безобразов» (М, 1998; 202). В рамках нашей работы особо значимым кажется то, что исследователь не только анализирует прозу Бориса Поплавского, но и рассматривает проявление во всем его творчестве влияния теософских доктрин, идей стоицизма и буддизма, стремится акцентировать внимание на понимании писателем сущности искусства. В этом научном труде многогранно исследована символика образа «музыки», выражающего мотив противостояния злу и являющегося одним из ключевых не только в творчестве Поплавского, но и в сочинениях Андрея Белого. Там же, анализируя образ Терезы, литературовед находит прямые параллели между ним и образами Матрены из «Серебряного голубя» (1909) Белого и. Катерины из «Страшной мести» Н.В. Гоголя. Для нас важно то, что последнее произведение является знаковым в формировании историософских концепций Белого и понимании характера его восприятия идеи Вечной Женственности.
Следует отметить и то, что если основной массив текстов Андрея Белого был издан уже при его жизни, хотя в советское время практически не переиздавался, то возможность для формирования более или менее целостного представления о произведениях Б.Ю. Поплавского впервые возникает только в 90-е годы XX века: в 1992 году в «Новом журнале» (№ 187-189, Нью-Йорк) в полном объеме публикуется текст романа «Аполлон Безобразов» (1934); в 1993 году выходит в свет роман «Домой с небес» (1935; 22). До этого времени отдельными изданиями выходило лишь четыре
сборника поэзии: «Флаги» (1931), «Снежный час» (1936), «В венке из воска» (1938), «Дирижабль неизвестного направления» (1965; 31). В 1998 году в Москве выходит объемное издание «Борис Поплавский. Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма» (25), включающее также подробный комментарий к публикуемым работам и снабженное библиографией. В 1998 году в парижском архиве Д. и Н. Татищевых обнаруживается полностью подготовленный самим поэтом к печати сборник «Автоматические стихи», изданный в 1999 году издательством «Согласие» (21). Там же находились многочисленные рукописи и черновики (юношеские стихи, футуристические поэмы, константинопольские сонеты, дневник 1921 года, списки стихотворений в хронологическом порядке, план шеститомного издания стихотворений). Таким образом, материалы данной диссертации могут стать, скорее, основой для дальнейшего изучения ранее неизвестных текстов Б. Поплавского, нежели претендовать на формулирование «итоговых постулатов».
Отметим, что ключевым моментом в развитии «беловедения» в России становится конец 80-х годов. Это выход в 1988 году монографии Л.К. Долгополова «Андрей Белый и его роман «Петербург» (Л., Сов. писатель; 86) и сборника «Андрей Белый: Проблемы творчества» (М., Сов. писатель; 75). В первой книге, несмотря на то, что автор уже во вводных замечаниях подчеркивает отсутствие «задачи обрисовать творчество Андрея Белого, как и его личность, в полном объеме» (86, 5), большое внимание уделяется анализу первых сборников поэта («Золото в лазури», «Пепел»), и особенно их взаимосвязи с онтологическими и историософскими взглядами. Во второй при анализе поэзии акцент делается на теоретических и практических достижениях писателя в области художественной формы (статьи Ю. Лотмана, В. Гусева, М. Гаспарова); исследуется влияние его поэзии на литературу 20-х годов, прежде всего - на творчество писателей, живших в СССР (статьи А. Крюковой, Н. Богомолова, С. Субботина). Гораздо менее внимания уделено анализу конкретных поэтических
сборников Белого: в чистом виде этому вопросу посвящены только две работы - Н.Н. Скатов «Некрасовская книга Андрея Белого» (75, 161-192), М. Пьяных «Певец огневой стихии» (75, 241-268), причем следует заметить, что обе они направлены прежде всего на изображение поэта как обличителя социальной действительности, сторонника революционных преобразований.
В дальнейшем тенденции, выраженные в этом сборнике, оказываются развиты: Белый становится интересен исследователям как носитель новаторских культурологических взглядов - Пискунова С, Пискунов В. «Культурологическая утопия Андрея Белого» (111), как продолжатель антропософских идей - Богомолов Н.А. «Русская литература начала XX века и оккультизм» (64), как стиховед и новатор в поэзии - Кац Б.А. «О контрапунктической технике в «Первом свидании» (95), Гервер Л.Л. «Контрапунктическая техника Андрея Белого» (83). Исследуются и многие другие аспекты его наследия. Однако практически отсутствуют фундаментальные работы, направленные на целостное, многостороннее исследование религиозно-философских мотивов, доминирующих в его творчестве и осознаваемых таковыми им самим: «....можно рассматривать все искусство с точки зрения искания в нем Той, о Которой Соловьев говорит:
Знайте же - Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идет. София, Премудрость Божия, - это врата, через которые шествует Господь Наш, Иисус Христос» («О религиозных переживаниях»; 11,4).
В большей степени освещается связь Белого с литературой Русского зарубежья: заметим, что в трехтомном справочном издании «Писатели Русского зарубежья (1918-1940)», изданном под редакцией А.Н. Николюкина (М., 1993-1995; 187), пребывание Белого в Берлине рассматривается как сознательная эмиграция. Так, сборник «Стихотворения» (1923), композиционный строй которого отражает идейно-эстетические взгляды автора в этот период, репринтно переиздан уже в 1988 году со
значительными комментариями и интересными фотодокументами (М., 1988; 18). Наблюдения В.А. Скрипкиной, связанные с «Жизненной и творческой позицией Андрея Белого в берлинский период (1921-1923)» (М., 1997; 117), прежде всего касаются именно этой книги Белого. А.В. Зеленин исследует подходы к творчеству писателя, выраженные в эмигрантской публицистике (М, 1999; 90). Всестороннему анализу подвергается книга «Воспоминания о Блоке» (1921-1922; 1), изданная в журнале «Эпопея» - Беккет В. «Двойники и маски. Исповедальные мотивы в «Воспоминаниях об А.А. Блоке» (М., 1993; 77); С. Пискунова «О Блоке, о времени и - о себе» (М., 1995; 112).
Однако тема творческой взаимосвязи Андрея Белого и Б. Поплавского в литературоведческих работах последних лет фактически не поднимается: даже в шестисотстраничных «Воспоминаниях об Андрее Белом», собранных и изданных в 1995 году (М.; 82), включивших большое количество текстов, освещающих берлинский период творчества, имя Б. Поплавского не упоминается ни разу. В то же время подчеркивание определенной близости их произведений, равно как и самих создателей, оказывается весьма распространено в статьях, посвященных творчеству Бориса Юлиановича -С.А. Иванова «Время Поплавского» (М., 1999; 158), Е. Менегальдо «Борис Поплавский: от футуризма к сюрреализму» (М., 1999; 167). Это сближение определяет направление нашего поиска.
Материалом исследования становятся поэтические произведения Андрея Белого и Б.Ю. Поплавского, их проза, статьи, дневники, письма; научные труды и мемуары Белого, а также воспоминания о писателях и исследовательские работы, посвященные их творчеству.
Целью исследования является сопоставительное изучение развития и трансформации религиозно-философских переживаний, связанных с интуицией Вечной Женственности в поэзии Андрея Белого и Б.Ю. Поплавского, а также с трактовкой образа Иисуса Христа, художественно воплощенной в их поэтических произведениях. Отсюда вытекают следующие задачи: 1) раскрыть специфику воплощения образа
Христа в поэтическом творчестве Андрея Белого и Б.Ю. Поплавского; 2) показать близость символики образа Христа в лирике обоих поэтов; 3) раскрыть эволюцию символа Вечной Женственности и близость его трактовки в поэзии Андрея Белого и Б.Ю. Поплавского; 4) установить связь символа Вечной Женственности с образом «души» в творчестве Б.Ю. Поплавского; 5) раскрыть своеобразие стилевого решения религиозно-философских мотивов в поэзии А. Белого и Б.Ю. Поплавского.
Научная новизна работы, а также положений, выдвигаемых на защиту, обусловлена прежде всего слабой изученностью произведений Бориса Поплавского, а также отсутствием работ, сопоставляющих развитие в творчестве обоих поэтов общих религиозно-философских мотивов. Впервые в настоящей диссертации символы Вечной Женственности и образ Христа в творчестве Андрея Белого и Б.Ю. Поплавского рассмотрены во взаимном сопоставлении, системно, многоаспектно, в тесной связи с другими видами творчества (прозой, публицистикой, теоретическими статьями). Подобный подход позволяет углубленно осмыслить развитие религиозно-философских идей, волновавших писателей «серебряного века» и Русского зарубежья. Особое внимание уделяется своеобразию системы образов и композиционного построения стихотворных текстов в творчестве Андрея Белого и Б.Поплавского. По-новому, в соответствии с внутренними тенденциями, заложенными в текстах произведений, раскрыт образ Христа в творчестве обоих поэтов - отличный как от образа бунтаря-сверхчеловека, заявленного в философских трудах Белого, так и от нищего скитальца, непрерывно исполненного жалости к миру, появляющегося в философских статьях Поплавского и его романе «Аполлон Безобразов».
Методологической основой диссертации являются теоретически близкие Андрею Белого и Б. Поплавскому религиозно-философские концепции Я. Беме, Р. Штайнера, В. Соловьева, философские идеи В. Шеллинга, Ф. Ницше, А.Ф. Лосева. Также в диссертации учтены достижения литературоведения по вопросам наследия данных писателей - от
их современников до наших дней. Многогранность предмета изучения диктует разные подходы к материалу: проблемно-структурный, сравнительно-типологический, историко-функциональный, мифологический.
Научно-практическое значение работы видится в возможности использования ее положений при изучении наследия Б. Поплавского и Андрея Белого, шире - изучении взаимосвязей между литературой первой волны эмиграции и произведений, созданных в России в 20-30-ые годы XX века, их связей с литературой «серебряного века». Материал исследования может быть применен в практике вузовского преподавания при построении курсов «История русской литературы конца XIX - начала XX века», «Русская литература 20 - 30-ых годов XX века», «Литература Русского зарубежья», а также для разработки цикла лекций спецкурсов, спецсеминаров, посвященных литературе этого периода.
Апробация работы осуществлялась на межвузовских и международных конференциях: Москва (2004, 2005), Орехово-Зуево (май, октябрь 2005). Диссертация обсуждалась на заседании кафедры литературы Московского государственного областного педагогического института. По теме диссертации опубликовано 6 статей.
Структура и содержание работы определены выше указанными целью и задачами. Диссертация состоит из «Введения», двух глав, «Заключения» и «Библиографии».
Во «Введении» обосновывается актуальность избранной темы, дается краткая история изучения вопроса, выдвигаются цель и задачи исследования, характеризуется его методология и методика, освещается степень новизны предпринятой работы.
Первая глава - «Эволюция образа Христа в поэзии Андрея Белого и Бориса Поплавского» состоит из четырех разделов: «Философские принципы образа Христа Андреем Белым и Б. Поплавским», «Образ Христа в поэзии Андрея Белого 1900-х годов», «Образ Христа в поэзии Белого 10-х - 30-х годов XX века», «Образ Христа в поэзии Б. Поплавского».
Вторая глава - «Эволюция символа Вечной Женственности в поэтическом творчестве Андрея Белого и Б. Поплавского» - состоит из шести разделов: «Символ Вечной Женственности в сборнике «Золото в лазури» Андрея Белого», «Эволюция символа Вечной Женственности в сборниках «Пепел», «Урна» и «Королевна и рыцари» Андрея Белого», «Трансформация символа Вечной Женственности в поздних поэтических сборниках А. Белого», «Символика женских образов в поэтическом сборнике Б.Ю. Поплавского «Флаги», «Образ «души мирозданья» в «Автоматических стихах» Б.Ю. Поплавского», «Эволюция символа Вечной Женственности в поздней лирике Б.Ю. Поплавского».
В «Заключении» подводятся итоги исследования.
Философские принципы восприятия образа Христа Андреем Белым и Б. Поплавским
Венгерская исследовательница Л. Силлард, говоря о том, что в русской культуре начала XX века маска шута, скомороха, арлекина возникала «подозрительно часто», отмечает: «Андрей Белый тоже имел отношение к этой тенденции, недаром арлекин, паяц, полишинель в роли alter ego художника возникает в стихах Андрея Белого, пожалуй, даже чаще, чем у А. Блока. Но если у Блока эти балаганные воплощения представляют собой закономерные маски артиста, которые художник признаёт за собой как неизбежное трагическое бремя и которые не могут быть смешиваемы с атрибутами Христа, то у Андрея Белого картина выглядит совсем иначе: шут у него во всех ипостасях выступает как опасный двойник Христа» (19, 499). По мнению Л. Силлард, это оказывается возможным, поскольку образ Христа в мире Андрея Белого отождествляется с юродивым. Поэтому «в поэзии Андрея Белого личины шута порождают проблемы «невоскресшего» Христа, «лже-Христа» и острую потребность отделиться от их мира» («От «Бесов» к «Петербургу»: между полюсами юродства и шутовства»; 19, 499). Необходимо отметить, что данное высказывание резко контрастирует с восприятием самим Белым образа Христа в своей поэзии. В «Воспоминаниях о Блоке» (1922) он акцентирует внимание на том, что «в логике воскресает Христос» (1, 98) и подчёркивает заблуждения Блока, связанные с тем, что «он сердцем воспринял Софию; сердечное восприятие он поставил превыше всего» (1, 96). Смешения миров Христа истинного и лже-Христа возникнуть, следовательно, не может, поскольку даже в цветовой гамме художник оказывается невероятно требователен к себе, стремясь к чистоте передачи Лика: «в опыте о цветах у меня доминировали три цвета: цвет света, иль -белый; цвет бездны засветной, сквозящей сквозь свет, - цвет лазурный; и пурпурный, «в свете не данный, соединяющий линию спектра: в круг спектра» (1, 197). Именно через их соединение, а не смешение возможно отобразить облик Христа («восприятие Христа - трёхцветное») (1, 197). Заметим, Белый в антропософский период ориентируется на гностическое понимание Логоса и считает, что слияние человека с Богом происходит только в процессе самопознания.
Антропософии вообще свойственно несколько упрощённое представление об искусстве: уже в первом своём произведении «Очерк теории познания Гётевского мировоззрения - составленный, принимая во внимание Шиллера» (1886) Р. Штейнер объявляет истиной следующие слова Гёте: «Я думаю, что наукою можно назвать познание всеобщего, знание отвлечённое; искусство же есть наука, применённая к делу; наука есть как бы разум; искусство же - её механизм, поэтому его можно бы назвать также практической наукой. Таким образом, наука могла бы быть названа теоремой, а искусство - проблемой» (57, 94). Поэтому, переосмысливая в «Воспоминаниях о Блоке» своё раннее творчество, Белый утверждает, что был «логосичен» и стремился «сплотить коллектив, создать ритм, подготовить мистерию человеческих отношений, украсить обрядом мистерию» (1, 72). Именно так «человек строит новый свой лик; так космическим отношением Логоса к хаосу, браком их может начаться космософическое возрождение сознания» (1,41).
Уже в трудах Владимира Соловьёва София предстаёт то как мировая душа; то как небесное существо, освобождённое от давления земной материи; то как создатель внебожественного хаоса; мировой процесс же осмысливается как борьба Божественного Слова и адского начала за власть над мировой душой. А. Блок осознаёт противоречивость этого образа, что отмечается им в письме Белому, которое подробно анализируется последним в «Воспоминаниях о Блоке»: «...в мистическом восприятии Она - душа мира; но может раскрыться Она как душа человечества ... Её откровения могут гласить и народам; тогда выявляет душою народ себя; и русскому Она, например, - существо всей России» (1, 39). Таким образом, А. Блок намечает различие между ней и Христом: «Христос - Добрый; и Он для всех. Она - ни добра, ни зла: «окончательно» (1, 39), и этот подход реализовывается также и в творчестве Андрея Белого.
При всём увлечении в юности философской поэмой Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1881 - 1885) Б. Бугаев как будто не замечает упрёков немецкого автора в адрес Христа. В статье «Фридрих Ницше» (1908) Белый подчёркивает близость поэмы Евангелию; говорит о совпадении символики обеих книг «в сокровенной субстанции творческих образов» (16, 184); замечает, что «в проповеди Христа и Ницше одинаково поражает нас соединение радости и страдания, любви и жестокости» (16, 183) и делает парадоксальный вывод о тождестве пути Ницше и пути Христа, несмотря на то, что несколькими страницами ранее им было отмечено: «Ницше опрокидывает религию, философию и мораль» (16, 192). Стремясь представить философа как творца религии, Андрей Белый не акцентирует внимание на различия между «новой религией» и христианством, так как цель его совершенно другая: «...пытаюсь я соединить в своём сердце два полюса (Соловьёва и Ницше)» (16, 24). Уже в этом проявляется стремление Белого воспринимать объекты мира прежде всего эстетически, не разделяя при этом эстетическое от этического, религиозного.
Однако образ Христа, возникающий в поэме Ф. Ницше в главе «О свободной смерти», оказывается важен в рамках нашей работы: «Поистине, слишком рано умер тот иудей, которого чтут проповедники медленной смерти ... Он знал только слёзы и смерть иудея, вместе с ненавистью добрых и праведных - этот иудей Иисус; тогда напала на него тоска по смерти. Зачем не остался он в пустыне и вдали от добрых и праведных! Быть может, научился бы он жить и научился бы любить землю - и вместе с тем смеяться ... Он умер слишком рано: он сам отрёкся бы от своего учения, если бы он достиг моего возраста!» (44, 71). Заметим, что этот образ Христа, знавшего «только слёзы», оказывается близок образу, переданному Б.Ю. Поплавским в его философских статьях. Исследователями творчества Б.Ю. Поплавского многократно подчеркивалось разнообразие его интересов в области философии и религии. Изучая взгляды на мир Г. Гегеля, Е. Блаватской, И. Канта, В. Шеллинга, Я. Беме, он в первую очередь стремится к постижению сущности христианства и отмечает в своих дневниках принципиальное различие между тремя основными течениями этой религии: «Христос католиков есть скорее царь, Христос протестантов -позитивист и титан, Христос православных - трости надломленной не переломит, он весь в жалости, всегда в слезах» (24, 168). Здесь же, описывая особенности православия, Борис Юлианович говорит о смиренности и простоте его служителей, проявляющихся в том числе и в отсутствии стремления к ученым знаниям: «...тем оригинален завет Христа, что он созерцанию и молитве противопоставил жалость к людям и служение им. Не к Богу, а к страданиям человека должно быть обращено внимание христианина» (24, 168). Существенно важно то, что в последней фразе Б.Поплавский не только пытается раскрыть позицию православия, но и соглашается с ней. Заметим, что в романе «Аполлон Безобразов» рассказчик (Васенька) задается вопросом, в котором представлено то же видение образа Христа, которое намечается автором в его дневниках: «Разве Христос, если бы он родился в наши дни, разве не ходил бы он без перчаток, в стоптанных ботинках и с полумертвою шляпой на голове? Не ясно ли вам, что Христа, несомненно, во многие места не пускали бы, что он был лысоват и что под ногтями у него были черные каемки?». Сама формулировка вопросов в сочетании со следующим далее замечанием «Но я не понимал этого тогда» (22, 24) делает их риторическими. В поэзии же замечания Васеньки неоднократно иллюстрируются Поплавским:
Христос в ботинках едет на трамвае («Еще никто не знает...», 1930-1933; 21, 35) Христос, постлав газеты лист вчерашний, Спит в воздухе с звездою в волосах («Римское утро», 1928; 31, 35) Но каково бродягам в этот час? Христос, конечно, в Армии Спасения
Образ Христа в поэзии Б. Поплавского
Интерес к личности Христа возникает в творчестве Андрея Белого практически сразу: уже в 18 лет он создаёт «Пришедшего» - отрывок из так и не написанной мистерии, опубликованный в альманахе «Северные цветы» в 1903 году. Этому предшествовало увлечение книгами Г. Гауптмана, Ш. Бодлера, П. Верлена, Г. Ибсена, О. Уайльда, М. Метерлинка; примерно в эти годы Б. Бугаев читал И. Канта, А. Шопенгауэра, Г. Спенсера, Владимира Соловьёва, Ф. Ницше, Платона, Ф. Бэкона, Ч. Дарвина. Следовательно, уже в это время он оказывается способен (по крайней мере, теоретически) выполнить ту задачу, которую приписывал он своему поколению -«поколению рубежа» («На рубеже двух столетий»; 9, 35), а именно -«рушить догматы», при этом не отказываясь «ни от Ницше, ни от Соловьёва в ряде оформлений, как от гипотез, условных и временных» (9, 34) и имея соответствующую подготовку. Этого нельзя, однако, сказать о Борисе Поплавском.
По словам Ю. Поплавского, отца поэта, в первые годы эмиграции «поэзия была заброшена, её сменила глубокая мистика. Этот период жизни Б. П. (Б. Поплавского - С. Р.) можно охарактеризовать двумя простыми, но много значащими словами: он скорбел и молился» (196, 171). В этой связи показательно, что в ранних стихотворениях Б. Поплавского, написанных до переезда в Константинополь в декабре 1920 года, где в сознании Бориса Юлиановича и происходит глубокий духовный переворот, отразившийся на всем его творчестве, образ Христа не возникает. В них отчётливо ощущается влияние эгофутуризма, стремление писать «без символов и стиля», парадоксально сочетать умение видеть во всём элементы новизны:
Всё избитое теперь остро и ново и «зло смеяться» над «раскрашенной толпой» («Простая весна», 1917; 30, 249). Здесь сильны элементы пародии, и лирический герой этого стихотворения, определяя своё внутреннее состояние, называет себя человеком «насмешливым и детским». Юный Поплавский органично соединяет в своём творчестве воспоминания о церквах и кокаине:
Мы ходили с тобой кокаиниться в церкви (30, 250), сравнивает уютный притон с Эдемом («Караваны гашиша», 1918) - и в целом произведения, в которых передана игровая атмосфера, являются более цельными и оригинальными, нежели попытки молодого автора непосредственно откликнуться на исторические события первых лет после Октябрьской революции - «Ода на смерть государя императора» (1918), «О большевиках» (1920). В последних Поплавский использует религиозные образы (так, Николай Второй называется «бескрылым серафимом» (30, 252), а ужасы текущих дней должны завершиться с приходом Архангела), но апокалиптические настроения, легко прослеживаемые здесь и свойственные поэзии Поплавского более позднего периода, не находят отражения в других произведениях, созданных молодым автором. Заметим, однако, что Императора-«серафима» убивает «истеричный бездарный актёр» в «истеричном году» (30, 252), и это позволяет увидеть зарождение атмосферы карнавала смерти, свойственной зрелым произведениям Бориса Юлиановича.
Более того, в первом опубликованном стихотворении «Герберту Уэллсу» (альманах «Радио», Харьков, 1920) автор, как справедливо отмечает А.И. Чагин в статье «Орфей русского Монпарнаса» (1996), не только предстаёт как «ученик русского футуризма», но и наделяет произведение «катастрофическим, в широком смысле революционным, богоборческим пафосом» (196, 169-170). Однако не только существование второй части стихотворения, резко контрастирующей с первой и приводящей к выводу: «память веков (т.е. культура) может удержать от разрушения» (196, 171) — позволяет говорить о наличии у Поплавского собственной поэтической позиции, отличной от взглядов футуристов, чьим произведениям он подражал. Сам сложный язык произведения, которым описывается гибель рая под напором революционных масс, не соответствует их лозунгу: «Отучим мы сердце купаться в запутанном слове!» (196, 171). Возникает ситуация, при которой фантасмагорические события должны быть переданы их участниками сознательно упрощённо, но реальность не позволяет сделать этого, и лозунги оборачиваются безумными криками людей, намеренных поймать Бога в «рефлектор идей». Противостояние «люди - Бог» здесь сводится к расхождению в представлениях о «правилах жизни»: Верховное существо показано как обладатель «томиков законов», а его уход описывается как утрата этих книг. Впрочем, мировые перемены оборачиваются для бунтарей тотальной потерей разума: на смену «картонным векам» приходят «картонные игрушки», но если люди, верящие в них, прямо названы «сумасшедшими», то Бог только становится таковым в их восприятии, что соотносится с печальным выводом: И казалось, что нет исхода, Что становится Бог сумасшедшим (31, 256). В более раннем стихотворении «Вечерний благовест» (1920) Б. Поплавский изображает жизнь в отсутствии Бога, но то, что в стихотворении «Герберту Уэллсу» массам кажется изгнанием Создателя, индивидуальным сознанием ощущается как уход Господа в результате обиды. И если индивидуум находит некоторую прелесть в кажущейся возможности самоопределения: И так я радуюсь печально и невольно, Что с лампой Бог, обидевшись, ушёл (31, 255), -то для толпы порыв борьбы с прошедшим оборачивается вечной необходимостью «искать нового» - и из контекста неясно, идёт ли речь о поисках нового Бога или нового вина: ...становитсяБог сумасшедшим С каждым аэробусом и теплоходом. Только вино примелькается Будете искать нового, Истерически новому каяться
Эволюция символа Вечной Женственности в сборниках «Пепел», «Урна» и «Королевна и рыцари» Андрея Белого
Вяч. Иванов, характеризуя сборник «Пепел», отмечает: «Что-то счастливо изменилось в душе поэта ... что-то простил он тёмной матери, первой, ближней реальности и узнал в человеке «живое «ты» («Андрей Белый. Пепел»; 91, 527). Однако при очевидном возникновении в сознании поэта интереса к преодолению «бездны между отвлечённо-одухотворившейся личностью и тёмной утробой» (91, 527), в первых стихотворениях сборника женские образы, как правило, лишь намечаются, возникая в мыслях и мечтах одиноких людей. Характерно, что при описании «телеграфиста» из одноимённого стихотворения (1906-1908) семья возникает неоднократно, при этом сведения о ней излагаются в следующей последовательности: «Жена болеет боком»; «Детишки бьются в школе»; «Без дел сидит жена, - // В который раз, в который, // С надутым животом» (19, 122). Надутый живот может быть и результатом очередной беременности, и болезни. Вероятно, в определённой степени (пусть и через восприятие героя) автор соединяет эти понятия. Показательно, что в предыдущем стихотворении («Из окна вагона», 1908) образ «ребёнка», засыпающего у груди матери, приводится в ряду таких однородных членов, как «кабак» и «погост». С одной стороны, таким образом Белый описывает жизненный цикл человека, рождённого в России; с другой - в следующих строках происходит усиление трагической ноты, подчёркивается приобретение людьми зооморфных черт и даже их переход в разряд неодушевлённых предметов:
Там - убогие стаи избёнок,
Там - убогие стаи людей (19,120).
«Ледяные пространства» (19, 120) матери России отчётливо перекликаются с исчезновением в конце «Телеграфиста» его жены: в последнем случае жизнь сравнивается с «железной дорогой» и «холодной постелью» (19, 122). Порядок слов обусловливает восприятие постели как смерти, и философский смысл строфы как отображающей удел человеческий, вероятно, сочетается с оценкой интимных отношений как «бессмыслицы ночной» (19, 122). Данная цепочка ассоциаций развивается в стихотворении «Матери» (1907) из раздела «Безумие», где наличествует строка «Могила, родная мать» (19,123).
Образ куста как губительный символ природного хаоса связывается у поэта и с физиологическими отношениями:
Целю я, целуя, милуя...
Здесь буду тебя я царапать,
Томить, поцелуем клонясь
(«Бурьян», 1905-1908; 19, 130). Но и оправдание телесной любви автор находит в природе, в предельной, фетовской, растворённости «трепета слов» в «лепете лоз», «рое стрекоз» («Свидание», 1908; 19, 145).
Образ России последовательно предстает в поэзии Белого как древний образ - то в сниженной форме, при сравнении изб с «седыми старушонками» («Вечерком», 1908; 19, 136), то более наглядно - при отказе от «тоски любви», состояния, предельно важного для приобщения к Вечности в «Золоте в лазури», в пользу наглядного восприятия природы как «Пространств тысячелетних древности» («На скате», 1906; 19, 138).
Раздел «Деревня», как правило, соотносится у исследователей с поэмой Н.А. Некрасова «Коробейники» или стихотворением «Горе старого Наума». Однако сюжет стихотворений, помещённых сюда, хотя и легко прослеживается, но передан через систему текстов, образующих сложную композицию. В этой связи соотнесённость героев с природой, их растворенность в ней позволяет не выделять любовный треугольник «купец -паренёк - девка», а говорить об определённом единстве мужских образов и определять тему раздела как взаимодействие мужского и женского начал. Действительно, «целковый» и «платок» уже в первом стихотворении («Купец», 1908) представлены и как предполагаемый дар купца, соблазняющего «девку», и как подарок «паренька». Но само название произведения и характер упоминания о пареньке в последней строфе («Он -высокий, чернобровый, // Статный паренёк, // За целковый ей ковровый // Подарил платок»; 19, 141) даёт возможность говорить лишь о смене точки зрения на описываемые события, об очищении человеческих отношений от игрового характера брачного предложения, оформленного в духе народной жизни. Приобретение персонажем в собственном описании огромной бороды и волосатой груди вполне объясняется реализацией (в соответствии с каноническими представлениями о купцах) классической метафоры: « У вас
- товар, у нас - купец». В этом отношении важна реакция «девки» на слова героя-купца, озвучиваемая ею как «Не томи меня» (19, 141). Интерпретация томления капроявления любовных чувств вполне согласуется со следующим далее утверждением: «Без него прожить не может // Ни едина дня».
Аналогичным образом, при данном подходе «мотив подглядывания» (Н.Н. Скатов, «Некрасовская книга Андрея Белого»; 75, 182) трансформируется в «Свидании» в мотив ожидания любимой. При этом и в «Свидании», и в «Купце» наблюдается отход от физиологии: в первом случае
- за счёт уподобления героини природе и женскому образу из «Золота в лазури» (сравнение уст с лепестками, обладание героини «бирюзовыми глазами», использование слова «коса» в значении «берег» - «Рдеет россыпь кос размытых»; 19, 142); во втором - за счёт перехода от фантазий героя к упоминанию о её чувствах и за счет «обрыва» сюжетной линии (рассказ о подаренном платке не влечёт за собой описания последствий дара). В стихотворении «Стар» (1908) формально сосуществуют два персонажа (паренёк и старичище). Но подглядывания как такового нет и здесь. «Купчина», скорее, не прячется поблизости от влюблённых, а находится в прямом контакте с ними: 100 Не отходит прочь Старичище седовласый: «Сердце, не морочь!» (19, 146). Преображение удалого «купца» в «старичину» обусловлено, на наш взгляд, зарождением в герое недоверия к сердцу, попыткой отхода от простой «жизни несказанной» (73, 453), провозглашаемой автором в «Луге зелёном». Образ «камня», из-за которого выглядывает (в котором проглядывается? - СР.) «купчина», может являться символом, обозначающим прежде всего отвердение душ. Показательно, что ласки людей два раза в тексте стихотворения ассоциируются с испуганным перешептыванием «лебеды» и «бурьяна». Здесь можно говорить и об угрозе существованию тёмных образов, символизирующих хаос жизни, - но и отображение испуга перед возможной близостью (и, следовательно, сопоставление героев с этими образами) здесь также присутствует. Отступление «стара» влечёт за собой, однако, качественное развитие его образа, возникновение развёрнутых мыслей, способных погубить человеческую личность.
Символика женских образов в поэтическом сборнике Б.Ю. Поплавского «Флаги»
В творчестве Бориса Юлиановича Поплавского, одного из наиболее видных поэтов «незамеченного поколения», чётко выражен мотив любви, способной очистить человеческую душу и помочь проникнуть в тайны мироздания. Писатель подчёркивает в своих дневниках, что любовь и смерть кажутся ему «двумя основными мотивами постигания чистого времени», причем любовь воспринимается им «как тема спасения времени для некой качественной вечности, некоего чувства сохранения и безопасности своей жизни, наконец спасённой от исчезновения в руках любимого человека» (23, № 3, 165). Однако в первых стихотворениях сборника «Флаги» (1931) возможность желанного спасения через женщину, через обретение «великого чувства целой жизни» и «приобщение к мудрости избегать лишних поступков» (24, 16) никак себя не проявляет.
Но и любовь в мире, поражённом господством «сабли смерти («Двоецарствие», 1924; 31, 9), оказывается «слишком говорлива» («Отвращение», 1923; 31, 7), и само слово это при описании сходных чувств или не упоминается («В борьбе со снегом», 1925), или заменяется словами, близкими по значению: «счастье» («Орлы», 1923; 31, 5), «близость» («Как холодны общественные воды...», 1923; 31, 5). Но близость трактуется как нечто преходящее, в известной мере постыдное, случайное:
Мы расставались; ведь не вечно нам Стыдиться близости уже давно прошедшей (31, 6), -а «счастье» невозможно в мире, исполненном трагедий и смертей.
Аналогичным образом обстоит дело и в более ранних стихотворениях Поплавского. Уже в игровой атмосфере «Простой весны» (1917) возникает образ «девушки публичной» (30, 249), который призван подчеркнуть преданность автора к «избитому», должному предстать в неожиданном ракурсе, а также выражает интерес к фривольной тематике, надолго сохранившийся в творчестве Бориса Юлиановича. «Уайльдовская истерика влюбленности» («Вечерний благовест», 1920; 30, 255) - выражение, которое довольно точно выражает отношение к женщине, свойственное на данном этапе его лирическим героям.
Не случайно в поэзии Поплавского возникают попытки мнимого воспроизведения романтической атмосферы, которая нарочито разрушается автором в последующих строках странными, гротескными неологизмами:
Опалово луненье белых рук Открылось над заумным магазином... Урлы као аола хаола Юлоуба баора барбазажна. («Опалово луненье белых рук...»; 30, 262)
Литература пока является для Поплавского не более чем областью формалистических экспериментов - и в «Новогодних визитах. Посещение четвертое» (1925) хаотическое описание взаимоотношений героев, представленное в первой строке, во второй уже характеризуется как «монтаж» (30, 263), не претендующий на наличие логических взаимосвязей и несущий черты театрального представления: «я...весь озабочен предстоящим актом» (30, 263). Почти так же в стихотворении «Рассматривали вы когда друзья...» (1925) описание гибели Офелии сочетается с обилием футуристических сравнений («плывет...как лапчатый листок // как гусь кружит взывает как свисток») и итоговым замечанием «В воде царит литературный ад» (30, 271).
Символом любви является в первых стихотворениях «Флагов» двуглавый орёл - знак уходящего времени и торжественной застылости. «Превращение в камень» (31, 5) - так обозначает аналогичные процессы Б. Поплавский в названии второго стихотворения сборника (1923). Герои «Орлов» крыльями не обладают, зато ими наделён их экипаж: «Я помню лаковые крылья экипажа» (31, 5). Однако он целиком посвящен воле двойственного существа (кучер-капитан), скрывающего от путешественников «величину пройденного пути». Герои вообще не знают, что ждёт их; не смотрят вперёд, имитируя положение голов двуглавого орла, - но и это единство кажущееся: как говорится в названии, они не «орёл», а «орлы». Смысл действия в стихотворении «Орлы» потерян:
Ты мне грозила 18 дней, На девятнадцатый смягчилась и поблекла (31, 5).
Почему героиня смягчилась, почему на 19-й день? Ответа нет. На протяжении всего путешествия героев сопровождает закат, но его исчезновение не влечёт за собой наступления ночи, способной, по Поплавскому, открыть человеку подлинную суть происходящего, избавив от дневной видимости. Путешественники замечают лишь, что «стало вдруг заметно холодней» (31, 5), а конец последней строфы является почти дословным повторением конца первой, что подчёркивает цикличность движения: «Так Христофор Колумб // Но капитан» - «скрывал от экипажа Величину пройденного пути» (31, 5).
Закатные перемены героини лишь слабое подобие поведения в ночи других героинь, обладающих «странным» взглядом (31, 28), «бессмертными» (31, 28), «незабвенными» (31, 30) руками. Пока же перед нами именно «превращение в камень», в одноимённом стихотворении сопровождаемое определенной иронией по отношению к «Фоме Неверящему», пытающемуся согреть руки в закате, однако его герои не замечают трансформации образа: именно Фома, в отличие от них, готов поверить в чудо, избавляющее от наступления «снежных часов» (31, 5). При этом заметим, что времена года в сборнике «Флаги» часто являются выражением состояния персонажей, а не неизбежной действительностью: там, где одни видят «твёрдый снег», другие идут по дороге, являющейся «мягким воском»; разница же между первыми и вторыми заключается в том, что первые Свои.. .в Боге обозрели бармы
И повернули медленно назад («Армейские стансы», 1925; 31,10-11) Подобного рода ограничения в восприятии Иного закономерно приводят не к индивидуализации, а к стиранию различий: в «Армейских стансах» все номинации путешественников сводятся к словам, связанным с армейской тематикой («караульная служба», «пленные», «запас» и т.д.); в «Превращении в камень» безликость героев подчёркивается умножением действия:
Зима плыла над городом туда, Где мы её, увы, ещё не ждали (31, 6).