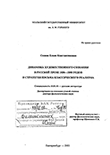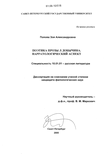Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Пространство и время в романах С. А. Клычкова
1.1. Пространственная и временная структура в сюжете о потерянном рае 38
1.2. Мифология времени и ритуал в сюжетах романов С. Клычкова 62
Глава 2. Поэтика сказки в романах С. А. Клычкова
2.1. «Князь мира»: сюжет об инициации и мифологическая традиция 72
2.2. Сказка и миф во внесюжетных элементах романов С. Клычкова 86
2.3. Мотив двойничества / оборотничества в изображении явной и скрытой реальности 98
Глава 3. Экзистенциализм в романах С. А. Клычкова
3.1. Экзистенциальные мотивы в романах С. Клычкова и в произведениях магического реализма 118
3.2. Лейтмотив как выражение экзистенциализма С. Клычкова 135
3.3. Тема зла в прозе С. Клычкова 143
Заключение 166
Библиография 175
- Пространственная и временная структура в сюжете о потерянном рае
- Мифология времени и ритуал в сюжетах романов С. Клычкова
- «Князь мира»: сюжет об инициации и мифологическая традиция
- Экзистенциальные мотивы в романах С. Клычкова и в произведениях магического реализма
Введение к работе
В настоящее время творчество новокрестьянских писателей первой половины XX века, в частности проза С. А. Клычкова, представляет большой научный и читательский интерес. «Мифопоэтическое мышление "крестьянской купницы" - это отражение народного миросозерцания, определяемого древними и библейскими мифами и одновременно следование традиции мифологизма в русской литературе XIX - XX веков»1. Творчество новокрестьянских писателей выразило социальные, нравственные, философские, трагические аспекты русского национального сознания первой половины XX века.
Проза Клычкова представляет собой целостную, законченную концепцию мира и человека, выразившуюся в поэтике романов, отразившей черты магического реализма. В частности, в принципах построения пространственно-временной модели мира. Три законченных романа были написаны Клычковым в течение трех лет. Это «Сахарный немец» (1925), «Чертухинский балакирь» (1926) и «Князь мира» (1927). Первый роман «Сахарный немец» имел также сокращенный вариант «Последний Лель», который вышел в Харькове в 1928 году. Эта трилогия являлась лишь частью задуманного писателем большого цикла-девятикнижия под общим заглавием «Живот и смерть». Остальные романы завершены не были. Из архивов, журнальных анонсов, писем писателя известны лишь их названия. Это «Серый барин», «Китежский павлин», «Спас на крови», «Лось с золотыми рогами», «Буркан — мужичий сын», «Призрачная Русь». В 1926 году в сборнике прозы Клычкова, вышедшем в Харькове, было опубликовано начало романа «Серый барин». На основании первых трех глав можно сделать вывод, что «Серый барин» - последняя часть трилогии «Сорочье царство». Из архивных изысканий Н. М. Солнцевой известно, что существовали и другие варианты названия романа, например, «Проданный грех». Это говорит о незавершенности замыслов писателя2.
Девятикнижие должно было состоять из трех трилогий, каждый роман включал бы в себя девять глав. Взаимопроникающие мотивы и образы дополняли бы и раскрывали последующие сюжетные линии. Так, например, «Серый барин» рассказывал о барине Михаиле Михайловиче Бачурине, детство которого описано в романе «Князь мира». В «Князе мира» есть намек на будущую судьбу крепостного Буркана, восставшего против барыни Рысачихи: он должен будет жениться на дочке Рысачихи, которую та родила от пономаря-оборотня. Этот замысел Клычкова отражает его общую мифопоэтическую концепцию, показывая взаимообусловленность социальной природы зла («нечистого» зла Рысачихи и «праведного» зла Буркана), свидетельствуя о перепутанности жизненных доминант.
Осмысление творчества Клычкова в критике 1920-х годов шло вместе с осмыслением значения и всей новокрестьянской литературы. Немногие критики относились к писателю сочувственно. Клычкова поддерживали А. Воронский, А. Лежнев, Д. Горбов, получившие определение «оппортунистических критиков» и «правозаступников кулацких писателей»3.
Воронский акцентировал внимание как на мировоззренческой сути прозы Клычкова, так и на поэтике. Так, он писал по поводу языка клычковского «Чертухинского балакиря»: «Клычков необычайно талантлив [...]. Писатель сумел показать спиридоновскую, дикую, дремучую Русь в ее плоти. Она встает как заповедный, нетронутый, свежий и пахучий сосновый бор. Ни у Мельникова-Печерского, ни даже у Лескова нет такого телесного ощущения этой Руси [...]. Художественные достоинства романа высоки и несомненны. Прекрасна и чиста у писателя наша родная речь, разговорный, упрощенный сказ с тонкими, прочувствованными и напряженными лирическими отступлениями, полушутками, с прибаутками, с умеренной словоохотливостью. Выразительны образы [...]» («Красная новь», 1927, № 10)1. Критик обратил внимание на наиболее часто упоминаемые в статьях о творчестве Клычкова особенности стиля, которые, однако, не исчерпывают характеристики поэтики прозы поэта в целом и являются наиболее очевидными, но не определяющими оригинальность его творческой манеры. Однако Воронский писал и о том, что Клычков в целом не крестьянский писатель, а «причудливая и яркая смесь патриархальной деревенщины, лишившейся корней и устоев» , с прежней интеллигентской богемой, а также о том, что жизнь реальной трудовой деревни не показана в романе, автора больше волнуют интимные, узкоиндивидуальные и религиозные проблемы, что «широкие общественные цели сменились религиозным атавизмом, лунными, обманными чарами»1 и страхом перед железным чертом. Следует заметить, что в 1920-е годы термин «крестьянский писатель» предполагал верность писателя партийной идеологии и противопоставлялся термину «кулацкий писатель», который, как правило, использовался критиками при-менительно к Клычкову. Таким образом, критическая позиция Воронского обнаруживает сложность его положения: стремясь воздать должное Клычкову, он старался оставаться в рамках идеологических критериев.
А. Лежнев в своей статье «Художественная литература», напечатанной в альманахе «Перевал» за 1928 год, делая обзор литературы за десять послереволюционных лет, выделяет в ней крестьянских и «крестьянствующих» писателей. К крестьянствующей группировке он относит Н. Клюева, А. Чапыгина, С. Есенина и С. Клычкова. Восхитившись «виртуозным языком» Клычкова, Лежнев определил его произведения как «окаменелый анахронизм»2.
В неомифологических романах Сергея Клычкова, его языческом мироощущении, в образах ведьм, русалок, чертей, лешего Антютика большинство писателей и критиков старались углядеть лишь наивную сказочную утопию, не имеющую ничего общего с действительностью. Однако за староверской сказкой, мифом Клычкова скрывалась антиутопия.
Резкое неприятие творчества Клычкова в критике 1920-х годов закончилось литературной травлей писателя, арестом, расстрелом и долгим замалчиванием его литературной деятельности вплоть до 80-х годов XX века. Начиная с середины 1980-х впервые после почти шестидесятилетнего забвения публикуются его поэтические сборники: «Стихотворения» (сост. Н. В. Банников, М., 1985), «В гостях у журавлей» (сост. Н. В. Банников, М., 1985), «Стихотворения» (сост. М. Нике, Париж, 1985), «Стихотворения» (сост. С. И. Субботина, М., 1991), «Стихотворения» (сост. А. И. Михайлов, Ставрополь, 1992), «Тайна Троеручицы: стихи» (М., 1994); выходят отдельные издания романов писателя: «Сахарный немец» (под ред. М. Нике, Париж, 1982), «Князь мира» (под ред. М. Нике, 1985), «Чертухинский балакирь» (сост. Н. М. Солнцева, М., 1988), «Сахарный немец; Князь мира. Романы» (Послеслов. и примеч. Н. М. Солнцевой, М., 1989), «Последний Лель. Проза поэтов есенинского круга» (сост. С. С. Куняев, М., 1989). В 2000 году выходит двухтомное собрание сочинений Клычкова (Сост. М. Нике, предислов. Н. М. Солнцевой, М., 2000).
В последние годы появился целый ряд работ, посвященных творчеству Клычкова и проливающих свет на личность и художественные поиски писателя. Прозе Клычкова посвящены диссертация и книга Н. М. Солнцевой «Проза Сергея Клычкова: из истории идейных и художественных исканий в литературе 20-х годов» (М., 1989), а также выполненная ею в жанре филологической прозы книга «Китежский павлин» (М., 1992); главы в кандидатской диссертации 3. Я. Селицкой «Творчество С. Клычкова: черты творческой индивидуальности художника» (Л., 1989); главы в докторской диссертации и в книге Е. И. Марковой «Творчество Николая Клюева в контексте севернорусского словесного искусства» (Петрозаводск, 1997); глава в докторской диссертации Л. В. Гурленовой «Чувство природы в русской литературе 1920 - 1930-х годов» (Сыктывкар, 1998); глава в докторской диссертации Т. А. Пономаревой «Проза новокрестьян 1920-х годов: Типология. Поэтика» (М., 2000); кандидатская диссертация Е. В. Лыковой «Неомифологические аспекты поэтики и гоголевская традиция в творчестве С. А. Клычкова (на материале романа «Чертухинский балакирь»)» (М., 2004); кандидатская диссертация Ю. А. Изумрудова «Лирика Сергея Клычкова» (Н. Новгород, 1993); монография А. И. Михайлова «Пути развития новокрестьянской поэзии» (Л., 1990); раздел монографии Л. В. Гурленовой «Чувство природы в русской литературе 1920 - 1930-х годов» (Сыктывкар, 1998); статьи С. С. Куняева, М. Нике, С. И. Субботина, В. Морозова и др.
Солнцева в своей книге «Китежский павлин» рассматривает философские и эстетические искания Клычкова в контексте творчества крестьянских писателей (Н. Клюева, С. Есенина, А. Ганина, А. Ширяевца, П. Карпова и других). Ею впервые в русском и зарубежном литературоведении исследована история Всероссийского общества крестьянских писателей, рассмотрены провокации советских идеологов, систематически проводившихся с целью дискредитации новокрестьянских писателей. Исследование подкреплено богатым документальным материалом, широко использованы архивные документы. В монографии Михайлова «Пути развития новокрестьянской поэзии» исследованы исторические, народно-поэтические и социальные корни новокрестьянской поэзии, показана увлеченность крестьянских поэтов символизмом на первом этапе своего становления и обретение ими собственного, подлинного творческого лица. Михайлов пытается осмыслить особенности клычковских произведений, распознать философские и эстетические установки поэта. В монографии показано индивидуальное своеобразие каждого поэта из «крестьянской купницы». В книге Марковой «Творчество Николая Клюева в контексте севернорусского словесного искусства» дается анализ мифологических образов и мотивов не только представителей «крестьянской купницы (Н. Клюева, С. Клычкова, А. Чапыгина, А. Ганина), но и их сопоставление с мотивами, в частности мифологемами, других писателей XX века (например, М. Цветаевой), делаются попытки изучения севернорусского национального фольклора в контексте мировой мифологической традиции. В докторской диссертации Пономаревой «Проза новокрестьян 1920-х годов» прозаическое творчество новокрестьян рассматривается как идейно-художественное целое, основу которого составляет мифопоэтическая концепция бытия, показано своеобразие концепции жизни, присущей каждому их писателей, в том числе Клычкову, особенности ее воплощения в тексте, связь с мифологическим сознанием и народной социальной утопией, с поэтикой фольклора.
По сути, в перечисленных работах внимание в большей степени уделялось изучению текстологии, литературного контекста, философского содержания новокрестьянской литературы, и в меньшей степени - исследованию поэтики мифотворчества. Следующий этап в изучении прозы и поэзии новокрестьянских писателей характеризует интерес к художественной специфике текстов. Мифопоэтической структуре «Чертухинского балакиря» посвящена кандидатская диссертация Лыковой.
Предметом настоящего диссертационного исследования являются романы С. А. Клычкова, представляющие собой неомифологическую прозу.
Его трилогия построена по принципу обратного временного отсчета: если в первом романе «Сахарный немец» Клычков пытается объяснить дисгармонию российской жизни отчасти Первой мировой войной, то в следующем романе, «Чертухинском балакире», охватывающем еще более отдаленный от современности временной промежуток - конец XIX века, причина бед - не символический карлик, сахарный немец, а уже сам русский человек. Клычков пытается различить почвенные истоки зла в крестьянском мире. В его прозе святость и греховность, величие и низменность, нежность и жестокость крестьянской души раскрываются постепенно. Писатель достигает эффекта сиюминутного открытия природы человека -мудрого и неразумного одновременно, верящего в Бога и слабого перед силами дьявола. Война 1914 года, в которой Клычкову довелось участвовать, только укрепила в писателе его ощущение вселенского зла. «Бес - моя основная философская тема», - пишет Клычков в своих записных книжках в 1930-м году («Неспешные записи»)1.
В третьем романе «Князь мира», описывающем жизнь России накануне реформы — отмены крепостного права, показана беспросветность крестьянской жизни, что обнаруживает экзистенциальное состояние писателя.
Вину Клычков возлагает на людей с их непомерной плотью, склонностью к пьянству, меркантильности и зависти. Как говорилось выше, трилогия Сергея Клычкова - это только часть задуманного им романного цикла, девятикнижия. Он собирался написать девять романов, разделенных на три трилогии под общим названием «Живот и Смерть».
Замысел большого прозаического произведения впервые возник у Клычкова в 1913 году после путешествия писателя на озеро Светлояр. Таким образом, концепция девятикнижия созревала у Клычкова в течение последующих десяти лет, после чего он приступил к осуществлению задуманного. «Сахарный немец» появился в 1925 году, когда в Европе вышла первая работа о магическом реализме «Постэкспрессионизм. Магический реализм» Франца Роо. В основе метода магического реализма лежит синтез реалистической эстетики и мифа. В целом проза Клычкова рассматривается нами как явление русского магического реализма. Впервые романы Клычкова были отнесены к магическому реализму в книге Е. Б. Скороспеловой «Русская проза 20 века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго»)» (М., 2003).
Миф — одно из важных и основных понятий для литературной эпохи XX века. Дошедший до двадцатого столетия миф привлекает к себе внимание своей многозначностью, универсальностью, способностью выражать и проецировать множество значений и смыслов. В качестве альтернативной (по отношению к науке, истории,-культуре) системы знаний он может представляться как целостный и синкретичный образ мира. Мифология, по словам К. Г. Юнга, являет собой непреходяще значимую «проекцию коллективного бессознательного»1. В XX веке В. Е. Хализев акцентирует внимание на других аспектах мифа, считая, что «миф ИНОнаучен и так сказать, ИНОрационален, но в то же время не может быть охарактеризован как явление АНТИнаучное и АНТИрациональное» . Г. А. Тиме отмечает, что «миф [...] превратился в начале XX века в своеобразный первоэлемент не только философских и художественных, но и идеологических, даже политических построений»: под мифом и мифологией «все чаще стали понимать не только и не столько древние сказания, сколько новые мировоззренческие категории»3. О других, сакральных, качествах мифа, являющегося ключом к человеческому познанию мира, говорит французский этнограф и философ К. Леви-Стросс. По его мнению, раскрывая структуру мифов и через нее - структуру человеческого разума, можно раскрыть и структуру мира, который «за тысячи, миллионы, миллиарды лет не делал ничего другого, кроме того, что соответствует обширной мифологической системе»1. В статье «Мифология XIX-XX веков и литература» В. Е. Хализев систематизирует миф исторически, выделяя три стадии всемирного мифологического процесса: во-первых, предкультурную родоплеменную архаику (ритуально-мифологический синкретизм); во-вторых — мифы, сформировавшиеся под влиянием политеистических и монотеистических религий; в-третьих, мифологию Нового времени или неомифологию, проявившую себя еще в эпоху романтизма и достигшую своего расцвета в XX веке (наряду с традиционно религиозными активны мирские, светские начала) .
«Мода на миф, своеобразный мифоцентрический тоталитаризм, - пишет А. С. Козлов, - пришла на рубеже XVIII-XIX веков, сменив презрительное и высокомерное отношение к мифологии со стороны рационалистов-просветителей. В отличие от классицистов, представители предромантизма и романтизма рассматривали стихийное народное творчество, включая и мифологию, как проявление высшей художественности, отмеченной свежестью и непосредственностью восприятия»3. Предтечами такого понимания мифа в XVIII веке исследователь называет Т. Блэкуэлла в Англии и И. Гердера в Германии; особую роль он отводит Ф. Шеллингу и литературно-теоретическим работам немецких романтиков»4.
Исторически универсальные связи литературы с мифологией сильно изменились в эпоху романтизма. Древние мифы в этот период трансформируются. Романтики порой до неузнаваемости изменяют сюжеты и образы из далекого прошлого, подчиняя мифы задачам авторского самовыражения.
Во второй половине XIX - начале XX века складываются первые, по-настоящему крупные мифологические школы. Если еще в первой половине XIX века мифологическая критика только претендовала на объяснение ранних форм художественного творчества, выявляя мифологические мотивы в сказках и песнях, то в XX веке она пыталась свести всю художественную литературу к мифу как в генетическом, так и в структурном и содержательном планах. Именно в XX веке термин «мифологическая критика» складывается и развивается как направление.
1. Первая большая школа современной мифологической критики появляется в Англии в начале XX века и связана она, прежде всего, с именем Дж. Фрезера, английского ученого, представителя антропологического направления в науке о. мифе. Он известен своей работой «Золотая ветвь» (1915). Другие представители антропологического направления - Э. Тейлор, Э. Лэнг и др. Если Лэнг занимается изучением проблемы древних религий и тотемов, то Фрезер уделяет много внимания изучению магии и связанных с нею ритуалов, оказавших, по его мнению, большое влияние на художественную культуру первобытного человека. Фрезер считает, что ритуалы являлись художественными действиями, а их словесными эквивалентами стали мифы, среди которых самый важный - миф об умирающем и возрождающемся божестве (Осирис - у египтян, Адонис - у греков, Аттис - у римлян). Благодаря научной деятельности Фрезера школа английской мифологической критики впоследствии получила определение «ритуальной» критики. К первому поколению ее представителей относится группа ученых из Кембриджского университета - Э. Чемберс, Дж. Уэстон, Дж. Харрисон, Ф. Корнфорд и примкнувший к ним Г. Мэррей из Оксфорда. Позднее направление «ритуальной» критики, представляют Ф. Рэглан и Р. Грейвс («Белая богиня», 1958).
2. Наряду с фрезеровским вскоре появляется и начинает с ним соперничать юнгианское направление. Архетип (термин, введенный в широкий литературоведческий обиход К. Юнгом [статьи «Об архетипах коллективного бессознательного», «Психологический аспект архетипа матери», 1938]) как бессознательное, но основное средство передачи наиболее важного человеческого опыта из поколения в поколение, как составная часть «коллективного бессознательного» антитетичен индивидуальному бессознательному 3. Фрейда (работа «Тотем и табу», 1923) с его концепцией подавленных эротических влечений. Идеальным проявлением «коллективного бессознательного» для Юнга являются мифы, образы которых превратились в архетипы, стали основой для дальнейшего художественного творчества. Так, архетипом Гамлета, как полагает Юнг, был Орест, Шекспир извлек этот образ из бессознательного, а не осознанно срисовывал копию с него.
3. Первый крупный американский мифокритик У. Трой, научные работы которого («Перечитывая Бальзака», 1940) появляются в печати с конца 1930-х годов, применяет мифологический метод для анализа современной литературы и литературных направлений. Большое влияние на развитие американской мифологической критики оказали работы Р. Чейза («Поиски мифа», 1949) и Н. Фрая («Анатомия критики», 1957). Для Чейза миф - не древняя идеология, а художественное произведение. Фрай сочетает эволюционистский подход к мифу с элементами структурализма, использует как фрезеровский, так и юнгианский подходы. Из мифа развивается вся последующая литература, возвращающаяся на определенном витке к своим первоистокам. В «Анатомии критики» Фрай называет модернистскую литературу новой мифологией. Он рассуждает как и Юнг, говоря, что архетипы постоянно встречаются в произведениях писателей и что существует общая тенденция к воспроизведению этих формул. Он определяет центральный миф всего художественного творчества, связанный с природными циклами и мечтой о золотом веке, - миф об отъезде героя на поиски приключений.
Фрай считает, что мифоцентризм даст литературоведению основу, так как «критика остро нуждается в координирующем принципе, в центральной концепции, которая, подобно теории эволюции в биологии, помогла бы осознать литературные явления как части одного целого»1. Фрай называет циклизм главным и абсолютным свойством мифологического мышления. Ритуал, по мнению Фрая, тяготеет к повествовательной модели и как временная последовательность действий является его корнем. Литературные жанры, символы, метафоры постоянны и неизменны в силу их исконной ритуально-мифологической природы. Историческое движение литературного процесса является круговым - от мифа к мифу, а историзм преодолевается с помощью циклизма.
4. Основополагающими являются выводы о мифотворчестве и о роли мифа в литературном процессе, предложенные русскими учеными. Е. М. Мелетинский в «Поэтике мифа» (1976), делая обзор отечественной мифологической критики, выделяет двух крупных исследователей - А. А. Потебню и А. Н. Веселовского. «Их методология, естественно, глубоко уходит своими корнями в прошлый век (общая позитивистская выучка, гумбольдтианство и солярно-мифологическая фольклористика для Потебни, классическая английская антропология для Веселовского), что не помешало им выдвинуть идеи, во многом предвосхитившие течение научной мысли двадцатого века»1, - пишет Мелетинский.
Подход А. А. Потебни к мифу - лингвистический. Он выделяет внутреннюю образную форму слова, которая противопоставлена его внешней звуковой форме. Неделимость семантики образа и значения выражает специфику мифа. Потебня часто ссылается на мифологическую школу XIX века, в частности на М. Мюллера. Он полагает, что «язык есть главное и первообразное орудие мифологии» . Поэтому миф нельзя мыслить вне слова, а значит, он принадлежит словесности. Но, в отличие от Мюллера и А. Н. Афанасьева, он не считает, что язык начал порождать мифы вследствие потери его первоначальной метафоричности. Потебня заметил, что образная символика полисемантична и образ всегда заменяет сложное более простым и единичным. Осознание полярности образа и значения он называет концом мифа и переходом к метафоре.
5. Веселовский рассматривает миф не с позиций семантики слов, как Потебня, а с точки зрения сюжета, исходя из внешних жанровых форм. Веселовский опирался на труды английских антропологов Э. Тэйлора, Э. Лэнга. Он считал, что мотивы мифа отражают социальный уклад жизни архаического общества, а сюжеты -результат постоянного заимствования. Мелетинский, говоря о научных работах Веселовского, прежде всего о его «Исторической поэтике» (1940), пишет: «А. Н. Веселовский непосредственно предшествует кембриджскому ритуализму и кое в чем его предвосхищает, предлагая при этом гораздо более широкую и фундаментальную концепцию участия ритуалов в генезисе не отдельных сюжетов и жанров, а поэзии и отчасти искусства в целом; при этом им учитывается также огромное значение народного творчества в процессе формирования словесного искусства и его разновидностей» .
6. Большой интерес вызывают работы по мифологии В. Я. Проппа. В своих книгах «Морфология сказки» (1928) и «Исторические корни волшебной сказки» (1946) он разработал и создал модель синтагматики метасюжета волшебной сказки. Используя линейную модель последовательности действий в сказке, он возводит жанр волшебной сказки к обрядам инициации. Исследования Проппа посвящены проблемам понимания символики сказочного пространства, анализа героического эпоса и сюжетов о поисках.
7. А. Ф. Лосев, как и Э. Кассирер («Мифологическое мышление», 1925), говорит о неразделенности в мифе идеального и вещественного, следствием чего в мифе является распространение стихии чудесного. В своей монографии «Диалектика мифа» (1930) он выделяет основные позиции мифа: личность, история, слово и чудо. В этой работе Лосев пишет об истинном символическом мифе у Вагнера, о гениальной мифической интуиции Гоголя, о трех «мифологиях природы» у Пушкина, Тютчева, Баратынского.
8. О. М. Фрейденберг в монографии «Образ и понятие» (1945-1954), изучая роль античной метафоры, пишет, что восприятие явлений в мифе в виде двух тождественно-противоположных полюсов сохраняется в структуре семантики как «понятие». «Понятие» делит эти два тождества, вводит противопоставление и уподобления реальности. Исследователь приводит в пример античный мимезис. Ритуально-мифологические образы, дополнительные шутовские аспекты этих образов Фрейденберг связывает с архаическим мышлением, тогда как М. М. Бахтин рассматривает их как часть народной карнавальной культуры.
9. В книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965) Бахтин анализирует и реалистическую символику «карнавальных традиций и ее развитие у Ф. Рабле. Карнавальная поэтика восходит к традициям, опирающимся на циклические представления о времени и о вечном обновлении жизни через смерть. В карнавальном мире на первый план выходит гротескный реализм, проявляющийся в гиперболическом выпирании телесного, низменного. Появляется гротескный образ единой пожирающей - пожираемой и рождающей — рождаемой утробы, который разрастается до пределов вселенского, космического. Народная карнавальная античная и средневековая культура являются промежуточным звеном между архаической мифологией-ритуалом и художественной литературой. Через анализ «карнавальной культуры» М. Бахтин показал фольклорно-мифологические корни творчества Рабле и литературы позднего средневековья и Ренессанса в целом. В работе «Искусство слова и народная смеховая культура (Рабле и Гоголь)» (1972) Бахтин находит элементы «карнавальной», то есть ритуально-мифологической образности в поэтике Гоголя.
10. Среди работ лингвистов-структуралистов второй половины XX века, посвященных проблеме мифологии, следует выделить исследования В. В. Иванова и В. Н. Топорова, многие из которых написаны совместно («Славянские моделирующие языковые системы», 1965; «Исследования в области славянских древностей», 1974). Как пишет Мелетинский, «В. В. Иванов указал на поразительную близость некоторых гоголевских фантастических мотивов (особенно в «Вие») к современным научным реконструкциям славянской мифологии [...], а В. Н. Топоров («О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления», 1973) проделал разбор «Преступления и наказания» Достоевского в соотношении с некоторыми архаическими мифологическими структурами (главным образом на лексическом уровне) и с указанием в приложении некоторых параллелей из произведений Пушкина и Гоголя. Топоров видит определенное сходство между текстом Достоевского и архаическими космологическими схемами, в которых кризисная опасность «хаоса» преодолевается поединком противоборствующих сил [...] Этим Топоров мотивирует [...] сильную дискретизацию и отмеченность романного пространства и времени, роль символов «заката солнца» (типичный мифологический образ, указывающий не только на цикличность, но и на опасность момента) и «Петербурга» с его «фантасмагоричностью» и четким пространственным «мифологическим» противопоставлением середины (которой угрожает хаос, о чем свидетельствует узость, ужас, духота, толпа и т. п.) и периферии, обещающей свободу, выход из положения (актуализация оппозиций достигается пространственным перемещением героя)» .
11. С. Ю. Неклюдов рассматривает в своих статьях («Особенности изобразительной системы в долитературном повествовательном искусстве», 1972; «О функционально-семантической природе знака в повествовательном фольклоре», 1975) соотношение архетипических мифологических моделей со сферой мифо-поэтического сознания при помощи методов семиотики .
В литературе XX века миф выражает определенную концепцию мира. Особенно заметно это становится в процессе перехода от реализма XIX века к модернизму XX века. Мифологизм выходит за пределы социальной и исторической детерминированности, в рамках которой разворачивалось действие романов XIX века. В XX веке модернизм заменяет социально-исторический подход
мифологическими средствами. Вслед за символизмом наиболее ярко мифологический принцип проявился в авангарде: в футуризме, позднее - в творчестве обэриутов. Мифологизм - непременная основа как раннего, так и позднего творчества новокрестьян. Причем, опираются они на почвенную, национальную, культуру, что само по себе является универсалией мировой культуры. Например, латиноамериканские писатели (Г. Г. Маркес, X. Л. Борхес, А. Карпентьер и др.) также сближают модернистский мифологический подход с фольклорными, национальными традициями своих стран.
Таким образом, мифологический подход становится инструментом повествовательного структурирования.
Хализев, разграничивая миф и неомиф, определяет общие точки соприкосновения древней и новой мифологии, их закономерности и
различия. В статье «Мифология XIX - XX веков и литература» он выделяет ряд признаков и отличий мифологии и неомифологии.
1. Древняя мифология имела представления об упорядоченности и совершенстве мира. Новая мифология с течением времени все активнее выдвигает на первый план видение реальности как дисгармоничной и безысходно хаотической.
2. Расширение круга мифологизируемых предметов в неомифологии по отношению к древним мифам, сосредоточенным на силах природы и далеком историческом прошлом.
3. В новое время изменился субъект мифовосприятия. Неомифология в меньшей степени, чем исторически ранняя, является достоянием людей, укорененных в многовековой традиции. Поэтому она часто порождает мифы-однодневки.
4. Ранняя мифология формировалась естественно и стихийно, в русле родоплеменной и народной жизни. Новые мифы, стимулируясь социально влиятельными кругами общества, вовлекаются в социальные конфронтации и оказываются идеологизированными.
5. Неомифы, утратив былой общенародный характер, уже не обладают безусловной властью над сознанием общества. Эти мифы имеют противовесы себе как в инонаправленных, полярных им мифах, так и в немифологизированном сознании.
Архаические мифы в силу своего природного постижения и развития несли в себе «представление о кровном родстве для всех форм жизни» (Э. Кассирер1). Древние мифы, как писал М. Элиаде, были основаны на «[...] концепции, согласно которой все противоположности примиряются» . Неомифология подобна
«философии рассечения», кладущей в свою основу ранние антитезы. Она отмечена энергией, расчленяющей мир и его феномены.
Основой для развития мифологизма, в частности магического реализма, в произведениях XX века послужил русский реализм XIX века, в ряде произведений которого изображение реальности не сводится к изображению очевидного и узнаваемого, но раскрывает и ассоциативное содержание действительности. «Как можно утверждать, что какое-то художественное направление более близко, чем другие, отображает реальность, если мы, по сути, не знаем, что такое реальность?»1, - вопрос, по сути, выводящий реализм за границы исторического и социального детерминизма. Во многих произведениях XIX века, которые принято считать реалистическими (А. С. Пушкин, «Пиковая дама, 1833; Н. В. Гоголь, «Портрет», «Невский проспект», 1835; Ф. М. Достоевский, «Бесы», ... и др.), реализм сочетается с мифологизмом, фантастическими или фольклорными элементами. Так, петербургская фантастика Гоголя представлена искаженной, словно вывернутой наизнанку действительностью, которая порождает фантастические образы. С. И. Кормилов пишет: «[...] В. В. Набо-ков категорически возражал против признания Гоголя реалистом. Действительно, "натуральная школа", которую Белинский и Чернышевский объявили гоголевской, поняла его крайне упрощенно, главным образом с точки зрения сниженного предмета изображения, а не специфической художественной "модели мира"»1. Модель мира, изображаемую Гоголем, по праву можно считать мифологической, но не умаляющей реалистического метода.
В. В. Агеносов в работе «Советский философский роман в системе культуры» пишет о мифологической художественной модели в прозе XX века. В структуре русского романа второй половины 20-х годов XX века он выделяет «[...] наличие особого пространственно-временного континуума повествования, использование в той или иной мере условных приемов (мифа, сказки, притчи, литературно-исторических реминисценций, символа, утопии и т. д.)»2 Вяч. Иванов в экскурсе «Основной миф в романе "Бесы"» (1911), вошедшем в его статью «Достоевский и роман-трагедия» (1914), пишет о мифологии национальной идеи и о евангельских исканиях героев романа. За то же самое — за мифологию национальной идеи - в 1907 году он похвалил С. Городецкого («Ярь», 1907) и А. Ремизова («Посолонь», 1907), отмечая их «живое и непосредственное проникновение к родникам творчества народного»3. В реализме вызревал принцип мифологического, универ-сального видения мира, что позволяет нам искать истоки магического реализма в классических текстах XIX века. А. И. Журавлева пишет: «[...] классическая литература XIX века создала эту "новую русскую мифологию", и арсенал этот продолжал активно использоваться и в XX веке, причем не только до 1917 года, но и в советское время»4.
Произведения магического реализма, синтезировавшие реалистическую эстетику с национальной мифологией, имеют общие черты с мифологическим романом, развившимся в русле модернистской эстетики. Мифологический роман, мифологический рассказ как жанры русской философской прозы 20 - 30-х годов XX века обязаны своим расцветом А. Чаянову, А. Платонову, М. Булгакову, М. Пришвину, Л. Леонову, А. Грину. Пономарева полагает, что рождение мифологического романа этих лет связано с литературой Серебряного века, что послереволюционная литература учитывала опыт и символизма, и раннего творчества новокрестьян. Мифологизм в творчестве новокрестьян был близок к мифотворчеству символистов поэтическим подходом к миру. В прозе С. Клычкова и Н. Клюева наблюдается переход метафоры-символа в мифообраз, о котором писал А. Белый в сборнике «Символизм» (1910)1. Но если в символизме важна ориентация на индивидуальный миф, то новокрестьянский миф «есть истина различных миров, закрепленная словом и образом в коллективной памяти и передаваемая из поколения в поколение», есть связь произведения с национальной и мировой мифологией одновременно . О. Овчаренко, характеризуя магический реализм как явление литературы XX века, полагает, что «этот термин применяется в отношении литератур развивающихся стран, сохранивших мифологическое мышление и сознание и в то же время сумевших соединить их с достижениями литературы XX века»3. Е. Б. Скороспелова считает, что большое влияние на развитие после-революционной неомифологической прозы в России оказал А. Белый: «А. Белый оформил неомифологические тенденции, заявившие себе в начале XX века, и тем проложил дорогу Евг. Замятину, М. Булгакову, А. Платонову, С. Клычкову и др.»1. В романе «Петербург» (1916) Белый ввел второе пространство — особую внутреннюю реальность, создание которой потребовало синтеза прозы и поэзии, выдвинуло на первый план мотивную организацию повествования.
Начиная с 20-х годов, в русской литературе, как в поэзии, так и в прозе, идет процесс обращения к самобытным корням, национальной культуре, фольклору и сознанию, основанному на мифо-магическом мировосприятии. Мифологическая модель мира новокрестьян выражается как в создании ими отдельных художественных циклов, так и в циклизации всего творчества. Элиаде в своей работе «Миф о вечном возвращении» (1949) говорит об архаическом восприятии времени, как о ряде повторяющихся больших и малых циклов, отмеченных сакральными событиями сотворения, гибели и возрождения мира. Циклическому времени мифа противостоит время историческое и возникающие вместе с ним проблемы судьбы, личности, веры, названные автором «ужасом истории»".В отличие от времени мифа, время сказки представляет собой малую циклическую форму, замкнутую внутри себя. «Время в сказке всегда последовательно движется в одном направлении и никогда не возвращается назад. Условность сказочного времени тесно связана с его замкнутостью. Сказочное время не выходит за пределы сказки. Оно целиком замкнуто в сюжете»3. Фольклор и народная сказка, в частности, сыграли большую роль в формировании литературы русского магического реализма. Более подробно связь магического реализма с русской народной сказкой рассмотрена во второй главе диссертации. Кроме сказки, среди источников магического реализма следует выделить русскую средневековую фантастику. Мотивы чудесного в реальности составляют специфику сюжетов «Слова о полку Игореве»(12 в.), «Повести о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим»(15 в.), «Слова о рахманах»(15 в.), «Видения Хутынского пономаря Таисия»(16 в.), «Повести о Петре и Февронии»(16 в.), «Повести о бесноватой жене Соломонии»(17 в.) и многие другие. Предшествовали появлению магического реализма и волшебно-богатырские повести 18 века -литературные сказки М. Чулкова, М. Попова, В. Левшина.
Поэтический эпос Н. Клюева «Погорелыцина» (1928) и «Песнь о Великой Матери» (1930), который, на наш взгляд, следует воспринимать, как явление русского магического реализма, можно рассматривать как целостное жанровое образование - дилогию о погибающей Руси. Цикл романов Клычкова, задуманный им еще в 1910-е годы, называется «Живот и Смерть». Философское осмысление судьбы России новокрестьянскими писателями приводит к актуализации в их творчестве 1920-х годов структуры мифа. Именно в связи с новокрестьянами в советской литературе этого периода появляется течение магического реализма.
Термин «магический реализм» впервые употребляется Ф. Роо в книге «Постэкспрессионизм. Магический реализм» (1925). Роо писал об удивительной реальности на полотнах художников, которая с помощью смещения перспективы и искажения пространственного жизнеподобия приобретала «магическое» наполнение. В 1927 году X. Ортега-и-Гассет осуществляет частичный перевод на испанский язык книги Роо.
«Магическим реализмом» было названо также течение в итальянской литературе 1920-х годов, получившее теоретическую основу в 1927-28 гг. в журнале «Новеченто», который издавался писателем М. Бонтемпелли. В журнале публиковались немецкие (Г. Кайзер), английские (Дж. Джойс, Д. Г. Лоуренс, В. Вульф), французские и итальянские писатели. «Эпитет «магический», во-первых, наряду с первичной, видимой реальностью, включал в себя вторую, загадочную и необъяснимую, скрытую от наивного взгляда сторону действительности, которую писатель должен был обнаружить и «реалистически» изобразить в своем произведении и, во-вторых, «магической» должна быть сама способность художника снова соединить воедино распавшийся и обособившийся мир предметов и человеческих отношений, вдохнуть в него смысл, создавая тем самым новую модель взаимосвязей мира и человека»1.
После Второй мировой войны явление магического реализма получает второе рождение в немецкой литературе, уходя корнями в романтизм и экспрессионизм (романы Э. Кройдера «Общество с чердака», 1946; Г. Казака «Город за рекой», 1947 и др.). Но главным образом термин «магический реализм» получает широкую известность благодаря успеху латиноамериканского романа 1960-1970-х годов (М. Астуриас, Г. Гарсиа Маркес, А. Карпентьер, X. Л. Борхес и др.)1.
В России истоки русского «магического реализма» восходят также к реалистической прозе XIX века и к литературным процессам начала XX века. Как нами уже отмечалось, мифологические тенденции, в основе которых лежал национальный миф, оформились еще в русской классической прозе XIX века. Для писателей
«крестьянской купницы» Пушкин и Гоголь являлись эталоном подлинного искусства. Известно, что в деревне Клычкова главы из «Мертвых душ» Гоголя читали всем миром. В анкете журнала «книга о книгах», посвященной 125-летию со дня рождения Пушкина, Клычков писал: «Чувство влечения к Пушкину, любовь к его поэзии -как чувство голода, жажды: почти физическое чувство. В разгар футуризма и поэтического атеизма Пушкин для меня всегда был образцом утешения, успокоения и надежды [...]»; и далее: «Сейчас на нем будут учиться, подражать его стилю, удивляться его поэтической манере - завтра литература будет жить Пушкиным» .
В начале XX века в среде символистов идут активные дискуссии о «пробуждении национальной идеи»3. Е. Б. Скороспелова пишет: «Вопросы такого рода поднимаются в статьях и выступлениях А. Блока («Народ и интеллигенция», «Стихия и культура»), А. Белого («Луг зеленый», «Настоящее и будущее русской литературы»). Символисты испытывают притяжение к «стародавней старине», интерес к славянскому язычеству, к национальному фольклору. В этот момент как бы навстречу устремлениям символистской интеллигенции из глубин самой народной жизни поднимается плеяда творцов (Н. Клюев, С. Клычков, С. Есенин), которые впишут замечательную главу в историю отечественной литературы, выразив судьбы, чаяния русского крестьянства, воссоздав образ крестьянского мира, крестьянской культуры, которой предстояло уйти в небытие»4.
Писатели новокрестьянского направления не объединились в литературную школу, но были близки по социальному происхождению, в своих художественно-эстетических исканиях, в оценках и взглядах на судьбу России (Н. Клюев, С. Клычков, С. Есенин, П. Карпов, А. Ганин, П. Орешин, А. Ширяевец, П. Радимов). Сначала воспев в своем творчестве крестьянскую обетованную землю - Китежскую Русь, в 1920-1930-е годы они разочаровались в прежних идеалах, констатировав гибель Китежа и установление царства зла в России (С. Есенин «Страна негодяев», 1922-1923; С. Клычков «Князь мира», 1927; Н. Клюев «Погорелыцина», 1928).
В середине 20-х годов Клычков, к удивлению советской критики, пишет неомифологическую прозу, соединившую в себе образы и мотивы христианской и языческой мифологии, которая выражает его мифопоэтическую концепцию действительности и человека, великого и одновременно слабого перед искушениями дьявола. Герои произведений Клычкова - это жители российской глубинки самых разных социальных групп и сословий: крестьяне, помещики, солдаты Первой мировой войны, священники, солдатки. Хотя произведения Клычкова и получили одобрительные отзывы в статьях и рецензиях таких литературных критиков, как А. Луначарский, А. Воронский, А. Лежнев, Д. Горбов, это не спасло писателя от травли. Летом 1937 года он был репрессирован и позднее расстрелян.
В начале 1910-х годов А. Блок видит появление в литературе крестьянской творческой интеллигенции и приветствует ее: «[...] они видят сны и создают легенды, не отделяющиеся от земли: о храмах, рассеянных по лицу ее, о монастырях, где стоит статуя Николая Чудотворца за занавесью, не виданная никем, о том, что доски, всплывающие со дна глубокого пруда, - обломки иностранных
кораблей, потому что пруд этот - «отдушина океана». Земля с ними, и они с землей, их не различить на ее лоне, и кажется порою, что и холм живой, и дерево живое, и церковь живая, как сам мужик — живой. Только все на этой равнине еще спит, а когда двинется, - все, как есть, пойдет: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам, и церкви, воплощенные Богородицы, пойдут с холмов, и озера выступят из берегов, и реки обратятся вспять; и пойдет вся земля»1. Таким образом, Блок усматривал в мифологии новокрестьянских писателей почвенническую основу. Современные исследователи указывают на нее как на средство отражения действительности, видя в творчестве новокрестьян синтез мифологических и реалистических основ.
Говоря о взаимоотношениях В. Ходасевича и новокрестьянского поэта А. Ширяевца 1910-е годы, С. Куняев отмечает: «Интересно, что В. Ходасевич упрекал Ширяевца и его собратьев именно в «подстриженности», что лишний раз свидетельствовало о том, что на новую плеяду литераторов он смотрел из своего интеллигентского «далека». Реальная жизнь находила в их творчестве свое воплощение в степени ничуть не меньшей, чем сказка, миф, притча, народная песня. А подчас в одном и том же произведении сказочная стихия и стихия реальной жизни тесно переплетались и сливались воедино. Это слияние нетрудно увидеть и в карповском «Пламени», и в романах Сергея Клычкова, и в повести Сергея Есенина «Яр»".
Задача исследования - анализ поэтики романов Клычкова, выявление в художественной системе его произведений специфических особенностей магического реализма. Рассматривая творчество С. Клычкова как явление магического реализма, мы исходим из того, что для литературы магического реализма характерны следующие черты:
1. Наличие двойной реальности: первичной и скрытой. Сосуществование и взаимопроникновение этих реальностей. Переплетение фантастического и обыденного. Стремясь в целом сохранить верность принципу жизнеподобия, писатели магического реализма вместе с тем активно вводят в повествование мотив чудесного. Г. Г. Маркес пишет: «Я убежден, что читатель "Ста лет одиночества" не поверил бы в вознесение на небо Ремидиос Прекрасной, если бы не то, что она вознеслась на небо на белых перкалевых простынях»1. Астуриас и Карпентьер провели свою молодость в Париже, поэтому в их раннем творчестве так велико влияние сюрреализма. Преодоление сюрреализма для них с возвращением в латинскую Америку означало второе открытие для себя этой Америки, ее чудесной реальности, требовавшее от писателей обновления метода.
2. Искажение пространственного жизнеподобия свидетельствует о сверхреальном, магическом содержании. Подобное искажение проявляется в романах Клычкова, в частности, через мотив сна, смещение границ между реальным и ирреальным. При этом, если сон в сюрреалистических текстах отражает аберрацию сознания, обостренную рефлексию, то в текстах магических реалистов он суть скрытая реальность. Жизнь старого полковника из повести Маркеса «Полковнику никто не пишет» (1957) - сон, живя в котором он продолжает надеяться, что люди вспомнят его героические заслуги из прошлого, и он получит долгожданную пенсию ветерана. Но для остальных прошлое потеряло всякий смысл, утратило реальность.
3. Время субъективно и относительно, что является следствием отказа от рационалистического мышления и отражает поэтическое ощущение мира. В «Сто лет одиночества» (1966) Маркес изображает застывшее время и фантасмагорический ливень, который идет в отдельно взятом городе несколько лет.
4. Писатель систематически замещает свой взгляд образованного человека как носителя высокой культуры взглядом примитивного человека, инфантильно и непосредственно принимающего первичную и скрытую реальность. В романе Карпентьера «Царство земное» (1949) автор следует повсюду за своим героем - гаитянским рабом Макандалем, ушедшим в неземное царство магической реальности. Только человеку, попавшему в это царство, открывается смысл жизни в царстве земном и оправдание земных тягот. В своих романах К. Кастанеда учится чувствованию жизни у старого индейца дона Хуана; один из них назван «Особая реальность», и в нем дон Хуан открывал рассказчику суть ««непристегнутости» необычной реальности»1.
5. Мотивы магического в тексте магического реалиста объясняются способностью автора и героя увидеть реальность под определенным углом, при этом в диалог вступают такие типы сознания, как мифологическое, мистическое, реалистическое. Роман Хуана Рульфо «Педро Парамо» (1955) написан в жанре мениппеи. Благодаря мистическому общению героя с мертвыми воссоздается картина мирового насилия и жестокости.
6. Отказ от психологического детерминизма. В произведениях магических реалистов отсутствует психологический анализ уровня романов М. Лермонтова, Ф. Достоевского, Л. Толстого.
7. Антиутопичность и антипрагматизм. Бегство от «царства земного» («Царство земное», 1949) у Карпентьера всегда наказуемо, куда бы ни лежал путь героев — в мир мифопоэтической реальности или в прошлое.
8. Национальный, духовный, исторический опыт как мотивировка сюжетных ситуаций и характеров, как культурный контекст повествования. Так, субъектом исследования в творчестве Астуриаса становится индейское мифотворящее сознание.
9. Доминирование экзистенциалистского мировосприятия. Говоря о произведениях Р. Арльта («Злая игрушка», 1926; «Колдовская любовь», 1932), Е. В. Огнева отмечает тему Великого сумрачного пути, на который обречен человеческий дух, вынужденный скитаться в потемках собственного одиночества. Одиночество «делает героев Арльта такими, какими их (вслед за Лейбницем, провозгласившим, что у Сатаны есть свои мученики) увидит Борхес: его иуды, его герои-предатели обречены носить терновый венец. Так вошли в латиноамериканскую прозу установки, предвещавшие экзистенциализм, вошли задолго до выхода в свет, до славы сартровской «Тошноты», до приезда в Буэнос-Айрес Ортеги-и-Гассета f...]»1.
Экзистенциалистическая тревога характеризует отношение С. Клычкова к миру и в раннюю, и в позднюю пору его творчества. Русская литература, как в целом человеческое существование, представлялась ему павлином, теряющим свое оперение. «...А ведь,
пожалуй, понемногу, понемногу, а выдернут! Умрет прекрасный павлин, смежит павлиньи очи, - роща и земля свернется клубочком и укатится с горки прямо... черту в рот - проглотит нас окаянный, не поперхнется, запьет добрым штофом, от удовольствия на последнюю зарю хвостом перекрестится и затянет на всю вселенную пьяную, мерзкую бессмыслицу: Получку получаешь. Домой денег не шлешь! Ох!» - написал Сергей Антонович в письме к Б. Садовскому в 1912 году . В этом образе проявились две особенности творчества писателя - экзистенциалистская суть и неомифологизм.
В основе творческого метода Клычкова лежит синтез двух реальностей - первичной и скрытой. Магический реализм, по словам Маркеса, стремится разрушать демаркационную линию между тем, что казалось реальностью, и тем, что казалось фантастическим, ибо «в мире этого барьера не существует»3.
В произведениях Клычкова, наряду с отступлением от принципа пространственного жизнеподобия, проявились и субъективная картина времени, и естественность, органичность, инфантильность мировосприятия простого человека; психологический анализ в его текстах довольно умеренный, скорее соответствующий лирике, чем эпосу; романы его суть антиутопии. Еще одно важное свойство магического реализма - раскрытие бытия мира «через вымысел и "несерьезность", уходя от канона и официоза. Нарушение канонов в литературе магического реализма затрагивает языковой и сюжетный уровень. Так, романная форма произведений Клычкова не исключает
их лирической природы. Проза Клычкова синтезировала лирику и эпос, реалистическую конкретику деталей и образы славянской мифологии.
Вот что пишет по поводу определения литературного жанра его произведений один из исследователей творчества новокрестьянских поэтов В. Морозов: «Проза Сергея Клычкова по форме - это переплетение разных жанров: от философского романа до фольклорно-сказовой прозы»1.
Произведения, основанные на мифически-магическом мировидении, встречаются как в живописи, так и в литературе на протяжении всего XX века. Кроме прозы латиноамериканского магического реализма, А. Гугнин в литературе XX века выделяет следующие произведения: А. Платонов «Чевенгур» (1929), «Котлован» (1930); И. Андрич «Проклятый двор» (1954) и другие2. О. Овчаренко пишет, что «употребление термина «магический реализм» давно уже вышло за пределы латиноамериканской литературы»3. В своих рассуждениях Овчаренко ссылается на антологию канадского рассказа под названием «Магический реализм», составленную и изданную в 1980 г. канадским исследователем Д. Хэнкоком, а также на современную африканскую литературу. Говоря о русском неомифологическом романе 1920-х годов, Е. Б. Скороспелова пишет о том, что «его сближает с латиноамериканским «магическим реализмом» стремление к утверждению национальной самобытности, которая мыслится как обращение к древнейшим пластам культуры, в их противостоянии культуре «метрополии», их роднит желание восстановить в правах коллективное мифически-магическое мировидение, позволяющее представить мир как космический круговорот в его загадочной, необъяснимой сущности» .
Из последних научных работ, посвященных проблеме магического реализма, интересно исследование Л. П. Якимовой в отношении романа Л. Леонова «Пирамида»2.
Цели работы:
1. Анализ всей художественной прозы Клычкова, выявление мифологических основ в художественной системе его романов в контексте традиционной мифологической образности и в соотнесении с неомифологическим художественным сознанием писателя.
2. Исследование экзистенциального содержания мотивов прозы Клычкова.
3. Обнаружение типологических составляющих поэтики магического реализма в произведениях Клычкова. Анализ пространственно-временной структуры текстов.
4. Изучение творчества писателя в контексте творчества классиков магического реализма.
Новизна исследования обусловлена задачей работы. В научных трудах, касающихся творчества Клычкова, поэтика его прозы не рассматривалась в контексте эстетики магического реализма.
Методологической основой диссертационного исследования являются положения и выводы работ С. С. Аверинцева, А. Н. Веселовского, А. А. Гугнина, Д. С. Лихачева, Е. М. Мелетинского,
А. А. Потебни, В. Я. Проппа, В. Н. Топорова, В. Е. Хализева, М. Элиаде.
Актуальность работы обосновывается возросшим интересом к неомифологическим аспектам творчества, к магическому реализму, а также к творчеству новокрестьянских писателей. Поэтика текстов Клычкова - в целом неизученный материал. Положения и выводы работы могут быть использованы в лекционных курсах, в работе специалистов.
Апробация работы. На тему диссертации были прочитаны доклады на Ломоносовских чтениях МГУ (2002, 2003), на II межвузовской научно-методической конференции в Гуманитарном педагогическом институте (2003), на конференции в Российском Государственном социальном университете в Москве (2004).
Состав работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. Первая глава называется «Пространство и время в романах С. А. Клычкова» и содержит два раздела: «Пространственная и временная структура в сюжете о потерянном рае», «Мифология времени и ритуал в сюжетах романов С. Клычкова». Вторая глава «Поэтика сказки в романах С. А. Клычкова» включает три раздела: «Князь мира»: сюжет об инициации и мифологическая традиция», «Сказка и миф во внесюжетных элементах романов С. Клычкова», «Мотив двойничества / оборотничества в изображении явной и скрытой реальности». Третья глава «Экзистенциализм в романах С. А. Клычкова» состоит из трех разделов: «Экзистенциальные мотивы в романах С. Клычкова и в произведениях магического реализма», «Лейтмотив как выражение экзистенциализма С. Клычкова», «Тема зла в прозе С. Клычкова».
Пространственная и временная структура в сюжете о потерянном рае
М. М. Бахтин в работе «Искусство слова и народная смеховая культура (Рабле и Гоголь)» (1973), исследуя «карнавальную» модель мира, в том числе в пространственно-временном аспекте, использует бинарную оппозицию (верх / низ) для выявления знаковости «карнавальной» логики, определения «гармонизирующих» переходов между полюсами единого семантического ядра. Карнавальная поэтика Бахтина опирается на традицию циклического представления о времени и вечного обновления жизни через смерть, плодородие, жертвоприношение и эротику, лежащие в основе многих аграрных ритуалов. Карнавальная логика - это логика выворачивания наизнанку, «колеса», перемещения верха и низа, лица и зада, шутовского увенчания и развенчания. Так, у Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле» происходит развенчание соборных колоколов в бубенчики для кобылы, король Пикрохол превращается в раба, а король Анарх переодевается в шута. В произведениях С. Клычкова такое выворачивание наизнанку, точнее, обморачивание героев является игрой дьявола и свидетельствует о перепутанности добра и зла в мире, выражаясь бахтинским языком, верха и низа. Травестийный мотив у Клычкова, например явление дьявола в разных обличьях (в виде солдата, работника, пономаря и турецкого генерала), восходит к древним архаическим мифам и сюжетам о трикстере пародийном двойнике героя, своим гротескным уродством или гиперболическими способностями эротического плана способствующего выпиранию нижнего пространственно-временного полюса - карнавального «низа». Литература позднего средневековья и Ренессанса на примере Рабле, а также произведения Гоголя, по мнению Бахтина, не содержат в себе модернистской идеи вечного круговорота или экзистенциального беличьего колеса истории. В рабле-зианской обработке карнавальность, напротив, способствует историческому преобразованию мира. Отметим, что проза Клычкова принципиальна иная.
В новом латиноамериканском романе и в произведениях магического реализма XX века в целом время развивается по модернистским канонам, точнее, создается иллюзия этого развития. На самом деле время пребывает в постоянном и бессмысленном круговороте, а иллюзия его движения обусловлена вечной игрой человека со временем. В романе Эдуардо Мальеа «Поглощенные собой» (1960) героиня существует вне времени, в своих мечтах и воспоминаниях. Это псевдовремя не имеет ничего общего с реальной хронологией. Оно растягивается, лишается своих примет, или вдруг сжимается в какой-то сгусток, состоящий из страданий героини. В романе Хуана Карлоса Онетти «Краткая жизнь» (1950) герои несчастны, потому что абсолютная завершенность и невозвратность прошлого для них подобна маленькой смерти. Лишь с помощью своего воображения они способны творить новые краткие жизни, то убыстряя, то замедляя ход времени по своему усмотрению. Для героя романа Хулио Кортасара «Игра в классики» (1963) жизненный путь во времени и пространстве - игра. Герой Оливейра предпочитает необязательные, игровые отношения с миром - с друзьями, окружением, любимой. Оливейра ощущает себя актером в театре абсурда. Иногда он искушает судьбу, держит с ней пари, казалось бы, движется во времени хаотически, в неопределенном направлении, и выбранные им для себя маски превращают его в то служителя цирка, то сумасшедшего дома, то морга.
В мифологической трилогии («Сахарный немец», 1925; «Чертухинский балакирь», 1926; «Князь мира», 1927) С. Клычков создает своеобразную модель мира, историю жизни России на примере села Чертухина и города Чагодуя. В «Князе мира» к ним добавляется село Скудилище. События всех трех романов разворачиваются в них или связаны с ними. В неомифологической прозе пространственно-временная модель повествования имеет определенные свойства.
История несчастной любви Миколая Митрича Зайцева, его возлюбленной Клаши, горькая судьба семейства Пенкиных из Чертухино разведены во времени с сюжетами из жизни сироты -дармового пастуха Мишутки, старого Михаилы, его жены, дьякона, Секлетиньи. Жизнь и судьба односельчан из Скудилища переплетаются и становятся одной сюжетной цепочкой — барыни Рысачихи, Аленки, барина Бодяги, Ивана Недотяпы, Буркана и других. Этот своеобразный мир наделен своими временными и сюжетно-повествовательными особенностями. Реальное историческое время линейно, в трилогии оно не всегда последовательно и может прерываться отступлениями и отсылками автора к прошедшему или будущему. Например, в «Чертухинском балакире» рассказчик достаточно подробно фокусирует свое внимание на прошлом мельника Спиридона. В «Князе мира», напротив, он не один раз обращается к будущему барина Бачурина, дочки Рысачихи, Буркана.
Мифологическое же время представляет собой вечное природное время и движется по кругу. Оно совпадает со временем народного, православного календаря и годичным циклом крестьянского уклада и труда. Действие разворачивается то перед Покровом, то в Михайлов день, то на Красную горку, то на Пасху, то на Страстной неделе, то в Егорьев день. Естественное, нарочито размеренное природное время противопоставлено рваному, неправильному ходу реального, исторического времени. Более того, линейное время движется в трилогии в обратную сторону, как бы возвращаясь вспять: события романа «Чертухинский балакирь» (последние десятилетия XIX века) удалены от событий «Сахарного немца» (Первая мировая война) с разницей более двух с половиной десятков лет, действие романа «Князь мира» (крестьянская реформа 1861 года) отнесено примерно еще на тридцать лет назад по отношению к «Чертухинскому балакирю». Кроме того, время внутри каждого из романов тоже устремлено в обратную сторону. Композиционно это выражено по-разному. В «Сахарном немце» линейное время пребывания Зайчика на фронте и его поездка домой на побывку хронологически разрастается и дополняется с помощью его воспоминаний о прошлом и снов о Клаше, восстанавливая и рисуя/ перед глазами читателя картины из мирной жизни Чертухинау довоенного периода. В «Чертухинском балакире» отсылки автора к прошлому дополняют основной сюжет описанием приключений мельника Спиридона и его брата в молодости. В «Князе мира» обратный временной отсчет проявляется в том, что события первой части начинаются позже, чем действие второй. В конце романа они соединяются.
События трех романов отличаются друг от друга разной протяженностью действия. Так, сюжет «Сахарного немца» как бы выхватывает отдельные периоды жизни героев, связывая их в единое целое, на протяжении двух лет («Простояли мы так ,почитай, два года
в этой самой Хинляндии [...]» [Т. 1. С. 269])1. Центральный сюжет «Чертухинского балакиря» сжат до одной недели. Действие «Князя мира» наиболее продолжительно и охватывает период от пятнадцати до двадцати лет (десять лет жизни Мишутки, предшествующие им несколько лет и несколько лет из эпохи крепостничества).
Мифология времени и ритуал в сюжетах романов С. Клычкова
Ф. Ницше в книге «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) говорил о более иррациональной и более древней, чем греческая мифология, мифологии Диониса и старых титанов. Ницше интересовала роль древних ритуалов в мифе и в искусстве. Он отождествлял миф с вечным возвращением благодаря его обрядам и ритуалам, способствующим обновлению культуры и жизни человека. А. Камю в «Мифе о Сизифе» (1942) писал о трагизме вечного возвращения. Э. Станнер, исследуя мифологию австралийских аборигенов1, полагал, что она направлена на поддержание жизненного потока, который не должен иссякнуть и в котором зло может вести к добру, добро порождать зло, а страдание и смерть являются необходимыми звеньями (смерть старухи Мутинги была необходима для спасения детей, но проглатывание его детей тоже необходимо для ритуала). В своих исследованиях Станнер ищет в обрядах инициации родство с жертвоприношением.
Подобные представления находят отражение в неомифологической прозе. В романе Клычкова «Сахарный немец» в сознании главного героя, Зайчика, в его состоянии душевного разлада и разочарования, в свете пережитых им событий, совершенное им насилие (убийство немца) подменяется актом жертвоприношения, и через осознанность собственной сопричастности к нему осмысливается им как ритуал. Но не немец, убитый Зайцевым, был причиной мирского и душевного разлада русского мужика. «Почему нам всем этого немца было жалко?.. Словно каждый что-то потерял...», - замечает рассказчик [Т. 1. С. 485]. Поступок Зайчика нравственное самоубийство, что приводит к гибели его христианской души. В бреду герою кажется, что он висит на гвозде, «на шелковом шнурке от нательного креста», и звучат слова немца-карлика: «Пришел, видно, Русь, тебе кончик» [Т. 1. С. 483]. Зайцев губит свою «душеньку», нарушая нравственный завет «не убий», когда совершает преднамеренное и осмысленное убийство. Особым стимулом, толкающим Зайчика на убийство, стала характерная для мифа и для сюжетов произведений магического реализма перепутанность добра и зла, кажущаяся герою игрой дьявола, способного принимать в «реальном», человеческом мире разные обличья.
В литературе XX века и, в частности в литературе «магического реализма», «мифологизм» выступает в качестве художественного средства, соответствующего определенной концепции мира. В своих произведениях Клычков пытается соединить модернистский мифологический подход с русскими фольклорными традициями. В романах он использует персонажей из традиционных русских сказок, быличек (барин, батрак, солдат, пономарь) и в то же самое время одному и тому же герою он может приписать совершенно противоположные мифологические образы (праведник - черт [Михайла, Иван Недотяпа], пономарь - чучело). Таким образом писатель выражает абсурдную циркуляцию людей и вещей в контексте социальной истории. Уже в этом заключена модернистская идея, отличающаяся от архаической мифологии. В романе «Сахарный немец» из признаков архаической мифологии находит отражение ритуал инициации. Пребывание Зайчика в «демоническом» городе Санкт-Петербурге символизирует пребывание в ином мире и временную смерть. Здесь герой испытывает демоническое и эротическое искушение, но выдерживает испытание, отказавшись от любви незнакомки с Невского проспекта.
Природа мифа ритуальна. Для литературы первой половины XX века эта идея оказывается весьма популярной и привлекательной. Ритуальная концепция мифа означает то, что миф реализуется полностью только в ритуале. На литературу этого периода оказывает влияние учение 3. Фрейда в области психоанализа. Фрейд находит сходство образов и логики сна с образами и логикой первобытных мифов, связывая мифологические модели с принципами работы человеческой психики. В теории Фрейда миф и ритуал оказываются адекватной коллективной формой выражения универсальных психических импульсов. Мифы (например, мифы, связанные с Эдиповым комплексом) могут нести в себе воспоминания о реальных событиях доисторической древности. Ритуальный аспект мифа используется в русской литературе еще в первой половине XIX века Н. В. Гоголем («Вечера на хуторе близ Диканьки», 1832). Гоголь раскрывает миф одновременно как понятийную, повествовательную и обрядово-праздничную структуру. Для ряда повестей «Вечеров...» можно установить сюжетные источники, выходящие к записям русского и украинского фольклора и к календарным народным праздникам. Предание о черте, выгнанном из пекла и отыскивающем свое имущество, положенное в основу «Сорочинской ярмарки», восходит к народным легендам и сказкам. Близок к народным преданиям и сюжет «Вечера накануне Ивана Купалы», передающий поверье о папоротнике, который цветет огненным цветом в ночь под Иванов день. Народную легенду о «великом грешнике» Гоголь использовал в «Страшной мести».
«Князь мира»: сюжет об инициации и мифологическая традиция
Проза С. Клычкова неомифологична. Творчество писателя характеризует трансформация мифа в неомиф. Миф - результат неосознанного творческого процесса, плод коллективного и бессознательного народного творчества. Индивидуальное авторство — свойство неомифа. В произведениях Клычкова присутствуют черты как языческой, так и христианской мифологии.
В прозе Клычкова сосуществуют мифологические и сказочные мотивы. Причем сказочные приемы проявляются не только во вставных, внефабульных сюжетах, но и в основном повествовании. Содержание сказки, как правило, не вписано в реальное пространство и время, но они сохраняют жизненное правдоподобие, наполняются правдивыми бытовыми деталями. В романах Клычкова пространство и время, напротив, наполняются волшебными, магическими чертами. Сходство поэтики сказки и магического реализма заключается в наличии социальной детерминированности героев и событий, в принципе жизнеподобия, и конкретики быта. В сказке нет детерминированно-психологического принципа в изображении действительности. В магическом реализме он сведен к минимуму. Герои сказок и романов Клычкова похожи. Их характеризует наивность, непосредственность восприятия (например, Иванушка-дурачок, с одной стороны, и Зайчик, Пенкин, Мишутка - с другой). И в сказках, и в текстах магического реализма проявилась тенденция к искажению пространственного жизнеподобия, то есть пространство произведения, хотя и может быть конкретно очерченным, живет по своим - сказочным или магическим - законам, которые, однако, не имеют ничего общего с иррациональной мистикой.
В сказках составляющими сюжета являются мотивы. В. Я. Пропп разложил мотив на элементы, выделив сюжетные действия персонажей сказки - функции1. Например, действие волшебной сказки развивается по одной и той же формуле. Герой отправляется в «иное царство», чтобы, пройдя через испытания, выполнить задание (получить сказочные ценности или невесту); по пути ему встречается волшебный помощник, который, сначала испытав его, в награду дает ему волшебное средство, необходимое герою для победы, или сам помогает ему. Этот сюжет восходит к архаическим мифам и связан с обрядом инициации, заключавшимся в испытаниях посвящаемого члена племени, который должен был посетить загробный мир. У разных народов существовали как ранние формы сказки (близкие мифам), так и поздние, классические. Последние характеризовались разрушением архаического синкретизма. Дальнейшая эволюция сказки происходила на социально-бытовой основе. Ее сюжет определялся в результате появления противоречий между членами патриархальной семьи. Новый конфликт (семейный наложился на древний (мифологический). Героем стал невинно гонимый член семьи (младший брат, падчерица). Получили распространение сказки о сироте.
В романах Клычкова прослеживается подобная тенденция. Если в «Чертухинском балакире» волшебство и магия повествования обогащались образом лешего Антютика - чудесного помощника Петра Кирилыча Пенкина, то в «Князе мира» идет рассказ о мытарствах сироты Мишутки, а фантастические образы (черт-солдат, черт-генерал, пономарь-пугало) введены, чтобы подчеркнуть социальный жизненный конфликт и нравственный упадок крестьянской общины.
В прозе Клычкова есть как собственно мифологические аспекты (мифическое время, мифические герои, ритуал, сакрализация времени и пространства, космологические мотивировки и другие), так и сказочные (десакрализация, деритуализация, перенос внимания с отношений космических на отношения социальные, добытые предметы не являются природно-культурными или космическими объектами, как это было в мифе, наличие и главенствующая роль чудесного помощника, главный герой - сирота и другие). Клычков, как и большинство модернистских, «мифологизирующих» действительность авторов XX века, разочарован в историческом подходе к реальности. У Клычкова историческое время эсхатологично и движется в обратном направлении, о чем шла речь в первой главе исследования.
Основным предназначением как первобытной, так и более развитой, сказочной мифологии считалось превращение хаоса в космос, его упорядочение. Космизация хаоса подразумевала добывание культурных благ героем - его борьбу против хтонических чудовищ. Мелетинский замечает по этому поводу: «Тем не менее, как мы уже видели, тот же герой способен произвести некоторые элементы социального хаоса (провоцируя иногда и хаос космический). Он может проявить эгоизм, жадность, гиперэротизм, нарушить правила и законы общинного распределения пищи или разделения труда. Это частично объясняется тем, что действие отнесено к мифическому времени, то есть до начала регулярного времени. В конечном же счете космос одерживает победу над хаосом, и, таким образом, мифы осуществляют свое высокое предназначение»1. Клычков активно использует подобные модели и сюжеты мифа, но делает он это совершенно по-своему. Так, в «Князе мира» в роли культурного героя, терпящего унижения мира и проходящего через все его испытания, оказывается Мишутка - сын дьявола. В этом заключается и авторская ирония, и трагизм, пророчащий в недалеком будущем хаос космического, вселенского масштаба, невозможность его упорядочения и обратного превращения в космос. Более того, элементы социального хаоса, нарушение правил и законов общинного распределения пищи и труда (в данном случае крестьянской общины) производят сами люди — крестьяне, страдающие такими пороками, как меркантильность, пьянство, плотобесие. Взяв на коллективное воспитание обузу - сироту, они преследуют собственные корыстные и неправедные интересы, в будущем оборачивающиеся для них не благом, а большой бедой: «Решили всем миром вскормить младенца, отхаживая по череду. Помрет - Бог дал, Бог и взял, а выходится, так будет для мира пастух безданный и бесплатежный, пока не вытянется к казенному сроку, когда по жеребьевке поставить парня заместо чьего-нибудь природного сына в солдаты [...]» [Т. 2. С. 256].
Экзистенциальные мотивы в романах С. Клычкова и в произведениях магического реализма
Экзистенциальное настроение С. Клычкова в его первом романе «Сахарный немец» выражает трагическое мироощущение писателя, свойственное его ранней лирике, но с особой силой проявляется в «Князе мира». «Завтра рано я умру» — такое трагическое ощущение лирического героя Клычкова в стихотворении «У околицы моей...» (1910). «Сегодня у нас на деревне / Дерутся, ругаются, пьют», -пишет Клычков о жизни крестьянской общины («Сегодня у нас на деревне...», 1914). Или восклицает: «Слушай, сердце, повечеру слушай / Похоронную песню берез!..» («Лес шумит и шумит, опадая...», 1914). Солнцева, исследующая творчество новокрестьян, пишет: «Тема его [Клычкова] творчества - богооставленность человека, его духовная слабость, трагическая покорность силам зла. Это мироощущение соответствует учению Л. Шестова о трагической абсурдности существования. Шестов, один из создателей русского экзистенциализма, в опубликованной в «Скифах» за 1917 год статье «Музыка и призраки» увидел экзистенциальный по сути итог жизни близкого новокрестьянам Л. Толстого: «"Смерть Ивана Ильича", уход из дома, сомнения в целесообразности своей жизни. К идее о бессмысленности существования и несостоятельности добра пришел и Клычков - автор последнего своего романа "Князь мира"»1.
Близость новокрестьян и Толстого заключается в десакрализации христианских абсолютов. Толстой сомневался в божественной природе Христа, а новокрестьянские поэты (Клюев, Карпов) в силу своих хлыстовских убеждений (1900 - 1910-е годы) ищут Христа во плоти в современниках. Есенин периода начала 1900-х годов сомневается, вслед за Толстым, в богочеловеческой сути Христа и глубине его учения. Клычков не высказывал своих сомнений. Возможно, подобных еретических отклонений в его жизни не было. Его более привлекал синтез христианских духовных истин и языческой образности, выражающей его веру в одухотворенную природу. В этом заключается его вера в «единый свет», в единство мира. Гармонию он видел как раз в языческой ипостаси мира. Христианство дает ему веру в Спасителя, но с другой стороны, он, под влиянием политических процессов 20-х - 30-х годов, поверил в неодолимую силу рогатого. В отличие от новокрестьянских писателей проза Толстого не была окрашена трагизмом. Судьба для него - не злой рок. В прозе Клычкова, напротив, повсюду присутствуют экзистенциальные, трагические мотивы.
Центральная идея как философии, так и литературы экзистенциализма — существование человека в мире без Бога, среди иррациональности и абсурда, в состоянии страха и тревоги, вне абстрактных моральных законов и предустановленных жизненных принципов. Согласно экзистенциализму, и мораль, и социальное поведение, и сама человеческая сущность формируется только в сфере бытия, в которое человек «заброшен» и смысл которого он пытается - чаще всего безуспешно - понять. Непрерывность процесса «сотворения себя» человеком и бесконечно возобновляющаяся ситуация выбора (выбор между подлинным и неподлинным существованием в мире), вопреки тотальной иррациональности мира, - основной сюжет литературы экзистенциализма, обычно развертывающийся в контексте узнаваемых исторических обстоятельств, которые связаны с социальными потрясениями, войнами и революциями XX века. Экзистенциализм провозглашает принцип обязательной «ангажированности» человека, который сознает, что каждый его выбор, оставаясь индивидуальным поступком, вместе с тем обладает значимостью для всего человечества, поскольку это прежде всего выбор между примиренностью с абсурдом и бунтом против него. Ж. П. Сартр полагал, что экзистенциализм строит свою художественную доктрину на основании принципов «историчности», которая требует впрямую соотносить творческие задачи со злободневной социально-исторической проблематикой, и аутентичности, противопоставленной концепциям «незаинтересованного», «чистого» искусства (в эссе Сартра и Камю по проблемам эстетики одним из адресатов их полемических выпадов становится самый авторитетный приверженец этих концепций П. Валери). Своими литературными союзниками экзистенциализм объявил таких писателей, которые провозгласили «ангажированность» искусства и тяготели к достоверному воссозданию обстоятельств реальной истории: Дос Пассоса как мастера фактологического романа, в котором намечена панорама исторической жизни XX века, Брехта как создателя «эпического» театра с его общественной актуальностью .
Литература магического реализма стремится показать бессмысленность человеческих усилий, направленных на разрушительный процесс, без осознания важности созидательного начала. Такой процесс приводит к самому страшному -саморазрушению человека. Тогда «круглое», мифическое время магического реализма может превратиться в бессмысленное беличье колесо истории. В романе «Сто лет одиночества» Маркес выступает как против жестоких расстрелов, произвола властей, так и против безответственного и не менее жестокого бунта. Исторический аспект играет важную роль и в произведениях Маркеса, и в романах Клычкова. На историю страны у обоих писателей накладывается обширный мифологический, фольклорный, литературный, автобиографический материал. Экзистенциалистская тревога автора «Сахарного немца» усиливается к роману «Князь мира» параллельно с тем, как Клычков в своем творчестве эволюционирует от экзистенциального мироощущения магического реалиста к трагизму экзистенциалистов.
В романе «Сахарный немец» главный герой - Зайчик, почти потеряв на фронте веру в спасение от ужаса мира, отправляется на побывку домой в родную деревню, надеясь там обрести утраченную гармонию, смысл жизни. Но судьба распорядилась по-другому - и он вернулся на позицию с обостренным безверием в сердце, с сомнением в Боге. Исчез из деревни домовой, повесилась в чертухинском лесу не устоявшая перед искушением рогатого Пелагея - жена Пенкина, возлюбленная Зайчика, Клаша, вышла замуж за богатого. Троечник Петр Еремеич бежит из родного края, чтобы не лишиться последних коней. Образ его былинен: Зайчику кажется, что перед ним гусляр, у которого в руках не вожжи, а струны. Но и его ожидал горький удел: он вместе с тройкой погиб в полынье и, подобно былинному герою -Садко, стал развлекать водяного царя, катать того от Кимры до Твери.