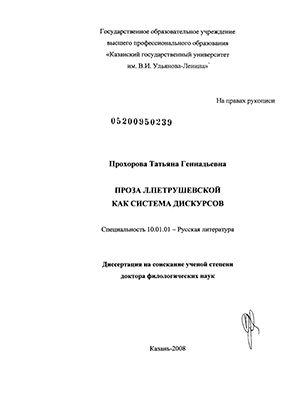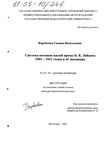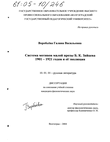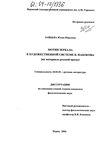Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Трансформация реалистического дискурса в прозе Л. Петрушевской 42
1.1. Специфика проявления реалистического дискурса в ранних рассказах 49
1.2. Автобиографический дискурс в «реальных» рассказах 65
Глава 2. Сентименталистский дискурс в прозе Л. Петрушевской 88
2.1. Специфика проявления сентименталистского дискурса в «реальных» рассказах 92
2.2. Взаимодействие сентименталистского и натуралистического дискурсов в повести «Время ночь» 104
2.3. «Карамзин. Деревенский дневник»: игра с сентименталистским дискурсом 129
Глава 3. Романтический дискурс в прозе Л. Петрушевской 153
3.1. Формы проявления романтического дискурса в «реальных» рассказах 155
3.2. Специфика интерпретации романтического сюжета в сказках 170
3.3. Игра с романтическим дискурсом в мистических рассказах 189
Глава 4. Модернистский дискурс в прозе Л. Петрушевской 201
4.1. Формы проявления акмеистского дискурса 203
4.1.1. Ахматова и Петрушевская: опыт типологического сопоставления поэтики 205
4.1.2. Ахматовский дискурс в прозе Петрушевской: от деконструкции к новой конструкции 219
4.2. Соотношение модернистского и реалистического дискурсов в постмодернистски структурированном художественном пространстве 238
Глава 5. Постмодернистский дискурс в прозе Л. Петрушевской 250
5.1. Новые «старые» герои или Несколько шагов от трагедии до фарса постмодернистски структурированном художественном пространстве 250
5.2. Специфика нарративных стратегий в романе «Номер один или В садах других возможностей» 274
Заключение 297
Список использованной литературы 307
- Специфика проявления реалистического дискурса в ранних рассказах
- Специфика проявления сентименталистского дискурса в «реальных» рассказах
- Игра с романтическим дискурсом в мистических рассказах
- Специфика нарративных стратегий в романе «Номер один или В садах других возможностей»
Введение к работе
Актуальность исследования.
Развитие отечественной литературы на рубеже ХХ-ХХI веков, в ситуации постмодерна отличается отсутствием былой иерархичности, пестротой различных направлений и течений, сложно взаимодействующих друг с другом. В этих условиях одной из насущных задач, стоящих перед наукой, является поиск наиболее оптимальных подходов, позволяющих рассмотреть за внешней хаотичностью приметы динамической целостности, что предполагает обращение к системному анализу. Он известен в науке давно, но каждый новый объект изучения требует разработки своих критериев, своей методики исследования.
Если в качестве системы, то есть подвижного, динамичного целостного единства, рассматривать современный литературный процесс, то его исследование может осуществляться по следующим направлениям: 1) изучение основных его закономерностей, доминантных и второстепенных тенденций с целью выявления типологии жанров, стилей, художественных направлений, течений; 2) системный анализ наиболее значительных литературных явлений: например, постмодернистской парадигмы художественности, того или иного жанрового образования и т.п.; 3) изучение художественных систем отдельных представителей новейшей литературы, в чьем творчестве воплощаются характерные ее черты.
Работ первого и второго типа в последнее время появилось достаточно много: это исследования М.Н.Эпштейна, Н.Л.Лейдермана и М.Н.Липовецкого, Г.Л.Нефагиной, И.С.Скоропановой, И.К.Сушилиной, О.В.Богдановой, М.П.Абашевой, Т.Н.Марковой, Е.М.Тюленевой, И.Л.Даниловой и др. Они нацелены на выявление логики развития современного литературного процесса, на системное изучение наиболее показательных для его характеристики художественных форм. При создании общей картины развития современного литературного процесса каждый из авторов избирает свой аспект исследования. Выявляя основные тематические русла, рассматривая пути художественного осмысления реальности, изучая стилевую и жанровую специфику, ученые в своих типологических обобщениях фактически стремятся установить основные принципы существования и развития современной литературы как системы. По справедливому замечанию М.Н.Липовецкого, «система определяется не набором входящих в нее элементов, но способом структурной организации ее целостности. Целостность же в свою очередь детерминирует функции элементов системы». Поэтому при анализе основных закономерностей развития современного литературного процесса исследователи стремятся прежде всего выявить характерные приметы его целостности. Безусловно, эта работа еще далеко не завершена (и не может быть завершена, поскольку речь идет о движущемся, незавершенном явлении), но все же следует констатировать, что в данном направлении сделано уже немало.
Третий путь исследования связан с системным анализом творчества наиболее крупных («опородержащих», по выражению Т.Н.Марковой) представителей современного литературного процесса. Количество работ такого плана тоже весьма значительно, однако в большинстве подобных исследований анализируется какой-то определенный аспект творчества писателя. При этом далеко не всегда учитывается, что художественный мир, созданный автором, не только сам представляет собой систему, имеющую многоуровневую структуру, но к тому же является частью другой, более масштабной системы - литературы. Его анализ предполагает изучение законов и принципов взаимодействия различных структурных уровней, определения их взаимозависимости, а также форм связи с литературным и социокультурным контекстом. Путь системного анализа дает возможность на относительно локальном материале детально рассмотреть те общие закономерности, которые обнаруживают себя в литературе как системе, и одновременно выявить специфические художественные особенности, обогащающие эту систему.
Одним из наиболее значительных и ярких явлений современной отечественной литературы является творчество Л.С.Петрушевской. Оно привлекает к себе устойчивый интерес литературоведов и критиков, однако оценки своеобразия художественного мира этой писательницы остаются крайне противоречивыми. Одни исследователи рассматривают его в русле натурализма, другие - как продолжение традиций критического реализма, третьи - как пример неореализма, четвертые – постмодернизма.
Н.Л.Лейдерман и М.Н.Липовецкий еще в начале 1990-х выдвинули весьма продуктивную гипотезу постреализма. Именно в этом ракурсе они рассматривают и творчество Петрушевской. Намеченный учеными путь является, на наш взгляд, наиболее перспективным. И все же концепция творчества Петрушевской, которая была предложена Н.Л.Лейдерманом и М.Н.Липовецким, требует дальнейшего развития. Важнейший вопрос определения своеобразия художественной системы писательницы нельзя считать до конца проясненным. Художественный мир Петрушевской представляет собой явление сложное и подвижное. В нем переплетаются не только реалистические и постмодернистские, но и сентименталистские, барочные, романтические, натуралистические, модернистские интенции, причем, в каких-то ее произведениях могут доминировать одни из них, в других – другие. При этом, как справедливо было отмечено критиками и литературоведами, Петрушевская необычайно цельный писатель. За период почти сорокалетней творческой деятельности ее эстетические и мировоззренческие установки мало изменились.
Цель работы – исследовать художественный мир Петрушевской как целостную художественную систему. Логика работы определяется решением следующих задач: 1) выяснить особенности структурной организации системы; 2) установить механизм действия основных ее составляющих, 3) определить, что придает этой системе целостность, 4) выделить элемент-доминанту, а также иерархию других составляющих системы, 5) исследовать конструктивные функции каждого элемента. 6) выявить связь этой системы с контекстом реальности и с литературным контекстом.
Объектом изучения избрана проза Петрушевской, так как она отличается большим разнообразием жанров, стилей, различных видов интертекстуальных стратегий, к тому же проза вобрала в себя и драматургический опыт автора, и ее эксперименты в области поэзии. Именно в данном виде творчества талант писательницы раскрылся во всей его многогранности. В работе рассматриваются практически все жанры прозы Петрушевской: «реальные» и мистические рассказы, сказки, повести, роман, а также привлекаются ее мемуарные произведения, статьи, эссе, вошедшие в книги «Девятый том» и «Маленькая девочка из «Метрополя»». Пьесы, информация о спектаклях, поставленных на сценах разных театров по драматургическим произведениям Петрушевской, используются как фон, для сравнения, чтобы убедиться, что те процессы, которые происходят в прозе, проявляются и в других родах и видах ее творчества.
Предметом исследования является изучение дискурсных стратегий прозы Петрушевской как пути выявления составляющих ее художественной системы.
Сегодня для многих литературоведов вполне очевидно, что наиболее актуальным является путь рассмотрения творчества Петрушевской как единой системы. Об этом, в частности, заявляют в своих диссертациях Ю.Н.Серго, О.А.Кузьменко, С.И.Пахомова. Реализация данной задачи возможна различными способами. Мы считаем, что первостепенное значение для ее осуществления имеет анализ механизма дискурсных стратегий, так как характер повествования в произведениях Петрушевской во многом определяется законами устной речи. Для выявления своеобразия данной художественной системы, изучения механизма ее функционирования необходим учет всей коммуникативной цепочки «автор - рассказчик – герой - читатель» и на этой основе - осуществление анализа структуры повествования. Специфика диалога Петрушевской с читателем во многом объясняется характером интертекстуальных стратегий. Диалогичность, полифонизм как важные особенности ее прозы выдвигают задачу исследования специфики и форм проявления интертекстуальных связей, диалогических взаимоотношений как внутри текста, так и между текстами, между «своим» и «чужим» в произведениях писательницы.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые в отечественном литературоведении
предлагается методика исследования индивидуальной художественной системы через анализ дискурсных стратегий;
проанализированы в их взаимодействии все жанры прозы Петрушевской и установлена ее целостность как статико-динамической открытой системы;
выявлен механизм реализации дискурсных стратегий, исследована их взаимосвязь, иерархические отношения в системе;
определена доминантная роль сентименталистского дискурса, формы и функции его проявления, а также соотношение с другими дискурсами;
внесены существенные уточнения в решение проблемы функционирования рассматривавшихся в литературоведении и критике ранее реалистического и натуралистического дискурсов,
осуществлен анализ различных форм выражения автобиографического дискурса;
выяснена роль и формы проявления романтического дискурса;
выявлен и рассмотрен акмеистический дискурс, в связи с чем определена типологическая связь поэтики Петрушевской и Ахматовой;
установлено, как происходит становление постмодернистского дискурса, определена его роль в художественной системе писательницы;
введен в научный оборот ряд произведений Петрушевской, ранее не исследованных или малоисследованных.
Структура работы определяется основной ее целью и задачами. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и библиографического списка. В каждой из глав рассматривается механизм проявления определенного дискурса, а также его связь с другими дискурсами. Последовательность глав отражает наше представление об иерархии элементов, составляющих систему.
Теоретическую и методологическую основу диссертации составляют труды философов: А.Ф.Лосева, М.К.Мамардашвили, В.С.Библера, В.Н.Садовского; исследования по семиотике литературы отечественных и западных ученых: Р.О..Якобсона, В.Я.Проппа, Ю.С.Степанова, Ц.Тодорова, К.Бремона, Р.Барта, К.Леви-Стросса, Ю.Кристевой; представителей русской формальной школы (Ю.Н.Тынянова, В.Б.Шкловского, Б.М.Эйхенбаума), Тартусской школы Ю.М.Лотмана, а также работы литературоведов М.М.Бахтина, Б.О.Кормана, Д.С.Лихачева, Б.М.Гаспарова, М.Н.Эпштейна, В.И.Тюпы, Ю.Б.Борева, И.К.Неупокоевой, А.К.Жолковского, И.П.Ильина, И.С.Скоропановой, историков литературы – Н.Л.Лейдермана и М.Н.Липовецкого, Т.Н.Марковой, О.В.Богдановой, Г.Л.Нефагиной и др.; специалистов по лингвистике и стилистике текста Т.А. ван Дейка, Ю.Н.Караулова, Л.Бабенко.
В ходе исследования мы синтезируем несколько подходов - системный, историко-функциональный, а также используем методику структурного, сравнительно-типологического и интертекстуального анализа.
На защиту выносятся следующие положения:
Проза Петрушевской представляет собой сложно организованную художественную систему, которая имеет открытый, динамический характер и вместе с тем отличается иерархической стройностью, обеспечивающейся взаимодействием дискурсов, принципиально значимых для выражения авторской картины мира.
Определяющим признаком данной художественной системы является переходность, основными ее константами – традиция и новаторство. В едином пространстве этого мира сопрягаются и дополняют друг друга типологически различные культурные «слои».
Структурной осью данной системы является сентименталистский дискурс, через который выражается точка зрения матери, болеющей за своих детей. Позиция со-страдания и жалости определяет взаимоотношения в коммуникативной цепочке автор-герой-читатель, проявляется через интертекстуальные связи с текстами-предшественниками, обнаруживает себя на лексическом уровне и в художественной структуре произведений.
Значимость реалистического дискурса обуславливается самим выбором жизненного материала, к которому обращается Петрушевская, спецификой ее героев, погруженных в сферу обыденности, преобладающей формой повествования. Стратегия реалистического дискурса определяется авторской установкой на постижение истины жизни за пеленой повседневного. При этом реалистический дискурс вступает во взаимодействие с другими, нереалистическими, расширяя и обогащая свои возможности. В результате происходит его трансформация.
Натуралистистический дискурс наиболее явно выражается на лексическом, интертекстуальном и концептуально-философском уровнях произведений. С ним связана одна из ключевых идей творчества Петрушевской о природой заложенной циклической замкнутости существования, о западне жизни.
Романтический дискурс в художественной системе прозы Петрушевской, во-первых, связан со стремление писательницы дать героям возможность вырваться из западни жизни и приобщиться к иному миру; во-вторых, он порождается особенностями мироощущения самих героев, которые ищут различные способы ухода, преодоления мрака жизни. И то, и другое определяет такую важную особенность многих рассказов Петрушевской, как романтическое двоемирие. Значимость романтического дискурса обуславливается также жанровыми исканиями Петрушевской, в частности, ее обращением к сказкам и мистическим рассказам.
Модернистский дискурс обуславливается такой важнейшей особенностью, характеризующей картину мира писательницы, как обращение к онтологическим понятиям Жизни, Смерти, Любви, что влечет за собой мифологизацию повествования, насыщение текстов культурными реминисценциями, аллюзиями, позволяющими в частных случаях, бытовых ситуациях, разглядеть универсальное, вечное.
Постмодернистский дискурс в художественной системе Петрушевской тоже играет принципиально важную роль, поскольку благодаря ему система обретает гибкость, подвижность, открытость, благодаря ему становится возможным совмещение несовместимого, взаимодействие нескольких дискурсов в пределах одного произведения, осуществление игровых отношений между ними. В основном постмодернистский дискурс выполняет роль своеобразного механизма в системе, фундамент которой составляют гуманистические ценности, что и объясняет постоянное обращение Петрушевской к мысли семейной.
Индивидуальная художественная система Петрушевской – продукт переходной, кризисной эпохи, с присущей ей эклектикой. В связи с этим ни один из дискурсов не способен сохранить свои «чистоту» и «неприкосновенность», постоянно возникает эффект взаимных отражений, нередко - эффект кривого зеркала, поэтому и дискурсные стратегии проявляют себя в основном двояко: в серьезном и несерьезном, неигровом и игровом вариантах.
Научно-практическое значение работы заключается в возможности использования ее материалов и предложенной методики анализа не только для дальнейшего изучения творчества Петрушевской, но и других представителей современного литературного процесса, чьи художественные системы также отличает переходность, причем это относится не только к творчеству прозаиков, но и поэтов, драматургов. Выводы исследования могут быть использованы при изучении литературного процесса рубежа ХХ-ХХI веков, при разработке спецкурсов и спецсеминаров.
Апробация работы осуществлялась в процессе руководства диссертационными работами аспирантов, при чтении лекций по курсу «История русской литературы ХХ века», а также при разработке спецкурсов «Актуальные проблемы современной прозы» и «Постмодернизм в русской прозе» для студентов и магистрантов КГУ. Отдельные положения исследования были использованы при чтении лекций в университетах Германии (в Гиссене – в январе 2001г. и в мае 2003г., в Майнце - в ноябре 2003г.) и Швейцарии (во Фрибурге – в декабре 2006г.). В период с 1995 по 2008 годы основные идеи диссертации излагались в выступлениях на международных, всероссийских, зональных, межвузовских, республиканских, университетских научных конференциях в Гиссене (Германия), Лодзи (Польша), Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Саратове, Владимире, Нижнем Новгороде, Елабуге, Казани. Содержание работы отражено в 57 статьях, в монографии «Проза Петрушевской как художественная система» (2007) и в учебном пособии «Постмодернизм в русской прозе» (2005), получившем гриф УМО.
Специфика проявления реалистического дискурса в ранних рассказах
По словам писательницы, вначале ее рассказы были театром, «в той степени театром, в какой текст идет от чьего-то лица, то есть это как бы всегда монолог» [Петрушевская 2003: 322]. При этом взаимоотношения «изображающей и изображенной речи» - речи рассказчицы и героев - являлись не только основным способом характеристики их носителей, но и определяли движение сюжета.
О том, кому Петрушевская поручала в своих ранних рассказах вести диалог с читателем, она в «Девятом томе» писала так: «Я многое прятала тогда, камуфлировала под бесстрастное, черствое, неблагородное повествование. Я иногда даже говорила голосом коллектива. Голосом толпы и сплетни (...) А голос коллектива - он не доверяет никому и никогда (...) он всегда прав (...) всюду заподозрит стремление к выгоде. Никакой жалости. Трезвое отношение к происходящему. И вот пусть (думала я) читатель сам решает, насколько прав этот голос ...» [Петрушевская 2003: 322]. В рассказе «Возможность мениппеи. Три путешествия» Петрушевская так характеризует своего идеального читателя: «Он поймет меня и там, где я скрою свои чувства, где я буду безжалостна к своим несчастливым героям. Где я прямо и просто (...) как человек на остановке автобуса, расскажу другому человеку историю третьего человека. Расскажу так, что он вздрогнет» [Петрушевская 2002: 66].
Данные высказывания интересны в нескольких отношениях. Прежде всего, здесь дана характеристика читателя, к которому фактически и обращен реалистический дискурс, - это позиция человека, способного разглядеть истину жизни за внешним миром, который окружает нас с рождения и предъявляет нам свои требования, того, кто может также понять мир души и сердца, то, что еще В.Г.Белинский называл «внутренним миром человека». Однако приведенное высказывание содержит не только характеристику позиции автора и читателя, позволяет понять специфику их диалога, но оно также содержит оценку (причем авторскую, что особенно важно) специфической эстетической природы произведений Петрушевской. С одной стороны, в них все рассказано читателю «просто и прямо», а с другой стороны, все сгущено до предела, до крайности («расскажу так, что он вздрогнет»), Р.Тименчик в предисловии к сборнику пьес Петрушевской «Три девушки в голубом» выразил эту особенность очень точно: «У нее все стремится быть «слишком»» [Тименчик 1989: 398]. В этом, по выражению критика, «эстетическом экстремизме» содержится отрицательный ответ на вопрос о примитивном «отражении» жизни в произведениях писательницы. Чтобы сформулировать идею иллюзорности реализма в абсолютно жизнеподобных и, казалось бы, замкнутых рамками быта пьесах Петрушевской, критик приводит высказывание Б.Пастернака: «Я убежден, что искусство должно быть крайностью эпохи, а не ее равнодействующей». На наш взгляд, эта цитата дает ответ и на вопрос о характере трансформации реалистического дискурса в прозе писательницы.
«Эстетический экстремизм» проявился уже в ранних рассказах Петрушевской. Выделим среди них, прежде всего, «Рассказчицу» - это один из тех пяти рассказов, которые могли бы появиться в «Новом мире» еще в 1969 году, но были отклонены по решению А.Твардовского. В нем стратегия диалога с читателем строится именно на «безжалостной» ролевой игре, суть которой Петрушевская характеризовала следующим образом: «по Станиславскому (...) режиссер должен спрятаться, умереть в актере. Писатель в герое или скрытом нарраторе (передатчике текста)» [Петрушевская 2003: 106].
Данный текст интересен тем, что здесь сам сюжет непосредственно связан с ситуацией рассказывания, а позиция нарратора - с оценкой особого речевого поведения героини. Это ее называют рассказчицей. Но мы видим героиню глазами другой рассказчицы, от имени которой и ведется повествование. Голос нарратора принадлежит тому самому «голосу толпы и сплетни», о котором говорила Петрушевская, характеризуя свое раннее творчество. В результате перед нами разворачиваются две разных речевых стратегии, и композиция строится на столкновении этих двух совершенно разных типов сознания.
С первых же строк превалирует авторитарный дискурс, где личностное начало растворилось в коллективном бессознательном. Для него характерны четкие бинарные оппозиции: можно - нельзя, так делается — так не делается. Все, что не укладывается в привычный стереотип поведения, становится объектом осуждения. Интересно, что этот авторитарный дискурс стремится подчинить себе и имплицитного читателя, к которому обращается нарратор. Стратегия взаимодействия субъекта речи с читателем-слушателем определяется психологической установкой на само собой разумеющееся единство взглядов, поскольку вновь действует принцип стереотипа.
Героиня рассказа — двадцатилетняя девушка Галя является объектом постоянного наблюдения, анализа, оценки. Причем, прежде всего, фиксируется внимание на необычности ее речевого поведения. Рассказ начинается с позиции осуждения:
«Она совершенно не дорожит тем, что другие скрывают, или, наоборот, рассказывают с горечью, с жалостью к себе, со сдержанной печалью. Она даже, кажется, не понимает, зачем это может ей понадобиться и почему такие вещи можно рассказывать только близким людям да к тому же потом жалеть об этом. Она может рассказать о себе даже в автобусе какой-нибудь сослуживице, которая от нечего делать начнет спрашивать, как жизнь» ЦТетрушевская 1993: 38].
В приведенном суждении обращают на себя внимание повторяющиеся глаголы с отрицательной частицей «не»: «не дорожит», «не понимает» в сочетании с модальными глаголами «можно», «может», обозначающими норму. Вообще основная синтаксическая конструкция в данном отрывке призвана акцентировать ситуацию «она и другие», подчеркнуть нарушение героиней нормы, что и вызывает неприятие. Впрочем, выражение «зачем это может ей понадобиться» свидетельствует о том, что рассказчица все же способна принять отступление от нормы, но только в одном случае - если это нужно в каких-то практических целях. Примечательно, что сам предмет разговора (мать Гали больна раком уже восемь лет и теперь умирает, отец вынужден взять отпуск, чтобы ухаживать за ней) не вызывает в данном случае никакого сочувственного отклика. Рассказчицу возмущает не столько что говорит героиня, сколько как она это делает, осуждается именно ее безэмоциональность: «она с легкостью ответит, что все пока плохо», о страшных, тяжелых вещах «простодушно скажет» [Петрушевская 1993: 38], «спокойно говорит», «с видом полнейшего равнодушия» [Петрушевская 1993: 40].
Авторская стратегия, которая проявляет себя в основном через композицию, носит в данном случае иной характер, чем стратегия нарратора, просто фиксирующего факты. Петрушевская всегда на стороне обиженных, изгоев, всегда стремится вызвать к ним сочувствие. Авторская дискурсная стратегия направлена здесь на то, чтобы установить причинно-следственные связи, объяснить истоки речевого поведения героини. Как известно, подобная установка присуща реализму. Писатель-реалист постоянно задает себе и своему читателю вопросы: «почему и отчего?», он стремится дать ответы на них, ищет первопричины характера и поведения человека в социальной среде, в семейном воспитании и т.п., выявляет связь прошлого и настоящего. Все это можно обнаружить и в рассказе Петрушевской. Но одновременно в нем есть и то, что не вполне вписывается в реалистическую поэтику, что скорее присуще модернистским течениям, в том числе, такому, как неореализм: интерес к сфере бессознательного, ограниченность рационально-логических элементов, отталкивание от аналитических способов психологизма, от рационалистических приемов в пользу косвенных, сложно опосредованных. В данном случае трудно сказать, стоит ли вести речь о восприятии опыта модернизма писателем-реалистом или, наоборот, о трансформации реалистических традиций в творчестве писателя-модерниста. Очевидно одно: уже в первых рассказах Петрушевской обнаруживают себя разные дискурсные стратегии, присущие и реализму, и модернизму.
Речевое поведение Гали выражает инфантильное, подавленное «я». Рассказывая о своем детстве, она вспоминает об отце, который ее постоянно в чем-то подозревал, следил за ней, пытаясь застать врасплох («на ночь глядя (...) вдруг входил к ней в комнату, врасплох зажигал свет» [Петрушевская 1993: 40]), «каждый вечер ее расспрашивал о том, как прошел день, и потом проверял, звонил учительнице и подругам (...). Он ее выспрашивал о ее мыслях, о том, что она переживает, (...) и она знала, что в любой момент он может крикнуть «врешь» и начать бить, так что она вся прямо наизнанку выворачивалась (...) даже и не пыталась придумывать» [Петрушевская 1993: 41]. Агрессия отца по отношению к дочери особенно усиливалась, когда у него появлялась женщина на стороне, как будто он мстил Гале за свою нечистую совесть перед больной женой. Психологическую подоплеку взаимоотношений героини с отцом можно определить как своеобразный «эдипов комплекс наоборот»: здесь выражается не ревность ребенка к отцу как проявление его скрытых сексуальных влечений, а ревность отца к дочери. Одновременно в этих взаимоотношениях проявляется тоталитаристская установка — стремление присвоить себе личность другого, вычерпать ее без остатка, не позволяя оставить себе ни одного уголка частного, личного, индивидуального существования. Так проявляет себя дискурс власти.
Таким образом, речевое поведение героини обнаруживает последствия трагедии обезличивания, поглощенности «я» этой «властью». В рассказе это выражается через слово: «замороженность» речи Гали есть конкретное проявление того детского комплекса, который был сформирован у нее из-за агрессии отца. Действует бессознательный страх наказания, и она рассказывает все, «до дна», причем «даже не плачет, хотя у всех, кому она это рассказывает по очереди, глаза на мокром месте» [Петрушевская 1993: 41]. Теперь героиня напоминает «разговорную машину».
Специфика проявления сентименталистского дискурса в «реальных» рассказах
Главной чертой сентиментализма все отечественные исследователи признают культ чувства (или «сердца»), который в данной системе взглядов становится «мерилом добра и зла». [Литературная энциклопедия терминов и понятий 2003: 962]. Сентиментализм становится «школой человеколюбия». М.М.Бахтин называет такие важные особенности сентиментализма, как переоценка масштабов, возвеличение маленького, слабого, близкого, переоценка возрастов и жизненных положений (ребенок, женщина, чудак, нищий). Переоценка жизненной детали, мелочи, подробности» [Бахтин 1997, 5: 304]. Для нас также чрезвычайно важно данное ученым определение позиции человека в сентиментализме: «Я существую для другого» [Бахтин 1997,5: 304].
Все названные выше особенности можно встретить в прозе Л.Петрушевской. «Культ чувства» определяет основную стратегию взаимоотношений между автором - рассказчиком - героем - читателем в ее произведениях.
В ее книгах «Девятый том» и «Маленькая девочка из «Метрополя» мы находим примечательное в плане интересующей нас проблемы признание писательницы, что одним из важных импульсов, побуждающих ее к творчеству, является жалость. Так, уже по поводу ранних своих рассказов она говорила, что ей было «безумно жалко своих героев» и добавляла: «Чаще всего я и писала от жалости» [Петрушевская 2006: 192].
В статье «Сценарные заметки к мультфильму «Шинель»», включенной в «Девятый том», она пишет: «(...) остановимся и поговорим о милосердии. Милосердие есть первое движение человека, охваченного жалостью. В милосердии нуждается потерявшийся ребенок, слепец на краю пропасти, девочка, замерзающая на улице с протянутой рукой. Укрыть, согреть, остановить есть милосердие. (...) Это те случаи и ситуации, которыми занялась литература 19 века. Литература кричала голосами тех невидимых, неслышных людей, которым не помогли, и они легко ушли с зимней дороги. Карамзин, Пушкин, Диккенс, Андерсен: (...) литература обращалась к чувству милосердия в читателях. (...) Читатель проливал слезы жалости и сочувствия» [Петрушевская 2003: 231-232]. Примечательно, что повесть Гоголя «Шинель» воспринимается Петрушевскои и как «самая больная ситуация современного мира». Акакия Акакиевича она называет «пробным камнем для человечества» [Петрушевская 2003: 234].
В этих суждениях для нас, прежде всего, интересны два момента: во-первых, то, что названный писательницей ряд авторов, в чьем творчестве концептуально значима нота милосердия, жалости, открывается Карамзиным — ключевой фигурой русского сентиментализма. Не без его влияния в трактовке темы маленького человека, о которой собственно и идет речь в статье Петрушевскои, и у Пушкина, и у Гоголя звучит нота жалости. Еще раз напомним, что именно сентиментализм впервые исповедовал разочарование в «большой Истории» и обратился к сфере частной, интимной жизни отдельного человека, придал ей «естественное» измерение». Это «измерение» и является главным критерием существования у Петрушевскои.
Второй момент, который следует акцентировать в приведенном выше суждении писательницы о роли милосердия, связан с принадлежностью ее героев к типу маленького человека. Она даже называет их «маленькими людишками», которые «копошатся, ходят по кухням, занимают деньги. Иногда сватаются через парихмахершу. (...)» [Петрушевская 2003: 33]. При этом Петрушевская и себя относит к их числу («Они как я, как мои соседи»). Определяя свою позицию как писателя, она говорит:
«Я хочу защитить их. Они единственные у меня. Больше других нет. Я их люблю. Они мне даже не кажутся мелкими. Они мне кажутся людьми. Они мне кажутся вечными» [Петрушевская 2003: 33]. Эта позиция связана также с пониманием писательницей роли искусства: «Искусство - не прокуратура. (...) оно, наоборот, защищает. Оправдывает. (...) Вызывает слезы. У искусства все равны. Все люди» [Петрушевская 2003:34]. Данная мысль варьируется и в ряде других статей Петрушевской, где она рассуждает о маленьком или обыкновенном человеке:
«...толпы нет. Есть люди. Каждый сам по себе. Человек со своей историей и жизнью (...), каждый со своим космосом, каждый достоин жизни, достоин любви. Все были нежными младенцами, станут немощными стариками» [Петрушевская 2003:181].
Следует особо обратить внимание на то, что в данном случае тип маленького человека понимается несколько иначе, чем в реализме, где определение «маленький» обозначало характеристику его душевного мира и его социального положения. М.М.Бахтин же подчеркивает «экстерриториальность человека сентиментализма (...) вне мира сего, вне жизненной колеи» [Бахтин 1997, 5: 304]). Он может быть жалким, маленьким, вовсе не Героем, не гражданином, не делателем, а просто чувствительным и чувствующим человеком. В связи с этим так концептуально значимы в приведенных выше суждениях Петрушевской слова-характеристики «нежный», «немощный». Писательница убеждена, что каждый достоин участия, и о каждом она готова проливать слезы. У М.М.Бахтина есть замечательная характеристика такого отношения: «(...) оплакивание, вечная память» [Бахтин 1997, 5: 304].
Даже когда Петрушевская размышляет о жанровой специфике своих рассказов, она вновь уточняет: «в их основе лежит жалость» [Петрушевская 2003: 325]. Именно в пробуждении этого чувства писательница видит главную задачу литературы. В рассказе «Дочь Ксени» она пишет:
«Задача литературы, видимо, и состоит в том, чтобы показывать всех, кого обычно презирают, достойными уважения и жалости. В этом смысле литераторы как бы высоко поднимаются над остальным миром, беря на себя функцию судей мира и защитников (...)» [Петрушевская 1993: 53].
Эта точка зрения объясняется тем, что в ее прозе позиция автора выражает не просто женский взгляд на вещи, а именно материнский взгляд. М.Липовецкий в своей новомирской статье «Трагедия и мало ли что еще» высказал мысль о том, что «судьба, проживаемая каждым из героев Петрушевской, всегда четко отнесена к определенному архетипу, архетипической формуле: сирота, безвинная жертва, суженая, убийца (...) Но во всем этом пестром хороводе еще мифом отлитых ролей центральное положение у Петрушевской чаще всего занимают Мать и Дитя» [Липовецкий 1994: 231]. Следует подчеркнуть, что это центральное место обеспечивается именно тем, что в самой авторской позиции выражен материнский взгляд. Отсюда жалостливое и милосердное отношение писательницы к своим героям, ее желание их защитить.
В первой главе, выявляя материнский дискурс в прозе Петрушевской, мы говорили о мудрости взгляда матери на мир, о ее готовности всех понять, а теперь заостряем внимание на несколько ином аспекте того же дискурса, связывая его с чувствительностью. Материнский взгляд объясняет и специфичность трактовки в прозе Петрушевской темы маленького человека. Определение «маленький» здесь используется даже не в переносном, а в прямом смысле - такими, маленькими, требующими защиты, автор видит своих героев, а потому и не судит их, какими бы они ни были, они - ее дети. Как вариация типа маленького человека у Л.Петрушевской нередко встречается тип сиротки, звучит мотив сиротства, что уже провоцирует чувство жалости («Йоко Оно», «Сирота», «Свой круг»). Эта сострадательная позиция матери определяет и характер многих заглавий ее произведений («Дочь Ксени», «Дитя», «Доченька», «Гимн семье», «Материнский привет»), и специфику сюжетов, которые преимущественно связаны с семейной темой. Как своеобразная «формула» сентиментализма звучит, например, название одного из ранних рассказов Л.Петрушевской «Бедное сердце Пани». Эпитет «бедное» выглядит здесь почти как реминисценция, отсылающая к самому известному произведению русского сентиментализма - «Бедной Лизе» Карамзина. А в сочетании со словом «сердце» оно представляет собой едва ли не иллюстрацию сентименталистского принципа «чувствительного сердца». Сентименталистский дискурс характеризует и особенности отношения автора к читателю. В рассказе «Возможность мениппеи. Три путешествия» есть две главы, названные «Обращение к читателю», в которых Петрушевская дает оценку идеального читателя. В частности, она пишет: «Я еще в самом начале своей литературной деятельности знала, что он будет самым умным, самым тонким и чувствительным» [Петрушевская 2002: 66]. Эта же мысль высказана ею и в «Девятом томе». Говоря о значимости понимания человека и для писателя, и для читателя, Петрушевская подчеркивает: «понять - значит пожалеть. Вдуматься в жизнь другого человека, склониться перед его мужеством, пролить слезу над чужой судьбой, как над своей, облегченно вздохнуть, когда приходит спасение» [Петрушевская 2003: 71]. В этом высказывании фактически формулируется специфическая особенность сентименталистского дискурса, которую отметил В.И.Тюпа: он превращает читателя в эмоциональное эхо автора, в его «единочувственника» [Теория литературы 2004, 1: 97]. Автора, рассказчицу и читателя связывают чувства жалости и милосердия, их объединяет общность позиции матери, ее жизненный опыт. Знаменитая фраза из гоголевской «Шинели»: «Я брат твой», - фокусирующая то отношение к герою, которое внушается читателю, применительно к рассказам Петрушевской прозвучала бы так: «Я сестра твоя».
Диалог-мост, предполагающий тесный контакт с сострадательным и все понимающим читателем, устанавливается зачастую буквально с первых слов. Можно выделить несколько типов зачинов, цель которых установление подобного контакта.
Игра с романтическим дискурсом в мистических рассказах
Мистические рассказы занимают промежуточное положение между реальными и сказочными произведениями Л.Петрушевской. Характеризуя свой первый цикл таких рассказов - «Песни восточных славян», она писала в «Девятом томе»: «это сочиненные мною как бы фольклорные произведения. Аналогия - см. историю мистификаций с «песнями западных славян» [Петрушевская 2003: 305]. В них писательница активно обращается к поэтике так называемых страшных историй или страшилок, которые являются, как считают исследователи, своеобразной современной формой детского мифотворчества. По словам Петрушевской, «это поэзия страхов, снов, кошмаров» [Петрушевская 2003: 305]. Эти истории обычно содержат установку на достоверность, вместе с тем они многими нитями связаны с такими жанрами, как сказка, быличка, баллада, в которых выражен интерес к миру чудесного, таинственного, непостижимого и делается попытка дать этому какое-то правдоподобное объяснение. Их роднит романтическое двоемирие, которое, так или иначе, проявляет себя в каждом из этих жанров.
В рассказах Л.Петрушевской переклички с детскими страшилками, а через них и с другими, родственными им жанрами, можно обнаружить на уровне композиции, сюжета, системы образов.
Интерес писательницы к страшилкам, очевидно, объясняется тремя основными причинами. Во-первых, это камерный жанр, в котором фигурируют практически те же действующие лица, что и в других произведениях Петрушевской, то есть узкий круг «своих»: родители, дети, друзья, в них обычно представлен мир дома, причем особенно значим образ матери.
Функции знакомых героев в страшилках близки к сказочным: у главного действующего лица есть свои «помощники» и свои «вредители», есть и волшебные предметы, которые либо помогают, либо вредят. Как и в сказке, в страшилке все ужасное в итоге должно иметь благополучное разрешение. Именно это знание делает для ребенка страшное особенно интересным и притягательным. Данное обстоятельство позволяет сформулировать вторую причину обращения Л.Петрушевской к поэтике страшилки: это — игровой жанр, а игровое начало, как уже говорилось выше, весьма характерно для творчества писательницы. Причем в случае со страшилками в прозе Петрушевской даже возникает двойная игра: игра с игровым жанром. Третья причина, объясняющая пристрастие Петрушевской к жанру детского фольклора, - расширение круга читательской аудитории. Так же, как сказки, ее «страшилки» могут быть предназначены и для детей, и для взрослых. Тем более что сюжетно-образная схема детского фольклорного жанра накладывается в рассказах Петрушевской на весьма серьезную основу, связанную с комплексом тех гуманистических проблем, о которых уже шла речь в связи с реальными произведениями писательницы: поиски путей преодоления трагедии одиночества, обретения связи, родства. Кроме того, в художественном мире Петрушевской этот игровой жанр, предполагающий условность, театральность, активно использующий поэтику сна, вступает в диалогические связи с другими текстами, как правило, отнюдь не детскими. В результате рождается достаточно сложно организованное новое жанровое образование. В этом можно убедиться на примере рассказа «Черное пальто». Он включен в циклы, которые в различных изданиях произведений Петрушевской называются по-разному: «В садах других возможностей», «В доме кто-то есть». В одном из последних изданий название «Черное пальто» используется как заглавие целого цикла рассказов, что свидетельствует о концептуальной значимости этого произведения в ряду других мистических рассказов писательницы.
Уже давно было замечено, что в страшилках часто фигурируют предметы, наделенные сверхъестественными демоническими свойствами, на которые указывает черный цвет: «Черные шторы», «Черная лента», «Черные колготки». «Черный платою), «Черное платье». Как известно, в христианской традиции черный - символ ночи, смерти, отчаянья, греха, пустоты. Поскольку черный поглощает все другие цвета, он также выражает отрицание, символизирует негативное начало. В страшилках «черный» является знаком принадлежности к иному, «страшному» миру. Исследователь данного жанра С.М.Лойтер пишет: «Цвет в детских историях мифичен. Более того, демонологические силы нередко начинают действовать с обретением мифолого-символического цвета. Именно цветом инициируются их свойства и качества» [Лойтер 1996: 96]. Можно заключить, что Петрушевская следует в данном рассказе законам жанра страшилки, а также сложившейся традиции, связанной с символикой «черного». Но важно помнить, что тема ночи вообще близка писательнице, как, впрочем, и многим другим представителям современной литературы, в произведениях которых «ночь» выступает как мирообраз. В данном случае уместно напомнить строки из стихотворения И.Жданова: «Мы верные граждане ночи, / Достойные выключить ток». Многие представители современной литературы могли бы повторить эти слова, присоединившись, таким образом, к числу «граждан ночи». В реальных рассказах Петрушевской время действия всегда — ночь. Герои вынуждены не жить, а выживать в этой тьме. Показательно в этом плане название статьи О.В.Богдановой «Технология мрака», посвященной творчеству Л.Петрушевской. Автор этого исследования доказывает, что сюжет в произведениях писательницы конструируется, «строится фрагментарно, эпизодично, выборочно, только за счет событий исключительно отобранных и «беспросветно черных». Он (...) концентрируется вокруг отдельных «черных» событий и эпизодов» [Богданова 2004: 388].
Однако в «страшных историях» Петрушевской, как это ни парадоксально звучит, картина не столь мрачна, как в ее реальных рассказах. Тем не менее, в сюжете «Черного пальто» многие ситуации и отдельные детали заставляют вспомнить ту самую темную сторону обыденной жизни, которая обычно является предметом изображения в реальных произведениях писательницы. Героиня, как и читатель, не сразу понимает, какие границы она пересекает:
«Одна девушка вдруг оказалась на краю дороги зимой в незнакомом месте: мало того, она была одета в чье-то чужое черное пальто (...) Девушка вообще не помнила, кто она такая и как ее зовут. Она стояла и мерзла на непонятном шоссе зимой, ближе к вечеру» [Петрушевская 2002а: 112].
Одновременно в первой же фразе присутствуют необходимые для создания атмосферы мистического неожиданности: «вдруг», «незнакомое место», «непонятное шоссе» и, конечно, «чужое черное пальто». Затем появляется какая-то машина, и два странных человека предлагают девушке подвести ее:
«Они мчались по темнеющей дороге среди снегов, шофер молчал, улыбаясь, и девушка тоже молчала (...)» [ Петрушевская 2002а: 113].
Петрушевская строит повествование, следуя поэтике сна, используя традиционные сюжеты сновидений: незнакомое место, поиск выхода, появление каких-то странных людей, которых вначале принимают за «помощников», а потом они оказываются «вредителями», попытки спрятаться, убежать от них. Появляется темный туннель, по которому девушка «легко бежала, почти не касаясь пола, неслась как во сне», потом - темный дом, лестница, закрытые двери квартир, которые, как по волшебству, вдруг открываются одним ключом. И при этом, в соответствии с законами жанра, героиня стремится всему странному дать рациональное объяснение:
«Они ехали по совершенно пустым и раскопанным ночным улицам, народ, видимо, давно спал по домам» [Петрушевская 2002а: 115].
Писательница использует широко распространенный балладный ход -встречи с миром мертвых. Слепота героев в отношениях друг с другом связана с тем, что они находятся во мраке, где трудно различить, что ведет к гибели, а что к спасению, кто умер, а в ком еще осталось что-то живое. Черное пальто является предметом-проводником между двумя мирами. Только накинув его или, наоборот, сбросив, можно вступить в царство мертвых или покинуть его. Но загадка черного пальто разрешается только в самом конце.
«- Где мы? - спросила девушка.
- На этот вопрос не бывает ответа, скоро увидишь сама (...)
-Кто я? — спросила девушка
-Ты узнаешь», - слышит она» [ Петрушевская 2002а: 119].
Размывание привычных границ реальности пробуждает воображение читателя. Такой текст способствует «романтическому мечтанию» как особому роду чтения - со-участию в «страшной» игре. Внешней формой игрового контакта с читателем-соучастником являются своеобразные «слова-заклинания», одновременно характеризующие состояние героини и настраивающие читателя на определенную эмоциональную волну, поддерживающую в нем «магию страха»: «внезапно», «необыкновенно», «мрачный», «уродливый», «жуткая», «странно», «неожиданно», «страшный сон», «пустой темный дом» и т.д. Для передачи состояния героини неоднократно повторяются слова-штампы: «сердце громко билось, стучало в пересохшем горле», «сердце у нее громко стучало». Все это вместе напоминает рефреном звучащие заклинания из баллады Жуковского «Людмила»: «Страшно, ль, девица?...».
Специфика нарративных стратегий в романе «Номер один или В садах других возможностей»
Первый роман Л.Петрушевской был неоднозначно оценен критикой. У одних он вызвал разочарование, непонимание, у других - восхищение. Так, А.Немзер назвал роман «дикой животной сказкой». А.Латынина тоже дала весьма жесткую оценку попыткам Петрушевской «нащупать новую манеру письма», которая наблюдается и в ее рассказах конца 1990-х годов. «Может, Петрушевская и впрямь замышляла метафизический роман с глобальными метафорами, новое слово об участи науки, культуры и интеллигенции, о поглощении ее криминалом, об опасности для человечества быть съеденными изгоями, вышвырнутыми из людского сообщества (чучунами), о деградации человечества (...) Но получилось то, что получилось» [Латынина 2004: 134]. Критики осудили Петрушевскую за попытку ненужного соревнования с Сорокиным и Пелевиным, а заодно и с «Кысью» Т.Толстой. Но кому-то, напротив, именно это соревнование показалось интересным открытием. М.Золотоносов в рецензии, опубликованной в «Московских новостях» (2004, 9 апреля), даже предположил, что книга станет главным литературным событием года.
Среди пока очень немногочисленных литературоведческих работ, посвященных первому роману писательницы, выделим статью С.Пахомовой ««Номер Один» в контексте творчества Людмилы Петрушевской». В ней привлекает уже сама постановка вопроса соотношения этого самого крупного произведения Петрушевской с ее предшествующим творчеством. С.И.Пахомова обращает внимание на специфику жизненного материала, проблематику, типы героев, а также рассматривает развитие основной интриги романа. Последнее тоже немаловажно, поскольку, как справедливо пишет автор статьи, «мир, предстающий перед читателем в мистическом триллере Петрушевской, причудлив, загадочен, а порой абсолютно иррационален» [Пахомова 2006: 18]. Поскольку одна из основных мистических сюжетных линий связана с переселением душ, С.Пахомова выделяет «тему дуализма души и тела». Она утверждает, что в «предыдущем творчестве Петрушевской (...) материально-телесное начало, как правило, преобладает над духовно-интеллектуальными аспектами человеческого существования» [Пахомова 2006: 21], а в новом романе писательницы в этом смысле главный герой -«нетипичный» для прозы Петрушевской персонаж, «он ученый, интеллектуал, демонстрирующий эрудицию и широту культурных интересов» [Пахомова 2006: 21].
С.Пахомова отмечает в романе Петрушевской синтез привычного для этой писательницы «жесткого изображения необустроенного и грязного быта с откровенной мистикой» [Пахомова 2006: 18]. Действительно, роман «Номер Один» можно рассматривать «как текст, соединяющий в себе две линии прозы Петрушевской - «бытовую» и «мистическую»» [Пахомова 2006: 28]. Однако С. Пахомова пишет, что ранее эти две линии «существовали как бы изолированно друг от друга и, на первый взгляд, обнаруживали не слишком много точек соприкосновения» [Пахомова 2006: 28]. С этим утверждением трудно согласиться. При анализе мистических рассказов Петрушевской мы как раз стремились эту связь продемонстрировать. И все же итоговое утверждение исследовательницы о том, что появление этого самого крупного на сегодняшний день произведения Петрушевской «позволяет под несколько иным углом зрения взглянуть на все написанное ею прежде» [Пахомова 2006: 28], кажется нам справедливым.
Мы полагаем, что этот роман интересен уже тем, что вобрал в себя многогранный предшествующий опыт Петрушевской как драматурга, сценариста, прозаика и вместе с тем приоткрыл новые грани таланта писательницы. Кроме того, в этом романе обнаруживает себя целый ряд тенденций, характерных для современной литературы в целом, неудивительно, что в нем обнаруживаются диалогические связи не только с текстами-предшественниками», но и текстами-«современниками».
Постмодернистичность романа «Номер один...» заявляет о себе уже на уровне нарративных стратегий - демонстстративного обнажения приема смешения или пермутации, как его называл Фоккема. Перед нами своеобразный коктейль из этнографии, мистики, фантастики, мифотворчества, «чернушного» российского быта, что проявляется и через своеобразные «приключения письма», варьирование, взаимное наложение, взаимодействие различных дискурсов. Автор прибегает к разорванной композиции, нарушению синтаксических связей, сокращению слов, часто отказывается от пунктуации, создает эффект намеренной бессвязности речи. Конструкция текста настолько запутанна, что напоминает лабиринт, в котором заблудились даже критики. В первых оценках романа нередко встречаются расхождения, непроясненные места, касающиеся отдельных моментов его содержания.
В первой главе, которая называется «Беседа», воплотился опыт Петрушевской-драматурга. Хотя проникновение законов драмы в эпические произведения мы наблюдали и в других, более ранних рассказах и повестях писательницы, но здесь этот прием намеренно обнажен. Фактически перед нами своеобразная мини-драма. В соответствии с законами данного рода литературы, мы не слышим ни авторского голоса, ни голоса рассказчика-повествователя. Это уже не монолог как способ повествования, характерный для многих произведений Петрушевской, а именно диалог. Герои проявляют себя только через слово в коммуникативной ситуации, хотя складывается она далеко не просто, почти как диалог глухих (очевидно, неслучайно в главе упоминается название журнала «Жизнь глухих»). Итак, мы слышим разговор сотрудника научно-исследовательского института, который именуется здесь «Первым», с директором этого института - «Вторым». Глава «Беседа» интересна не только как завязка основного конфликта, но и как своеобразный ключ к прочтению всего произведения, ключ к определению его повествовательной стратегии.
Мы слышим три голоса, один из которых — с магнитофонной ленты. Перед нами три разных дискурса, с которыми во многом связано и членение всего текста романа1. Один из голосов принадлежит главному герою — этнографу, переводчику с языка древнего народа энтти (народ вымышленный). Он предлагает директору прослушать «ночное пение» Никулая-уола, жреца энтти, способного предсказывать будущее. Первый в данном случае выступает одновременно и в роли комментатора: «(...) он поет во сне (..) Это как из подсознания. Появляется, видите ли, архаический пра. Как бы сказать текст. Пратекст. То есть тот, которого сам человек не может помнить. Память предков. Как при гипнозе (...) Он хранит в памяти семь поэм, каждая размером с «Илиаду»» [Петрушевская 2004в: 20]2.
Никулая-уола Первый знает давно и воспринимает его не просто как объект изучения, но как выдающегося человека, чья судьба ему далеко не безразлична. И в судьбе народа энтти Первый тоже искренне заинтересован, сознает, какая ответственность лежит на нем и на всех тех, кто способен помочь энтти выжить, спасти свою культуру.
Зато Второй, к которому и обращена речь Первого, не только не способен его понять и услышать, но и не хочет этого делать. Первый вынужден постоянно адаптировать свою речь, чтобы сделать ее доступной пониманию собеседника, так как Второй, хотя и занимает пост директора научно-исследовательского института и даже намеревается баллотироваться в академики, представляет собой тип настоящего воинствующего хама с преступным прошлым и настоящим. К науке у него чисто потребительский интерес.