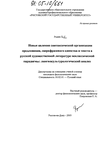Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Два издания «Переписки»
1.1. Композиционная структура двух изданий « Переписки» Н.В. Станкевича 22-30
1.2. Мотивы обращения к поколению 1830-х годов. Сравнительные аспекты «Переписки» П.В. Анненкова (1857) и «Переписки» А.И.Станкевича (1914) 30-39
1.3. Фабула и сюжет «Переписки» 39-56
Примечания 57-59
Глава II. «Переписка Н.В. Станкевича» (1857) — как литературное произведение
2.1. О путях и стадиях превращения переписки из бытового документа в литературный факт 60-79
2.2. Переписка, осмысленная критиком 79-90
2.3. Русский исторический роман в восприятии Н.В. Станкевича 90-97
2.4. Обретение романной поэтики: герой и неизведанный мир 98-123
2.4.1 Письма с Кавказа 98-118
2.4.2. Письма из Италии 118-123
Примечания 123-125
Глава III. Легенда о Н.В. Станкевиче 126-156
3.1. Свод известий о Станкевиче 126-142
3.2. Н.В. Станкевич в восприятии и оценке современников. (И.И. Панаев, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой) 142-156
Примечания 156-157
Заключение 158-160
Список использованной литературы 161-183
Приложения I, II 184
- Композиционная структура двух изданий « Переписки» Н.В. Станкевича
- Фабула и сюжет «Переписки»
- О путях и стадиях превращения переписки из бытового документа в литературный факт
- Н.В. Станкевич в восприятии и оценке современников. (И.И. Панаев, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой)
Введение к работе
К числу знаменательных литературных событий эпохи общественного подъема в России накануне падения крепостного права принадлежит появление в 1857 г. книги П.В. Анненкова «Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография» [ІЗ].1 Анненков был не первым биографом этого человека, сыгравшего, по признанию многих современников, уникальную роль в развитии отечественной гражданственной мысли и словесности. Еще в 1843 г. - три года спустя после безвременной (в двадцать семь лет), смерти Н.В. Станкевича - Н.Г. Фролов приступил к его жизнеописанию, взяв за основу сохранившиеся письма. Завершенное год спустя это сочинение цензурою не было допущено к изданию: отношение властей к деятельности Станкевича и его окружения становилось с годами все более настороженным. Рукопись Фролова не обнародована и поныне: хотя ее значение померкло после выхода в свет книги П.В. Анненкова2.
Цензурные препятствия, мешавшие первому биографу Станкевича, отпали после 1855 г. К тому времени Анненков уже обладал опытом соединения труда биографа и публикатора: к 1857 г. он издал «Материалы для биографии Пушкина»3 и заканчивал выпуск семитомного собрания его же сочинений4. Написанная Анненковым биография Станкевича и им же собранная и упорядоченная переписка первоначально увидели свет в трех номерах журнала «Русский вестник» за 1857 г.: биография - в номерах 3-м и 4-м, письма - в 7-м номере. В книге обе эти части труда Анненкова соединены, хотя у каждой - своя пагинация; биография предваряет переписку и занимает больше трети объема книги (237 страниц из 632); в заглавии издания первое место отдано слову переписка. Акцент, сделанный П.В.Анненковым на слове переписка позволил именовать его труд одним словом «Переписка» (в кавычках и с прописной буквы). И в журнальной публикации, и в книге к письмам Станкевича присовокуплены выдержки из его дневников и «Журнала путешествий» и его же прежде не издававшаяся философическая статья «Моя метафизика». Более полувека спустя, в 1914 г., в печати появился вто-
рой вариант писем Станкевича, изданный его племянником А.И. Станкевичем, профессором Московского университета5. Анненковская биография Н. Станкевича в этом издании не воспроизведена; свод писем композиционно перестроен в сравнении с тем, что было у Анненкова, текст писем во многих местах дополнен и уточнен. (В дальнейшем это повторное издание будет называться «Переписка. 1914.»)
Оба издания давно стали библиографической редкостью. Однако «Переписка» отнюдь не выпала из поля зрения читателя. Среди непосредственных откликов критики на книгу Анненкова выделяется статья Н.А. Добролюбова в «Современнике» «Николай Владимирович Станкевич»6. Она заслуженно вошла в круг наиболее известных сочинений великого критика и часто переиздавалась. Именно благодаря этой статье Добролюбова нынешний читатель, серьезно знакомый с русской литературой середины XIX века, осведомлен об анненковском издании переписки Станкевича. Сами же письма Станкевича в обоих своих печатных вариантах остаются труднодоступными7.
Изучение наследия Н.В. Станкевича, его творческого пути и деятельности развернулось, начиная с середины XIX века. Начало положено Н.Г. Фроловым, продолжением стала книга П.В. Анненкова. Еще до появления «Переписки 1914» пространные и краткие биографические замечания о Станкевиче, всегда сопряженные с характеристикой его деятельности как литератора, философа и, говоря словами Н.А. Добролюбова, «вносителя новых идей в известный круг» , находятся в статье В.Г. Белинского о А.В. Кольцове [94, 571-574], в «Былом и думах» А.И. Герцена [82, 16-18], в повести И.И. Панаева «Родственники» [91, 434-510], в воспоминаниях и других сочинениях И.С. Тургенева [75,229-235, 504-506], в воспоминаниях П.В. Анненкова [36, 122-124]. Есть они и у менее известных литераторов XIX в., например у В. Астрова (Савелов) [16,33-45], П.П. Суворова [31, 260] и др.
Первым опытом развития исследовательски обоснованного взгляда на значение деятельности Станкевича в обновлявшейся культурной и умственной жизни России середины XIX в. была книга П.В. Анненкова. Тот же аспект осуществля-
ется в более поздних работах публицистов и литературоведов XIX - начала XX вв.: М.М.Филиппова [277, 96-110], В.Е. Чешихина-Ветринского [23, 28-38, 61-67], А.В.Волынского (Флексера) [137,138], С.А. Венгерова [131, 296], П.Н. Милюкова [26,73-81].
На протяжении XX века этот ряд трудов продолжен работами, где все более глубоко рассматривается биография Н.В. Станкевича, освещен ряд перипетий в его общении с современниками, начиная с его кружком (1831-1835 гг.), оставившего благодатный след в отечественной истории, и завершая последними годами жизни. Исследователи с возрастанием гражданского самосознания рассматривают связи Станкевича, философа и художника, с движением общественной мысли, с нравственными побуждениями, охватывавшими широкие пласты соотечественников. Выявляется и его собственный вклад в духовное достояние эпохи и потомства. Этой направленностью отмечена биография, составленная Н.Л. Бродским [20, 186]. Особенно следует отметить статью С.Я. Штрайха «Н.В. Станкевич» [31, 49-51]. Выделяются разносторонние труды Ю.В. Манна [225, 226, 227, 228], где обстоятельно исследованы и философские концепции, и нравственная атмосфера, и творческие поиски московского кружка, и окружения Станкевича в более позднее время. Подобным же образом подходят к личности Станкевича М.Я. Поляков [246, 247, 248], СИ. Машинский5 [232, 198-277]. Из зарубежных литературоведов особого упоминания заслуживает Э. Браун [32, 149].
Изучение деятельности Станкевича во многом обогащено трудами исследователей жизни и деятельности В.Г. Белинского: Ю.Г. Оксмана [240, 230-262], Н.М. Гутьяра [163, 37-38], Б.Ф. Егорова [173, 236-241], B.C. Нечаевой [27]. Труды этих литературоведов позволяют увидеть в наследии Станкевича содержание, существенно обогащающее отечественную культуру.
Мы опирались также на труды, освещающие (пусть и не столь капитально) проблемы жизни и творчества Станкевича и вводящие в обиход неизвестный прежде материал. Это исследования К.П. Архангельского [14, 92], Н. Кашина [24, 1-41], А.И. Журавлевой [178, 37-42], М.М. Григорьяна [160], В.В. Данилова [166, 420-424], В. Ярмерштедта [302, 94-124, 162-181].
Заметим, что одним из главных источников, питавших труды о Н.В. Станкевиче, неизменно была его переписка, но сама она практически не становилась предметом сосредоточенного изучения.
По нашему мнению, одна из причин такого положения, — уникальность художественной природы анненковской публикации. Не ставя перед собой задачи стереть белое пятно, мы хотели бы подойти к переписке Н.В. Станкевича как к единственному в своем роде факту литературного развития своей эпохи.
Диссертация написана на основе системно-структурного анализа. Мы исходили из следующих положений. Всякий объект, физически существующий или умозрительный, может быть рассмотрен как система,9 если он членится на составляющие элементы и при этом исполняет единую функцию, которая не может быть исполнена какими-либо его элементами, взятыми в отдельности. Связи между элементами, обеспечивающие функционирование системы, образуют ее структуру. Все реально существующие системы многофункциональны. Связи, не структурные по отношению к какой-либо функции системы, могут оказаться структурными при другой функции; связи и элементы, излишние (избыточные) при определенных условиях функционирования, могут стать структурообразующими в изменившихся условиях. Система способна успешно функционировать, только обладая некоторым запасом прочности (избыточности).
В эстетическом объекте - каком-либо явлении, воспринимаемом с позиции критериев красоты (этому отвечает многое в природе и все в любом искусстве), — всякий элемент и всякая внутренняя связь либо структурны по необходимости, либо способны стать таковыми9. В любом искусстве основная и всегда присутствующая функция — создание эстетических объектов, иначе говоря — образотвор-чество. В словесном искусстве эта функция принимает форму вербально выраженного смыслопорождения.
Будем исходить из самых общих представлений и понятий о смыслопорож-дении в художественном произведении и о его смыслонагруженности, которые нам диктует уходящая корнями в давние века практика общения со словесным искусством. Эту практику обобщают теоретическая и историческая поэтики. На-
званные представления и понятия сходятся в том, что художественное творчество культивирует специфические (свойственные только ему и универсальные для него) отображения всего, что существует вне нас, в нас самих и что мыслится нами. Свойственные искусству отображения такого рода именуются художественными образами. Здесь не место подробно говорить об их природе, и о том какими путями она проявляется. Явления литературного процесса мы будем рассматривать как обогащающее освоение унаследованного от прошлых веков опыта создания художественных произведений и их восприятия и осмысления. Обратим внимание на такие категории, используемые поэтикой, но принадлежащие к более широкому кругу знаний, как жанр, сюжет, диалог. Обращаясь к ним, мы следуем пониманию природы процессов творчества и их роли в жизни общества, которое развито в трудах М.М.Бахтина [114, 116-210], Д.С.Лихачева [206, 183-214], Ю.М. Лотмана [215,381-389].
Предмет нашего исследования заставляет обратиться и к опыту историко-функционального подхода. В отечественном литературоведении этот подход ставит задачу исследования тех переосмыслений, которым литературное произведение подвержено на протяжении своей исторической жизни. Имеется в виду разнообразие углов зрения и разноречивость его интерпретаций, возникающих в все более неоднородной читательской среде в литературоведении, критике, науке. Для нас важен аспект этого направления, отмеченный Э.А. Полоцкой: «Изучение историко-генетических проблем может содействовать прояснению позднейшей судьбы литературных произведений» [244, 192-220]. Вполне очевидно, что системно-структурный анализ и историко-функциональный подход не только не противоречат друг другу, но способны к прочной взаимоподдержке.
Историко-функциональный подход стимулирует и новые возможности изучения творческой истории произведения - «от замысла к воплощению», как гласит подзаголовок изданного тринадцать лет тому назад сборника «Динамическая поэтика». При этом проблема письма как литературного произведения, сформулированная Ю.Н. Тыняновым еще в 20-е годы выдвигается на первый план. «Что касается писем, они рассматривались, как правило, скорее как материал, важный
для изучения биографии писателя, для комментария к истории создания произведений. Однако письма - не только "материал", для литературы вспомогательный, в известном смысле это и сама литература, несущая на себе печать художественности, правда, своеобразно преломленной» [244, 192-220]. Авторы статьи « Документ творческого движения» Э.А. Полоцкая и З.С. Паперный констатируют (со ссылками на мнение М.Л. Гаспарова и И.С. Гиндина): наука о словесном художественном творчестве только приступает к решению названной задачи - изучению художественности письма и переписки. В самом же рассматриваемом сборнике письму как литературному произведению специально посвящены три статьи: Э.А. Полоцкой, А.П. Чудакова, Д.М. Магомедовой. С содержанием последней из этих трех статей — «Переписка как целостный текст и источник сюжета (На материале переписки А. Блока и А. Белого <...>)» - соприкасается материал нашей диссертации.
Решение всякой научной проблемы требует ее рассмотрения в плане как диахронии, так и синхронии. Это, разумеется, относится и к письму как к плоду творчества. В диахронном анализе можно выявить следующие аспекты: во-первых, развитие эпистолярия в контексте общекультурного движения (традиционность, масштабность), во-вторых, взаимосвязь литературы и эпистолярия, появление эпистолярного романа. На уровне синхронии реализуется общение, в котором человеческая индивидуальность раскрывается в разносторонности социального и личностного опыта ив разнообразии внутренних состояний. Синхронный анализ и выявляет характер межличностных взаимодействий. И системно-структурный анализ, принятый нами в качестве основного метода изучения литературного произведения, творческого процесса и эстетического опыта общества, и элементы историко-функционального подхода, и проблематика динамической поэтики предполагают усиленное внимание типологическим схождениям, возникающим помимо прямых заимствований. При этом диахронный и синхронный подходы реализуются совместно. «Задачей сравнительно-типологического изучения может быть и открытие самой типологической общности явлений, возникших независимо друг от друга» [190,33].
Обращаясь к жизни и творчеству Станкевича, приходится констатировать: наименее изученными остаются вопросы значимости публикаций его переписки. Оба варианта ее печатных изданий представляют немалый, и пока что далеко не удовлетворенный интерес для исследователя. Издание 1914 года полнее и точнее отражает склад личности одного из наших замечательных соотечественников и характер его деятельности. Анненковское издание обладает самостоятельной ценностью как один из поступательных шагов интеллектуального и нравственного развития общества. Оно появилось то время, когда, как отметил в одной из работ Б.Ф. Егоров, «в литературе основной темой оказывалась разработка проблем современности как итога прошлого» [172, 136]. Этой формуле точно соответствуют побуждения, которыми руководствовался Анненков, когда, отправляясь от документов недавнего времени, создавал портрет Станкевича и, одновременно, предлагал читателю воплощенный в документах автопортрет того же человека. «Мы имеем в Станкевиче, - писал Анненков, - типическое лицо, превосходно выражающее молодость (здесь и далее курсив наш - О.М.) того самого поколения, которое подняло все вопросы, занимающие ныне науку и литературу, которое по мере возможности трудилось над ними и теперь начинает сходить понемногу с поприща, уступая место другим деятелям. В Станкевиче отразилась юность одной эпохи нашего развития: он как будто собрал и совокупил в себе лучшие нравственные черты, благороднейшие стремления и надежды своих товарищей. В нем сошлось как в центре все прекрасное, которое было рассеяно в толпе окружающих его друзей. Четверть столетия протекла уже с тех пор, как одно поколение посреди нашего общества начало сознавать важность строгого, добросовестного служения науке, необходимость нравственных требований от себя и от других, общественное значение чистоты действий и побуждений. В преддверии этой замечательной четверти столетия является светлый образ Станкевича как представитель всего направления» [13, 236].
Отдельную незаурядную личность современники и потомки воспринимают и оценивают как живое воплощение внутренних возможностей, присущих целому поколению. Полноту внутреннего отзыва на опыт и запросы современности мож-
но найти в реально живущем человеке, подвергнув анализу его жизненный путь и свидетельства его духовной жизни, как поступил А.Н. Радищев, когда писал о Ф.В. Ушакове. С течением времени тем же качеством все чаще наделяется вымышленный литературный герой. Литература постоянно сводит нас с такими людьми и делает это особенно настойчиво, убедительно и разнообразно в эпоху расцвета и состязания реализма и романтизма. Литературный герой может отразить в себе неразрешимые для него порожденные эпохой противоречия (как Печорин) или полноту человечности, связанную с воздействием своего времени, что мы видим в пушкинской Татьяне. К середине XIX века первенство в осуществлении такого подхода к человеку закрепилось за романом. Такую же задачу решает Анненков, но он отсылает не к литературному произведению и не к документальному повествованию, а к письмам. Именно переписка, а не сопутствующее ей биографическое повествование делает утверждения Анненкова неотразимо убедительными. Так понял Анненкова Добролюбов. Он, исходя из писем Станкевича, размышляет об их авторе точно так же, как размышлял о литературных героях. Статья Н.А. Добролюбова убеждает, что письма Н.В. Станкевича, ничем не дополненные, а только лишь собранные и выстроенные хронологически, могут быть восприняты, исследованы и оценены как факт литературы. К такой точке зрения Добролюбова подводит метод реальной критики, и переписка своим содержанием открывает возможность осуществить то, к чему стремится критик в подходе к жизни и людям. Переписка объединяет два смысловых пласта. Первый - самовоплощение самого Станкевича, второй - опосредованный. Этот пласт порожден исполнением творческого замысла Анненкова: публикатор сделал собрание писем целостным документом, а главное - придал этому собранию статус литературного факта. Последнее обстоятельство вполне убедительно подтверждается статьей Н.А. Добролюбова.
Ю.Н. Тынянов, вводя в свое время в обиход термин «литературный факт», коснулся и той метаморфозы, которую мы наблюдаем, рассматривая книгу П.В. Анненкова и которая не была в пятидесятые годы XIX века новым явлением в литературе. Как отметил Ю.Н. Тынянов, писатели начала века — П.А. Вяземский, Александр Тургенев, наконец, А.С. Пушкин - видели в частной
11 переписке «глубоко литературный жанр» и в собственных письмах культивировали литературные нормы, отвечавшие законам этого жанра. «Не трудно проследить такие эпохи - продолжает Тынянов, - когда письмо, сыграв свою литературную роль, падает опять в быт, литературы более не задевает, становится фактом быта, документом, распиской. Но в нужных условиях этот бытовой факт опять становится фактом литературным.
Любопытно убедиться в том, как историки и теоретики литературы, строящие твердое определение литературы, просмотрели огромного значения литературный факт, то всплывающий из быта, то опять в него ныряющий» [213, 266].
Таким образом, если пользоваться лексикой Тынянова, из быта вынырнула и вошла в литературу переписка Станкевича, приобретя при этом иные качества, нежели приобретало письмо, став литературным фактом в пушкинские времена. «Переписка» сблизилась с социально-психологическим романом: свод писем, знакомя читателя с личностным миром Станкевича, создает его эпистолярный портрет, осмысливаемый и публикатором, и критиком, как литературный портрет аналогичный литературным портретам в романе.
Станкевич отражал в переписке и осознанно, и подсознательно собственную привычку, свойственную книжным людям разных поколений, уподоблять себя в мыслях и в поведении литературным героям. Разумеется культура письма начала века, предполагавшая (снова сошлемся на Ю.Н. Тынянова) разработку эпистолярной поэтики, косвенно повлияла на Н.В. Станкевича, став предпосылкой для того, чтобы переписка Станкевича «всплыла» из быта в литературу. Решающими же условиями, без которых предпосылка не претворилась бы в метаморфозу, стали с одной стороны, нравственный и социальный опыт Станкевича (его самовоспитание и поведение), с другой - судьба переписки после смерти ее автора. В отличие от Вяземского или Пушкина, Станкевич не стремился обратить свои письма в литературный факт, это совершил Анненков.
Н.В. Станкевич заслуженно удостоился целой серии литературных портретов, мемуарных (у А.И. Герцена, И.С. Тургенева, того же П.В. Анненкова в воспоминаниях), и оснащенных вымыслом (у Тургенева, косвенно - у И.И. Панаева).
Но ни у кого из литераторов, знавших Станкевича и писавших о нем, не возникло портрета, столь же завершенного и настолько же подтверждающего правоту мнения Анненкова, какой возник для читателя опубликованной Анненковым «Переписки».
Литература сохранила и более краткие воспоминания о Станкевиче, не вырастающие в литературный портрет. Друзья Станкевича А. Кольцов, И. Клюшников откликнулись на его смерть скорбными стихотворениями, не дающими, однако, представления о масштабе и смысле участия Станкевича в развитии русского общества. «Стансы Станкевичу» поэта В.И. Красова, вышедшие в 1842 г., также не вносят существенно новых штрихов в портрет Станкевича.
Взятые вместе, эти литературные сочинения, и пребывающие на виду до нашего времени, и погруженные в тень, образуют совместно с перепиской целостный текст, разноплановую легенду о Станкевиче, подобие диалога, в котором соприкасаются и взаимодействуют разные лица (и реальные, и вымышленные) и разные системы сознания. Последнее обстоятельство особенно важно: подобие диалога перерастает в подобие полилога10.
В литературоведении последних десятилетий часто заходит речь о комплексе текстов, приобретающих функцию единого и целостного текста, - например, о петербургском тексте11. Такого рода гипертексты не обладают строго фиксированным составом и упорядоченной композицией. Их целостность обеспечивается общностью не только темы, но и организующей системы представлений и понятий о предмете. В границах этой системы находятся различные, вплоть до взаи-мооспоривания и взаимоотрицания, оценивающие и объясняющие взгляды на предмет. Благодаря этому возникают весьма сложные ряды ассоциаций, широкие логические связи. На почве тех и других разрастаются внутритекстовые диалоги, вступает в права полилог. Как о гипертекстах говорят и о текстах, имеющих предметом личность выдающегося человека, в том числе - и художника. Если можно говорить о пушкинском или гоголевском тексте, имея в виду не только то, что написано ими, но и обширный круг известий, истолкований и т.п., так же можно говорить и о станкевическом тексте. Примем во внимание, что пушкинский и
ский и гоголевский тексты, даже если их ограничивать определенным периодом, не считаясь с тем, что такое ограничение всегда будет произвольным, неохватно широки. Конечно, можно широту таких текстов ограничивать определенными рамками: тематическими, хронологическими, привязывая к определенному событию. Станкевический же текст логически завершен, он внутренне целостен, легко вычленяется в литературном наследии эпохи 1830-40 годов, без затруднения охватывается взглядом.
В центре текста о Станкевиче оказалась переписка, объединенная с биографией, - самый полный по объему составной элемент складывающегося полилога, который порождает наиболее широкое в его пределах обобщение. Такое обобщение приравнивает реально существовавшего отправителя писем, написанных для реальных конкретных адресатов и сохранившихся далеко не полностью, к эпохальному литературному герою. Другие тексты, включенные в полилог легенды о Станкевиче, обладают своей жанровой определенностью, знакомой и по другим образцам. Центральное звено Станкевичевского текста - «Переписки» - лишено этого качества, но обладает уникальным свойством: это свод бытовых документов, уподобившихся эпистолярному роману почти до неразличимости, не ставших таковым. Переписка Н.В. Станкевича не пополнилась ни одним отрезком речи, который не принадлежал бы ей изначально. Вместе с тем «Переписка» не только приобщилась к литературной роли, закрепившейся за романом, но и приобрела некоторые черты романной жанровой структуры.
Любопытно совпадение: переписка Н.В. Станкевича обнаруживает в себе некую близость к художественным принципам первого романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди». Постараемся объяснить это сходство, воспользовавшись понятием стаффажа.
Стаффаж - это термин живописи, образованный от немецкого staffieren — убирать; стаффажем называют небольшие фигуры людей и животных в пейзажной живописи, служащие для оживления вида, включенные в живописную композицию как ее второстепенные элементы12. При перенесении этого понятие в теорию литературы, точным будет определение стаффажа как введении лица, детали,
обстоятельств, не обязательных для развития фабулы, сюжета, конфликта, но присутствующих в картине как само собою разумеющаяся часть реальной обстановки, реального человеческого окружения и т.д. Под пером художника стаф-фажная фигура легко наполняется смыслом, отменяющим в какой-то мере ее необязательность. Стаффажная деталь может быть свидетельством рутинности быта, пошлости вкусов или, напротив, привлекательной простоты, безыскусственности. Стаффажное лицо, может вызвать к себе уважение или, наоборот, презрение, или жалость, но эти впечатления остаются локальными, хотя суммарно могут значить много.
Основание для использования термина живописи в литературоведческом анализе связано с наблюдениями В.Б. Шкловского, относящими к субъектной организации романа Достоевского. Сопоставляя «Бедных людей» сочинениями других авторов о Петербурге и петербуржцах, написанными до романа Достоевского, В.Б. Шкловский находит, что писатель «изменяет масштабность образа». Он «укрупняет Девушкина, занимает им весь первый план произведения. Уже не бедный чиновник ходит у цоколей зданий и постаментов, нет, они сами стали далеким фоном жизни бедного чиновника» [284, 168].
Достоевский не был первооткрывателем того принципа подхода к человеку, о котором пишет исследователь. Вспомним «регистратора» Евгения из пушкинской поэмы. Насколько ниже его место на служебной лестнице в сравнении с Макаром Алексеевичем: тот — титулярный советник, чиновник 9-го класса, а пушкинский герой числится по 14-му классу. Он тоже занимает первый план произведения и оказывается равноправным лицом рядом с историческим деятелем, чья статуя установлена на постаменте, - с самим Петром Великим. Но и Евгений — не рядовой представитель самого мелкого чиновничества: он отпрыск знатного рода и настолько сохранил в себе сознание самодостаточности, что «не тужит ни о почиющей родне, ни о забытой старине», и жаждет получить от жизни не успехи и выгоды, а «независимость и честь».
Центральные персонажи физиологических очерков - петербургский дворник, петербургский шарманщик - сосредоточивают на себе взоры художника и
читателя, но эти литературные типы лишены индивидуальности, они - подобие средних величин. Между тем, Макар Алексеевич Девушкин — личность неповторимая, он живое свидетельство тому, что неповторимость может быть открыта в любом из его собратий по социальному положению. Общеизвестно замечание М.М. Бахтина о том, что Достоевский представляет человека «в точке несовпадения с самим собою» [114, 234]. В. Шкловский сказал о конкретной форме, какую в данном случае (и во многих последующих случаях) приняло открытие «точки несовпадения». Форма - смена масштаба в вариантах, достаточно полно была известна и ранее; далеко не всегда эта форма ведет к «открытию точки несовпадения», обнаруженному и выразительно отмеченным М.И. Бахтиным. По-видимому, такое осуществление смены масштабов прежде не было знакомо литературе.
Термин, относящийся к живописи, позволяет вникнуть в сущность прослеженной В, Шкловским трансформации. Функция стаффажной фигуры - обозначить масштаб; с другой стороны, стаффажная фигура обозначает собою фон, на котором выделяется нечто первостепенно значительное. Подобное явление возникает и в словесном искусстве: и здесь есть фигуры, значимые как фон, и вместе с тем значительные в своей индивидуальности. Типы и характеры, до некоторой поры традиционно принадлежавшие фону, в какой-то момент могут оказаться в центре внимания, предстать перед читателем как индивидуальности, требующие неоднозначного восприятия и объяснения. Такой сдвиг находит объяснение в одном из общих принципов литературного развития. Ю.Н. Тынянов в цитированной выше статье «Литературный факт» дает четкое описание действия этого принципа. «Стареющий современник, переживший одну — две, а то и больше литературные революции, заметит, что в его время такое-то явление не было литературным фактом, а теперь стало, и наоборот, то, что сегодня литературный факт, то назавтра становится простым фактом быта, исчезает из литературы» [273, 157]. «В эпоху разложения какого-нибудь жанра он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин всплывает в центр новое явление» ]21Ъ, 258].
По существу В. Шкловский сказал, что лица, подобные Макару Девушкину из «Бедных людей», прежде переносились в литературное произведение или, по крайней мере, в петербургский текст, в качестве стаффажных персонажей и в этом отношении были подобны условным человеческим фигурам, изображенным в соседстве с каким-либо сооружением, дабы зритель получил ясное представление о масштабе постройки. Былое стаффажное изображение становится центральным образом романа и несет в себе неохватно широкое гуманистическое содержание, что впервые увидел и показал в романе Достоевского В.Г. Белинский.[96; VIII, 122]. Нам открылась новая сторона действия закона, уловленного Ю. Тыняновым: то, что было на периферии, переместилось в центр.
Вернемся к переписке Станкевича. Его письма, взятые порознь, - не более как свидетельство жизни небогатого провинциала, учившегося в Москве, снискавшего известность и авторитет в очень узком кругу московского студенчества 1830-х годов, печатавшего сочинения, далеко не первостепенные в литературной жизни. Незаурядность личности сказывается едва ли не в каждом из писем, но те же письма дают знать, что духовная и интеллектуальная работа Станкевича протекает в узком кругу и несоизмерима по масштабам с деятельностью людей, известных всей России, будь то государственные сановники или знаменитые литераторы. Соединенные в целостный свод и напечатанные и тем самым обнаружившие в себе качество художественного произведения, эти же письма читаются как исповедальное и учительное слово человека, отразившего в себе сущность нравственного развития целого поколения. Перед нами явление весьма сходное с ролью Макара Девушкина, о которой писал В.Б. Шкловский.
Цель диссертационного исследования - охарактеризовать значимость ан-ненковского издания переписки Станкевича для современников и потомства, исходя из парадокса, явленного этим изданием: свод частных писем воспринимается и оценивается как факт литературы. Имеем в виду, что такая характеристика позволяет существенно уточнить знания о стимулах и направленности деятельности исторически значительных участников общественного движения 60-х годов XIX века (Герцена, Добролюбова и др).
Объект исследования
Как уже было отмечено, основным объектом нашего исследования служил анненковское издание переписки Н.В. Станкевича. К объектам исследования мы имеем основание причислить повторное издание «Переписки» (1914), статью Н.А. Добролюбова о Станкевиче и некоторые другие отображения этой замечательной личности в сочинениях и высказываниях современников. В полном объеме охватить легенду о Станкевиче мы, разумеется, не в состоянии уже потому, что «станкевический текст» в отличие от его ядра - «Переписки», не умещается в четкие границы. Достаточно строгой представляется нам формулировка: объект исследования - изданная П.В. Анненковым переписка Н.В. Станкевича вместе с ближайшим контекстом.
В задачи исследования входит:
Рассмотреть композицию переписки, ее тематику и отметить различия между позициями двух публикаторов (П.В. Анненкова и А.И. Станкевича);
Охарактеризовать четыре разряда диалогических отношений, отражаемых и порождаемых перепиской Н.В. Станкевича:
а) диалог автора писем с его адресатами;
б) внутренний диалог в тексте писем (самооценки, самоотрицания и т.п.);
в) неизбежно возникающий, хотя и не выраженный в форме непосредствен
ного общения, диалог между публикатором и автором (П.В. Анненков и
Н.В. Станкевич);
г) отношения между публикацией (биографией и сводом писем, взятыми
совместно) и читателями. В состав рецензии читателей мы включаем литератур
ную критику и довольно многочисленные изображения личности Станкевича в
мемуарной и иной литературе;
Уяснить жанровую природу, приобретаемую перепиской в публикации Анненкова: проследить, в какой мере и в каких отношениях свод писем уподобляется роману.
Определить в общих чертах место и значимость анненковской публикации в «станкевическом тексте».
Актуальность исследования обусловлена, в первую очередь, насущной потребностью изучать состояние человеческого общения. Интерес к подобному изучению - неотъемлемая часть филологии последнего десятилетия. Внимания требуют многообразие форм общения, их взаимодействие, взаимодополнение и трансформации. С этим связан и нарастающий интерес литературоведения к способности переписки стать литературным фактом. Переписка Станкевича, претерпевшая такую трансформацию (это убедительно подтверждено появлением статьи Н.А. Добролюбова), до сих пор не была еще предметом специального научного исследования, и нуждается в нем.
Научная новизна работы состоит в обращении к такому изучению и в том, что диссертационное исследование позволяет уточнить наши представления о программах и позициях создателей других частей «станкевического текста» (Н.А. Добролюбова, И.И. Панаева и др.).
Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что она расширяет и уточняет знания об исторической изменчивости состава литературы, дополняя общие положения, обоснованные в свое время Ю.Н. Тыняновым, рассмотрением новых фактов и указывая на специфику этих фактов.
Материалы исследования используются в лекциях по курсу истории русской литературы XIX века, в спецкурсах, в спецсеминарах, посвященных проблемам эпистолярия, проводимых автором диссертации, что служит подтверждением практической значимости предпринятого труда.
Апробация материалов диссертации. Основные положения диссертации изложены в докладах на Межвузовской научной конференции литературоведов Поволжья (Стерлитамак, 1990), на научно-практической конференции молодых ученых и специалистов (С.-Петербург, 1994), на Научной конференции молодых ученых и специалистов (Орск, 1995) , на Межвузовской научной конференции «Творчество Н.В. Гоголя. Истоки, поэтика, контекст» (С.-Петербург, 1997), на Научно-практической конференции Актуальные вопросы филологии» (Уфа, 2000), на Межвузовской конференции «Актуальные проблемы изучения филоло-
гических дисциплин в ВУЗе и школе» (Самара, 2003). Ключевые положения работы изложены в 11 публикациях по теме диссертации и материалах конференций.
Объем диссертации составляет 160 страницы. Исследование состоит из настоящего введения, трех глав, заключения, примечаний и списка использованной литературы, содержащего наименований, примечаний, и трех приложений.
Во введении обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи исследования, определяется степень его актуальности и научной новизны, характеризуется методологическая основа и принципы, определившие концепцию исследования.
В первой главе «Два издания переписки Н.В. Станкевича» сопоставляются два издания переписки Станкевича, исследуются мотивы обращения к поколению людей 30-40-х годов, сюжет и фабула «Переписки» (1857).
Во второй главе «Переписка» (1857) как литературное произведение» обосновывается предлагаемая в исследовании трактовка переписки: свод писем, бытовых документов, которая трансформируется в литературный факт и приобретает структуру подобную романной. Феномен трансформации документа — посредством художественной образности в литературный факт, романная структура, приобретенная сводом писем Станкевича в публикации 1857 года.
Третья глава «Легенда о Станкевиче» посвящена образу Н.В. Станкевича в интерпретации А.И. Герцена и ряду отражений личности Станкевича в литературном творчестве его современников (И.И. Панаев, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой).
Заключение содержит выводы, позволяющие связать наблюдения и выводы содержащие в диссертации, с некоторыми современными научными представлениями о литературном произведении, литературном процессе и о специфике читательского восприятия художественного текста.
Композиционная структура двух изданий « Переписки» Н.В. Станкевича
И в журнальной публикации, и в книге П. В. Анненкова биография Станкевича и его переписка разделены на три периода: детство и студенческая жизнь, 1834-1837 гг. (до отъезда за границу), жизнь за границей и смерть. Заглавия соответствующих разделов приведены в приложении I. Все материалы, включенные во вторую часть книги П.В. Анненкова, расположены по хронологическому принципу, поэтому письма перемежаются с дневниковыми записями Николая Владимировича и его статьями (см. приложение I.) А.И. Станкевич иначе распределил письма своего дяди: каждому адресату он отвел особый раздел (см. приложение II). В публикации П.В. Анненкова письма, философское рассуждение, дневники Станкевича сведены вместе, потому что все они представляют собой документы самовыражения. Биографический очерк поясняет их. В журнальной публикации очерк был предварен сообщением: «Считаю нелишним предупредить читателя, что письма Николая Владимировича Станкевича, послужившие главным материалом (курсив наш - О.М.) для этой статьи, приготовляются к изданию» [13, 441].
Подготовке к печати писем Н.В. Станкевича предшествовала работа Анненкова над изданием сочинений А.С. Пушкина. По мнению М.О. Чудаковои, за пушкинское наследие Анненков взялся «со страхом и неуверенностью в своих силах, восполняемой глубокой убежденностью в литературной и историко-культурной необходимости этого труда. ... Анненков задумал сопроводить сочинения не биографическими "выносками" к каждому тому, как это предполагалось вначале, а первым опытом полной биографии поэта» [281, 185]. «Впоследствии,- замечает М. Чудакова,- академик Л. Майков скажет: "Биограф придавал огромное значение старинной журнальной полемике и справедливо искал в ней указания на то, как постепенно слагалось в русском обществе воззрение на поэтическую деятельность Пушкина". Сейчас этот подход кажется естественным и необходимым для историка литературы; в середине прошлого века он был далеко не так привычен и говорил о высоком уровне историко-литературного сознания начинающего биографа. "Рядом со старыми журналами, - пишет Л. Майков, - другим важным источником служило для Анненкова живое предание"» [221, 6] были связаны для биографа особые трудности. П.В. Анненков приступил к работе над жизнеописанием Пушкина в то время, когда основания такой работы были еще никому не известны, когда память о Пушкине казалась многим его друзьям их личным достоянием и вызывала настороженность к тому, кто претендовал на нее как на общенациональный фонд. Сама задача возможно более полного собирания всего, когда-либо написанного или сказанного поэтом, еще подвергалась сомнению и вызывала у некоторых современников опаску и нарекания. Так, один из ближайших друзей Пушкина, С. Соболевский, писал М.П. Погодину:1 "Анненкова я тоже знаю, но с сим последним мне следует быть осторожней и скромней, ибо ведаю, коль неприятно было бы Пушкину, если бы кто сообщил современникам то, что говорилось или не обдумавшись, или в минуту негодования в кругу хороших приятелей"» [там же].
Как отмечает М.О. Чудакова, Анненков приближается к тому пониманию природы словесного текста (и художественного, и иного), какое более века спустя обосновал М.М. Бахтин: «Событие жизни текста, то есть подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов ... и создаваемого обрамляющего контекста. ... Это встреча двух текстов: готового и создаваемого реагирующего текста, - следовательно, встреча двух субъектов, двух авторов
Увидеть и понять автора произведения - значит, увидеть и понять другое, чужое сознание и его мир, то есть другой субъект (курсив наш — О.М.). При объяснении только одно сознание, один субъект; при понимании - два сознания, два субъекта» [117, 303, 308].
Стремление, создавая биографию замечательного или великого деятеля, представить его в диалогических отношениях с современностью было не чуждо и Анненкову: «Он,- пишет М.О. Чудакова,- был первым в России, кто решился строить "биографию исторического человека" с таким широким захватом, вводя в нее материал и мемуарный, и исторический, используя текстологические разыскания» [13,86]. М.О. Чудакова отмечает, что у П.В. Анненкова не было образцом, которым он мог бы следовать в работе над пушкинской биографией. В высокой степени наделенный нравственным тактом и историческим чувством первый биограф Пушкина на практике вырабатывал и общие принципы и конкретные подходы к научной биографии писателя. Он делал это в те годы, когда не ставилось даже вопроса о том, каким должно или может быть описание жизни великого деятеля литературы, жизнь которого памятна многим современникам и самого Пушкина, и Анненкова.
Логика работы вела Анненкова к мыслям о биографии эпохи, об обязанностях очевидца по отношению будущим поколениям, о чем писала М.О. Чудакова. Уже в 1856 году, собирая материалы для биографии Станкевича, Анненков просил Боткина2 прислать воспоминания об "историческом семействе" Бакуниных и, не сдержавшись, восклицал: "Боже мой! Какой клад объективная летопись, написанная, однако ж, очевидцем - и тогда, как уже личность совершенно высвободилась из событий, отношений и привязанностей. Вы, может быть, не поверите, что одна мысль о такой летописи дает мне какой-то род преждевременного наслаждения"» [13,186].
Биография-предисловие ориентирует читателя воспринимать то, что напечатано далее, (будь то собрание сочинений классика или собрание писем замечательного современника), как историю развития личности, засвидетельствованную значительно более разносторонне в самом собрании сочинений или собрании писем. Расположение частей в издании Анненкова может навести и на обратную мысль: что переписке отведена роль комментирующего приложения. Так судил в 1914 году А.И. Станкевич, уведомляя читателей нового издания: «Николай Владимирович Станкевич стал известен русской публике благодаря тем выдержкам из его писем к Белинскому, Грановскому3, Ефремову4, Красову5, Неверову6 и Фроловым7, которые напечатаны в приложении (курсив наш — О.М.) к его биографии, написанной П.В. Анненковым, хотя и с большими пропусками, сокращениями, ошибками, как это оказывается теперь при сличении с подлинниками» [3, III].
Фабула и сюжет «Переписки»
В своде писем Станкевича, увидевшем свет в анненковском издании, прослеживаются сюжетные линии, очень схожие с литературными.
Анненкову и другим исследователям словесности (его современникам) затруднительно было бы обнаружить это сходство: научно обоснованной теории сюжета в середине XIX века не существовало. Она сформировалась в трудах А.Н. Веселовского и его школы, исследовавшей роль сюжета в литературном процессе. И только когда функции сюжета стали изучать в литературном произведении и в читательском освоении творений словесного искусства, актуальной стала проблема соотнесенности сюжета и фабулы. Эту проблему с полной определенностью поставили исследования формальной школы. В 1920 - е годы возникла точка зрения, наиболее четко отраженная в формулировке Б.В. Томашевского: «совокупность событий в их взаимной внутренней связи ... назовем фабулой» [327, 180]; «художественно построенное распределение событий в произведении именуется сюжетом произведения» [327, 181-182]. Это первоначальное определение Б.В. Томашевского было, пожалуй, излишне прямолинейным и требовало уточнений. При строгом подходе и фабуле, как определяет это понятие Б.В. Томашевский, свойственно «художественно построенное распределение событий»: как правило, фабульные события вымышлены, но даже если они полностью перенесены из реальности, то и тогда в их организации воплощена и проявлена авторская воля: «составляющие ее [фабулы — О.М.] факты извлечены из реальной действительности в согласии с замыслом художника» [327, 31].
По справедливому замечанию В.Е. Хализева, «в современном литературоведении преобладает значение термина "сюжет"» — «как совокупности событий, воссозданных в произведении» [328, 215]. Ученый находит, что такое толкование категории «сюжет» восходит к XIX веку. Восходит у Хализева - не значит повторяет собой: необходимо различать сюжет и фабулу, и такое различие не может быть отвергнуто. Сошлемся на Г.Н. Поспелова. Автор известного учебника по теории литературы категорически отвергая предложенное Б. Томашевским смысловое наполнение терминов сюжет и фабула, все же настаивает: «необходимо терминологически различать порядок событий, в каком они произошли в жизни персонажей, ... и порядок рассказывания о них» [325, 104]. Однако, в отличие от Б. Томашевского, Г. Поспелов в первом случае говорит о сюжете, во втором — о фабуле. Современные исследователи, пишущие о литературе, как правило употребляют эти термины в трактовке Б. Томашевского: они именуют фабулой порядок событий, как они совершались в жизни персонажей, а сюжетом - порядок рассказывания.
Мы разделяем трактовку категорий сюжета и фабулы, учитывающую, наряду с подходом формальной школы, отправные положения теории автора, обоснованные М.М. Бахтиным и детально разработанные Б.О. Корманом и его школой. Согласно учению М. Бахтина, термином автор в строго теоретическом смысле означен воображаемый носитель системы сознания, выражаемого произведением в целом, - объемлющего изображающего сознания. Автор (в этом понимании) никак не заявлен в тексте: в противном случае он был бы носителем одной из систем изображаемого сознания. Понимание природы сюжета и фабулы, которому мы следуем, разработано в трудах даугавпилсских научных конференций по проблемам сюжета. Эта концепция предлагает видеть в фабуле цепь событий, условно принимаемых в качестве совершавшихся реально, а в сюжете - те же события, представленные в единстве с движением авторской мысли [198, 13]. Такое понимание природы фабулы и сюжета не расходится с определением, принадлежащим Б. Томашевскому, но дополняет его: движущаяся авторская мысль в художественном произведении предстает как господствующий фактор упорядоченности. Согласие с авторами даугавпилсского сборника не означает расхождения и с точкой зрения В.Е. Хализева: воссоздание событий, о котором он говорит, совершается в акте авторской мысли.
В своде писем Станкевича (в анненковском издании) просматривается подобие фабулы и сюжета. Фабулу составляют известия о том, что наблюдают автор и его адресаты. Фабула то, с чем они соприкасались, во что вовлечены, что испытывают, переживают, продумывают. Вместе с тем в письмах Станкевича высказано многое вне прямого называния. Эта потаенная сторона писем заведомо принадлежит их содержанию, то есть развивающейся авторской мысли.
Примером последнего может служить обращение к Грановскому в письме от 8 мая 1838 года: «Чадо, Тимофее!»[2, 456]. Шутливое именование адресата соответствует обращению апостола Павла к Тимофею: «Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца, и Христа Иисуса, Господа нашего»16, в другом месте — «Тимофею, возлюбленному сыну: благодать, милость, мир от Бога Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего»17. О том воздействии, которое оказали послания св. Павла на формирование мировоззрения поколения 1830-х годов, говорил Герцен в статье «Капризы и раздумья» (1843-1847 гг.): «Апостол Павел не говорит, что любовь справедлива, а говорит, что она милосердна, долготерпелива. Когда в тяжелую, горькую минуту раскаяния я бегу к другу, я вовсе не справедливости хочу от него. Справедливость обязан дать квартальный, ежели он порядочный человек; от друга я жду не осуждений, не ругательства, не казни, а теплого участия и восстановления меня любовью, от него я жду, что он половину моей ноши возьмет на себя, что он скроет от меня свою чистоту» [82; I, 101].
Для читателя, не знающего о тех настроениях, которые владели и Станкевичем, и Грановским, и Герценом, отсылка к Новому завету в дружеском письме не более как непринужденный стилистический оборот. Для адресата эти же два слова - напоминание об убеждениях, выношенных и высоко ценимых. Для читателей анненковской публикации те же слова - указание на присутствие такой системы убеждений у автора писем и тем самым на значимость евангельского контекста в духовном опыте Станкевича и его друзей. Если в ближайшее время будет переиздана переписка Станкевича18 - то цитата из Герцена окажется необходимым комментарием к приведенному письму.
Смысл, улавливаемый читателем в обращении Станкевича к Грановскому, принадлежит, говоря словами М.М. Бахтина, «обымающему» сознанию и действует в составе письма как сюжетообразующий фактор. Такого рода подобие сюжету и фабуле постоянно возникает в частных письмах, но, как правило, не вырастает в целостный смыслопорождающий ряд. В переписке Станкевича такой ряд образуется. В этом читателю позволяет убедиться публикация Анненкова, тогда как композиция 1914 г. оставляет в тени сюжетно-фабульный аспект переписки Н.В. Станкевича.
О путях и стадиях превращения переписки из бытового документа в литературный факт
Во всем своде переписки Станкевича путевые письма в наибольшей мере литературны. Это не случайно. Путевые записки, заметки, дневники, письма с дороги, письма с чужбины или из дальних краев собственного Отечества, наполненные впечатлениями от незнакомой жизни, всегда тяготеют к уподоблению литературному сочинительству. Непревзойденный пример этому Карамзинские «Письма русского путешественника». Давая такую оценку книге молодого Карамзина, учтем мнение В.А. Михельсона о «Письмах» Н.М. Карамзина: эта книга -скорее «описание истории души молодого человека, нежели дневник»[237, 15]. «Путешествие» А.И. Радищева, по словам того же исследователя, «собрало как в фокусе все лучшее, что было создано XVIII веком, являясь итогом эпохи, позволяет представить суть не только философских, политических, но и эстетических процессов века»[237, 15]. Ориентация на нормы литературного сочинительства -тенденция, которая, по наблюдению Ю.И. Тынянова, вводила письмо в состав литературы в первое десятилетие XIX века,- отчетливо и естественно сохранялась и в последующие десятилетия и оказалась очень органичной в контексте рефлектирующих поисков Станкевича.
Три сферы поведения: странствие, переписка, литературное сочинительство - издавна сходились близко, плотно, взаимопроникающе. XVIII век - век путешествий и век письма - усилил это схождение, что выпукло отразилось в массовой эпистолярной культуре. Широко распространявшиеся «Письмовники» предлагали шаблоны письма для практических нужд, и включенные в них образцы становились порою неотличимыми от фрагментов эпистолярного романа. Это сходство еще более усиливалось, когда в роман или в иное воссоздание письма проникали элементы пародии. О распространенности и продуктивности жанра путешествия писал В.Б. Шкловский: «путешествие во времена Пушкина было очень распространенным жанром, может быть, даже несколько архаичным, в то же время постоянно обновляемым» [283, 21]. «Эволюционируя, жанр путешествий в XIX веке продолжает свое существование как "пародийное путешествие", либо теряет свои литературные черты, приходит к типу путевых заметок»[256, 63]. Идея путешествия входила в контекст эпохи. Можно игнорировать «литературу "путешествий" как жанр, но нельзя "отмежеваться" от того объемного "пласта", из которого вышла литература " путешествий", эволюционировала, трансформировалась, и, наконец, определила место другому жанру - "письму из-за границы"» [там же]. Пишущий письмо, особенно, если он не позволяет себе воспроизводить эпистолярные клише, в той или иной мере уподобляется сочинителю, создающему художественный образ письма. Если это стремление достаточно интенсивно, то в гипертексте переписки возникает контекст образотворчества, что и обеспечивает возможность вплывания письма в литературу. Ситуация путешествия обостряет эту метаморфозу. Перерастание письма в литературное произведение становится разносторонним, если сходятся три сферы постижения мира: а) самопостижение личности, в) постижение людей вокруг себя, с) постижение страны как целого. Именно эти запросы обуславливали и повышенный интерес Станкевича, его друзей и многих их современников к Шеллингу.
Названная выше триада обеспечила и взлет эпистолярной культуры первой трети XIX в. Первые опыты "беседы на расстоянии" были опробованы в кружках, альбомных миниатюрах, в журнальных статьях и записках издалека. В параллель этим опытам возникает традиция нового концептуального осмысления путешествия по родной стране: оно воспринимается как «заново совершаемое открытие того, что знакомо с детства»[58, 399].Это осмысление находит воплощение в дорожных записках (как у Радищева) и проникает в частные письма. Замечательный пример тому - письмо М.А. Бакунина к Н.В. Станкевичу от 10 декабря 1835 года из Тверской губернии. М.А. Бакунин сообщает: «Я две недели молчал ... я путешествовал по России, ты улыбнешься при этой громкой фразе, но рассуди хорошенько и ты увидишь, что проехать Бежецкой и Корчевской уезды Тверской губернии все равно, что проехать всю Россию. Разнообразие только в материальности - в духовном же отношении большой разницы быть не может. Недостаток жизни общий знаменатель, числители только различны» [58, 43]. Человек открывает в привычном нечто требующее внимания (Бакунин - житель Тверской губернии), прежде не замечавшееся, в сущности - незнакомое и при этом отнюдь не чужое. В процитированном письме М. Бакунина можно увидеть начальную стадию того отношения к действительности, которым наделен герой целого ряда русских литературных путешествий, жанра, достаточно давно возникшего, но особенно прочно укоренившегося в гоголевский период, на который приходится литературная (в том числе эпистолярная) деятельность Станкевича: характеристика времени, задающего направление мысли путешествующего по родной стране дана в работе Зарецкого: «Состояние жизни страны и нации постигается как кризисное - требующее безотлагательных перемен, сопряженных с исторической альтернативой - с необходимостью выбора одного из, по крайней мере, двух мыслимых путей дальнейшего развития. Подобное кризисное состояние путешественник обнаруживает и в себе самом. Личность и нация становятся в художественной картине действительности равномасштабны: духовный кризис личности и кризис в историческом бытии нации имеют одно и то же содержание, и разрешить их может одно и то же действие, уверенно предвидимое, или ожидаемое без полной уверенности, или взыскуемое без убежденной надежды»22.
Подобный взгляд, в разных вариантах знакомый многим современникам Станкевича, нашел выражение в достаточно далеких от жанра литературного путешествия сочинениях публицистов и философов. Станкевич и участники его кружка в этом отношении были далеко не одиноки (вспомним Гоголя, Герцена, Хомякова, Чаадаева).
Процитированное выше письмо Бакунина свидетельствует об особом процессе: происходит перетекание опыта сочинительства как самовыражения из сферы литературной в сферу эпистолярную и обратно. Это явление хорошо знакомо средневековой литературе, когда один и тот же текст перетекал из бытовой семейной сферы в литературную (письмо Владимира Мономаха к князю Олегу, послание Филофея на звездочетцев, письма Аввакума). Как выяснилось, оно не чуждо новой литературе. Достаточно указать на зальцбруннское письмо Белинского Гоголю.
Сращенность путешествия и самопознания и вместе с тем сращение опыта эпистолярного (бытового) сочинительства и сочинительства литературного очевидны уже в цитированном нами письме Станкевича к Красову о Москве и Петербурге. Оно представляет собою одно из многих литературных противопоставлений двух столиц, в числе которых статьи Гоголя, Белинского, Герцена. У Станкевича в этом противопоставлении формируется (хотя еще не сформулирован) взгляд, принадлежащий историософии. Петербург - город единственный в своем роде, потому что он целенаправленно создан новой русской культурой; Москва -единственна в своем роде, ибо она создалась стихийно как составная часть национальной культуры и стала своеобразным ее зеркалом. Два «портрета» городов возникли в письме, и их параллель - контраст уподобляет письмо Станкевича плодам литературного сочинительства: Петербург - строго упорядоченное и отчетливо зримое графическое изображение, Москва - многокрасочная картина кипящей жизни И концепция, и конструкция побуждают уверенно отнести строки из письма Красову к литературным противопоставлениям двух столиц.
Н.В. Станкевич в восприятии и оценке современников. (И.И. Панаев, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой)
Кружку Н.В. Станкевича - группе молодых людей, едва ли насчитывающей в пору своего расцвета десяток деятельных участников, - принадлежала, как известно и как подчеркивали многие современники, первостепенная роль в умственной жизни своей эпохи. Прочно войдя в память отечественной культуры, представленное в ней многими документальными свидетельствами и художественными отражениями, это содружество приобрело облик некой микросферы, вводящей в права две взаимоотрицающие перспективы. В этой микросфере человек приобретает энергию самоутверждения гуманной творческой индивидуальности и та же микросфера погружает обессиленного податливого человека в обезли-ченность.
Трагичность обозначающейся, антитезы ясно обнаруживается в тургеневских «Записках охотника» - в «Гамлете Щигровского уезда». Герой повести пережил тягостную перемену: в столице его умственные интересы и нравственные побуждения определяли мнениями и помыслы, которые складывались в пространстве замкнутого кружка. Перебравшись в провинцию, вернувшись под родной кров, он оказался в пространстве безграничной среды. Теперь кружок, некогда бывший для него возвышающим содружеством, становится в глазах тургеневского героя «заколдованным кругом», заслуживающим проклятия. «Кружок — да это гибель всякого самобытного развития. Кружок — да это пошлость и скука под именем братства и дружбы; в кружке, благодаря праву каждого приятеля во всякое время и в всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе... О кружок! Ты не кружок-ты заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек!» [93,224].
Можно заметить: идет ли речь в «Гамлете Щигровского уезда» о Н.В. Станкевиче или о каких-либо бесцеремонных и самодовольных молодых людях, взявшихся подражать Станкевичу? Можно было бы объяснить ситуацию тем, что Василий Васильевич настоящего, достойного кружка и не видел... То, что произошло с тургеневским героем в родном краю, побуждает отказаться от таких предположений. Новый статус не позволяет щигровскому Гамлету ощущать себя иначе, чем некой обезличенной единицей - обладателем роли, которой он прежде не мог бы за собой заподозрить.
Рассказ о том, как Василий Васильевич убедился в собственной ничтожности, проливает свет и на развитие сюжета в романе «Рудин»2. Василий Васильевич вел разговор с исправником о претенденте на должность губернского предводителя. «Я, признаюсь, глядел на господина Орбассанова свысока. Исправник посмотрел на меня, ласково потрепал по плечу и добродушно промолвил: «Эх, Василий Васильевич, не нам бы с вами о таких людях рассуждать, - где нам? ...
Знай сверчок свой шесток». — «Да помилуйте, - возразил я с досадой, - какая же разница между мной и господином Орбассановым?». Исправник вынул трубку изо рта, вытаращил глаза, - и так и прыснул. «Ну, потешник, - проговорил он, наконец, сквозь слезы, - ведь экую штуку выкинул...» ... Завеса спала с глаз моих» [93,231].
Герой повести И.С. Тургенева обезличивается дважды: первый раз — назвавшись Гамлетом, другой — ограничив свой гамлетизм Щигровским уездом. Василий Васильевич воспользовался понятным собеседнику обозначением замены: он заявил в сущности об отказе от индивидуальности, причислил себя к множеству людей, которым имя шекспировского героя служит своего рода этикеткой, обозначающей принадлежность к неисчислимому множеству одинаковых личностей. Различия меж личностями, входящими в множество, несущественны для их самоопределения внутри среды. Упоминания уезда позволяет дополнить возникшее представление: и в других уездах есть свои Гамлеты, и все, как говорится, на одну колодку. В третий раз обезличенность Василия Васильевича становится очевидной в эпизоде с зеркалом, когда он «подглядел сконфуженное лицо и, медлительно высунув язык, с горькой насмешкой покачал головой» [93, 231]. Зеркало лишь подчеркнуло неоригинальность человека, а реакция самого тургеневского героя молчаливое, покорное согласие с отсутствием индивидуальности.
Исповедь перед случайным собеседником позволяет увидеть в Василии Васильевиче натуру незаурядную, стремящуюся выявить это свое качество в яркой, открытой дружественному общению индивидуальности. Развитие ее индивидуальности, открылось общению указывает на осуществление возможности, дающей себя знать в незаурядности чувств, страстей, стремлений, умственных потребностей, наконец поступков, но Василию Васильевичу доступно лишь неумение ужиться со средой.
Таким же неумением окрашен весь жизненный путь другого тургеневского героя - Рудина. Это открывается в рассказе Рудина о его житейский мытарствах, включенном в эпилог романа.
Н.А. Добролюбов назвал Рудина «вносителем новых идей в известный круг жизни» [98; VI, 100]. В справедливости этих слов трудно усомниться. Дмитрий Рудин поразил Наталью Ласунскую, во-первых, заявлением, о его жизненных нормах: надо «дать себе отчет в потребностях, в значении, в будущности своего народа», чтобы человек мог понять, «что он должен сам делать» [93,26]. При всей искренности и выстраданности исповеди Василия Васильевича ничто в «Гамлете Щигровского уезда» не указывает на понимание героем того условия личной деятельности, которое столь прочно освоено Рудиным: хотя он сам довольно смутно понимает потребности своего народа и собственные потребности, Рудин знает, что и те и другие можно постигнуть только совместно.
Несомненно, увлекла Наталью и рассказанная Рудиным скандинавская легенда. Утверждение о том, что «человеческая жизнь - быстра и ничтожна, но все великое совершается через людей», что «сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости: в самой смерти он найдет свою жизнь, свое гнездо...», вполне отлично может быть принято Василием Васильевичем, не при случайной ночной встрече с незнакомым человеком в малознакомом доме, (а эта ситуация исповеди Щигровского Гамлета) вряд ли это утверждение можно понять только как опровергнутую жизнью иллюзию. Для Рудина его толкование скандинавской легенды указывает на смысл действия, которое человек может совершить, если постигнет собственные потребности и потребности своего народа.