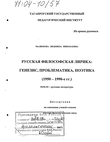Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Формы внешней и внутренней реальности 19
1.1. Особенности создания лирической концентрации 20
1.2. Семантика художественного образа 30
1.3. Специфика сюжетосложения 40
1.4. Рекомбинация 51
ГЛАВА II. Равенство сознания писателя и читателя 63
2.1. Особенности тропеической структуры 64
2.2. Лирическая экспрессия 73
2.3. Специфика композиционного строя 85
2.4. Коммуникативный акт 99
Заключение 117
Библиография 124
- Особенности создания лирической концентрации
- Специфика сюжетосложения
- Особенности тропеической структуры
- Специфика композиционного строя
Введение к работе
В русской поэзии рубежа XX и XXI веков сложилась особая ситуация утраты ценностных ориентиров, характеризующих литературное поле как целое. Речь идет не просто о сосуществовании разнородных по эстетической структуре явлений, но об исчезновении поэтологических координат, в системе которых они могли бы быть соизмерены. Эпоха рубежа, таким образом, оказывается классической эпохой "промежутка" (Ю. Тынянов), временем, когда перестают действовать инерционные силы литературного процесса.
Особую актуальность в таком контексте приобретает обращение к русской поэзии 1950-1980-х годов, количественное увеличение и гибридизация различных форм традиционности в которой и привело в конечном итоге к размыванию историко-литературной перспективы. Представление о литературном процессе, состоящем из разного рода "отдельностей" (Д. Лихачев) видится как нельзя более соответствующим этому времени интенсивного освоения культурных контекстов, складывания ряда сложно соотнесенных концепций творчества.
Представляется, что совмещение в литературной современности гетеро-хронных художественных явлений, обусловленное исчезновением границ между "официальной" и "другой" культурой, может быть во многом прояснено отсылкой к оттепельной эпохе. Главную сложность при этом представляет видимое усложнение литературного поля, предопределившее отсутствие работ обобщающего плана, посвященных русской поэзии последних десятилетий.
Проблема, в настоящее время выходящая на первый план в изучении рус-. ской поэзии второй половины XX века, есть проблема объективности, независимой от превалирования в литературной науке тех или иных мировоззренческих предпочтений. От литературоведения требуется, во-первых, "герменевтически корректное позиционирование исследователя, при котором его объяснительная парадигма не служит тотальным основанием интерпретации и оценки", и, во-вторых, "герменевтически корректная историзация объекта изучения, при котором актуализируются в первую очередь его собственные дискурсы и контексты" (Лакербай 2002, 228-229). Выработка научных позиций, соответствующих этим требованиям, оказывается сопряжена с определенными трудностями.
С одной стороны, труднопреодолимым соблазном остается привычная апелляция к социальному заказу, в ущерб специфике литературных явлений объясняющему все многоцветье культурного поля разнообразием эстетических реакций на одну жизненную проблему (Зайцев 2000). С другой стороны, обрела признание попытка утвердить в качестве основополагающего представление о всепроникающей антиномичности культурного поля, о сосуществовании в нем взаимонепроницаемых художественных систем (Кулаков 1999).
Стремление избежать крайностей побудило литературоведческую науку искать опору в том опыте самоидентификации, который заложил основы для нового витка развития русской поэзии. В итоге в качестве безусловной точки отсчета было принято то или иное - "волевое", "ироническое", "критически-сентиментальное" - отношение к "чистому воздуху подлинной культуры" (Гандлевский 2000, 294-295). Поэзию 1950-1980-х годов оказалось возможным рассматривать как системное и дифференцированное переосмысление Серебряного века. Русская поэзия второй половины XX века предстала сложной системой нео- и пост- направлений, противоречивым образом соединившей в себе тягу к формальной новизне и обнажению алгоритмов художественного творчества; апелляцию к культурным ассоциациям и универсально понимаемый принцип относительности, диалогического постижения мира (см. типологию поэтических направлений в работе: Лейдерман 2001). В своем единстве поэзия 1950-1980-х годов предстала как целостный опыт осмысления "нового векового содержания" (Б. Пастернак) и поиска адекватного ему художественного синтеза.
Иосиф Бродский в сложившемся контексте литературной науки закономерно рассматривается как "центральная фигура современной русской поэзии", ибо, будучи "активным участником литературного процесса и "процесса" над литературой", "аккумулирует в единстве творчества и биографии пафос исторического времени" (Лакербай 1998, 166). Огромный интерес к Бродскому предопределяется рядом факторов: свойственным поэту ощущением "словесности как служения", на которое может и должна "уйти жизнь" (Седакова 2000, 232); его убежденностью в "априори права и весомости личного высказывания" (Полухина 1997, 405); актуализацией жизнетворческой традиции, демонстрацией того, что "возможна высокая поэзия сейчас и здесь" (Кривулин 1997, 175). Вместе с тем особая семиотичность "феномена Бродского" делает его привилегированным "объектом применения расхожих критических и культурных стереотипов" (MacFadyen 1999, 3), способствует складыванию разветвленной научной мифологии (Полухина 1996).
Одним из важнейших мифогенных факторов является публицистический подход к текстам Бродского, при котором художественная логика поэта оказывается вне поля исследовательского интереса (Кублановский 1991, Коржа-вин 2002). Еще одним источником мифов выступает анализ поэтики Бродского с помощью категориального аппарата, заведомо к ней неприложимого (Солженицын 1999, Кривулин 1977). Искажающими следует признать и такие прочтения, при которых художественное содержание текстов Бродского априорно соотносится с теми или иными философскими идеями (Moranjak-Bamburac 1996). Широта связей Бродского с существующим литературным контекстом, обусловившая неизбежность мифологизации образа поэта, тем не менее не воспрепятствовала смещению акцента с журналистики и мемуаристики на научную критику, с течением времени разросшуюся в самостоятельную отрасль филологического знания.
Стремление очертить специфику творчества Бродского на историко-литературном фоне сообщило первичную актуальность проблеме традиции (Фокин 2002). Доминантное значение в исследовании проблемы традиционности приобрели работы, ориентированные на выявление и анализ релевантных для Бродского художественных контекстов (Зайцев 1998, Колобаева 2002, Курганов 1997, Нестеров 2000, Кузнецов 1998, Givens 1995, Bethea 1995, 2000 и др.). Самостоятельную и весьма значительную часть штудий традиционности составили исследования интертекстуальности, нацеленные как на выявление собственно реминисценций и цитат, так и на определение характера их трансформаций и степени вписанности в художественный текст (Ранчин 2001, Безносое 2002). Рассмотрение традиционности на уровне формы предопределило актуальность проблемы жанра в творчестве Бродского (Полухина 1995, Семенова 2001). По преимуществу "контекстуальное" рассмотрение традиции не оказалось замкнутым на самое себя, став необходимым этапом на пути к имманентному анализу художественного текста.
Существенную часть исследований текста образовали работы, так или иначе связанные с анализом его языковой формы. Это и собственно лингвистические исследования, в том или ином аспекте разрабатывающие вопросы идиостиля (Зубова 1996, Везерова 1997), и комплексные работы, выстраивающиеся на стыке языкового и содержательно-концептуального уровней текста (Полухина 1995, Пярли 1996, Polukhina 1986). Особое место в ряду работ о языке занимают те, в которых рассматривается образ языка в поэзии Бродского, различные аспекты репрезентации концепта "язык" (Пярли 1998, Орлова 2002). Близки к ним по направленности исследования о "филологической метафоре", реконструирующие способы художественного воплощения парадигмы "мир-текст" (Ахапкин 1998). Специальные исследования посвящены интонации как ведущему принципу стихообразования (Калашников 2001), типологии строфических форм (Смит 2002, Лотман 1995), метрике, ритмике и способам рифмовки поэтического текста (Гаспаров 1995, Семенов 1998).
В самостоятельную группу сложились работы, посвященные автономному рассмотрению идейного содержания текстов Бродского. Творчество поэта интерпретируется как философствование в поэтической форме, и по сути, и по способам развертывания сопоставимое с соответствующими экзистенциалистскими прецедентами (Келебай 2000). Философское своеобразие и содержание художественных форм рассматривалось как движение к разрешению мысли и представлению миропонимания в образной системе (Плеханова 2001). Были намечены слагаемые художественного мироотношения как интегральной характеристики целостной духовно-творческой позиции Бродского (Абелинскене 1997). Особые аспекты исследований содержания составили опыт реконструкции философской традиции Бродского (Ранчин 1993), анализ литературного "путешествия в кругу идей" (Служевская 2002), раскрытие художественного смысла философской пародии в лирике поэта (Спивак 1997).
Обширный блок текстовых штудий образуют работы, связанные с проблемой художественного мира. Наибольшая часть этих исследованиий посвящена интерпретации пространственно-временных конструкций в поэзии Бродского (Ваншенкина 1996, Воробьева 1994), их соотнесенности с теми или иными философскими и семиотическими импликациями (Лотман 1993). Существует прецедент реконструкции художественного мира на основе семантического анализа мотивики текстов Бродского (Кузнецов 1997). Произведена попытка содержательно соотнести основные темы лирики Бродского и набор их конкретных реализаций (Крепе 1984). Опыт создания "очерка поэтики" Бродского включает в себя анализ мотивной структуры, поэтического словаря, отличительных приемов лирики поэта (Ранчин 2001, 19-116). Отдельную группу работ составляют монографические разборы конкретных мотивов (Пробштейн 2000), тем (Лотман 1990, 1998), образов (Бетея 1991) лирики Бродского. Выделились в разряд самостоятельных исследований работы, связанные с концептуализацией вещи и стремлением определить в художественном мире Бродского место вещности как таковой (Кашина 2000, Ставицкий 2001).
Разноаспектный анализ творчества Бродского сделал актуальным реконструкцию художественной логики поэта через различные формы автоинтерпретации. Этим обусловливается интерес к монографическому анализу текстов, в первую очередь, с отчетливой метапоэтической составляющей (сборник "Как работает стихотворение Бродского" 2002); анализ жанровой формы эссе и типологии реализованного в ней художественного мышления (Новиков, материалы журнала Russian Literature 2000 vol. XLVII - III/IV); рассмотрение интермедиальности как фактора, до известной степени детерминирующего поэтику (Петрушанская 1998, 2000). Автоинтерпретация, вместе с тем, оказалась значима не сама по себе, но в качестве основания для более глубокого, непредвзятого, синтетического по сути подхода к анализу художественного наследия Бродского.
В литературной науке возникла настоятельная потребность в обобщении накопленного опыта изучения творчества Бродского, в выработке йнтерпре-тативной парадигмы, которая могла бы связать воедино разнородные наблюдения над языковой формой, художественным миром, идейным содержанием текстов поэта. Монографии М. Крепса, D. Bethea, В. Полухиной (Крепе 1984, Bethea 1994, Polukhina 1989), при всей их историко-литературной основа^ тельности, освещают соответствующие аспекты отнюдь не в равной мере; концептуальной определенности недостает и более специальным исследованиям А. Ранчина, Е. Келебая, И. Плехановой (Ранчин 2001, Келебай 2000, Плеханова 2001). Первыми попытками выйти на качественно иной уровень познания явились работы, нацеленные на анализ складывания мировоззренческих позиций, выработку Бродским собственного художественного языка (Куллэ 1996, Лакербай 1997). Однако исследование одного, пусть даже репрезентативного периода, отнюдь не позволяет определить специфику творчества Бродского в историко-литературной перспективе. Уязвимым является
самоограничение и другого плана: отказ от системного рассмотрения художественной формы в ее содержательности.
Между тем лакуны, которые в настоящее время существуют в понимании лирики Бродского, связаны с невыписанностью концептуальной матрицы поэтики безотносительно к ее трансформациям и недостаточной прояснен-ностью взаимосвязей разных моментов формы. Так, крайне незначительно разработана проблема эстетической телеологии художественной формы. Отсутствует прецедент системного рассмотрения художественных приемов в свете единого формообразующего начала. Не прописаны в должной мере контакты Бродского с поэтической традицией в плане выработки собственных представлений о художественности. Так обрисовывается проблемное поле, связанное с тем, что В. Жирмунский называл "основным художественным впечатлением": с анализом художественных приемов как "эстетических фактов", выстраиванием их в систему в свете единого "формообразующего начала (энтелехии)", рассмотрением художественного целого в перспективе определенной "интуиции бытия" (Жирмунский 1977, 123).
Безусловной точкой отсчета в решении проблемы "единства скрытых структур поэтического мышления" (Лосев 1997, 130), очевидно, может быть только положение, разделяемое всеми исследователями. Таким положением является тезис о сущностной "синтетичности" и "итоговости" творчества Бродского в контексте художественных исканий XX века. Согласно Л. Лосеву, Бродскому удалось в своем творчестве "свести воедино и довести до совершенства ... все основные направления русского модернизма" (Лосев 1996, 15). Н. Петрова рассматривает Бродского как единственного в своем роде художника, сумевшего объединить "ноэтический реализм и модернизм как два взаимодополняющих направления XX века" (Петрова 2001, 284). Как "радикальную попытку синтеза" реализма и постмодернизма, завершившуюся созданием "новой парадигмы художественности", трактуют творчество Бродского Н. Лейдерман и М. Липовецкий (Лейдерман 2001, 3, 135). При всем различии терминологии показательна общность интонации исследователей, одинаково настаивающих и на "итоговости", и на "синтетичности". Однако указание на "новую художественность" само по себе лишь обозначает, но не определяет существо поэтики.
В ряде попыток конкретизировать "синтетичность / итоговость" поэтики Бродского в контексте XX века отчетливо обнаруживается несколько доминирующих тенденций.
Одна из них соотносится с самым различным образом понимаемой рационалистичностью поэтики Бродского. О "поэтике суждений" пишет А. Ранчин, указывая, что в лирике Бродского строка нередко "или простое суждение <...> или суждение сложное, в котором пропозиции соединены между собой согласно принципу утверждения и вывода, условия и результата" (Ранчин 2001, 54). Присутствие в лирике Бродского метатекстуальных стихотворений, "содержание которых отрефлексировано не только на уровне темы, но и на уровне самой их формальной организации", отмечает Ким Хюн
Еун (Ким Хюн Еун 2003, 23). Д. Лакербай "основополагающим" для поэтики Бродского считает "конфликт между личностным и категориальным, между экзистенцией и разумом " и связывает его частичное преодоление с "единством и непрерывностью поэтического мышления как процесса" (Лакербай 1996, 16-17). В той или иной степени смежные вопросы "рациональности", "авторефлексивности", "метапоэтчности" затрагиваются в работах И. Слу-жевской (Служевкая 2000), А. Фокина (Фокин 2002), В. Куллэ (Куллэ 1996) и других.
Другая важная тенденция связывается с попыткой осмыслить самым различным образом понимаемый онтологизм поэтики Бродского. Л. Лосев пишет о "пораженности" Бродского фактом "неадекватности жизни высказываниям о ней" (Лосев 1978, 125) и его попытках выстраивать поэтику в динамическом напряжении между "умопостигаемыми элементами стиха и прозы" и "внеконтекстными, не поддающимися какой-либо рациональной интерпретации символами" (Лосев 1986, 196). Д. Радышевский обосновывает идею "медитативного характера" поэзии Бродского и ее тяготения к "пустоте ума" как "озарению", в котором совмещаются "бесстрастная регистрация мира <...> и рассмотрение предмета со всех сторон" (Радышевский 1997, 305). Д. Лакербай отмечает "онтологизм поэтики" Бродского, соотносимый с "интуицией онтологического первородства и логосности поэзии, явленной в сосредоточенности на бытийной проблематике и бытийствовании самого стихотворения" (Лакербай 2000, 21). Проблематика "внерационального", "несказуемого", "онтологического" характера некоторых черт поэтики Бродского затрагивается в работах А. Расторгуева (Расторгуев 1993), Л. Баткина (Бат-кин 1996), С. Лурье (Лурье 1990) и других.
Таким образом, качество "синтетичности / итоговости" поэтики Бродского есть основания соотносить с категориями онтологической поэтики и художественной рефлексии, в последнее время активно разрабатывающимися в литературной науке. Категории эти переживают период становления и еще далеки от полной определенности объема и содержания, однако типология подходов к их истолкованию уже и сейчас весьма обширна.
Заявленный В. Тюпой и Д. Баком подход к художественной рефлексии ставит на первый план самоопределение художника в акте слова. Художественная рефлексия в трактовке В. Тюпы - это "эвристическая рефлексия поиска субъектом своей активной позиции, на которой он еще не утвердился окончательно, - позиции подлинного творца данного творения" (Тюпа 1988, 5). В основе так понятой художественной рефлексии - преодоление "взаимной непроницаемости этического и эстетического" "в особом типе содержательной формы" (Бак 1992, 8), нацеленной на актуализацию "самого события перехода жизни в слово" (Бак 1992, 73). Рефлексия, таким образом, есть средство самоопределения в слове художника как человека поступающего: "творческий акт начинает мыслиться актом альтернативного вхождения в историю" (Тюпа 1988, 12). Данный подход уязвим: рефлексия, с одной стороны, подменяется интуицией, которая только и может быть эвристической,
а с другой стороны, - необоснованно связывается с проблемой "точки зрения", замыкаясь на взаимосвязи автора и персонажа.
В. Тимофеев и А. Аствацатуров соотносят художественную рефлексию с обнажением условностей в художественном тексте. "Рефлектирующий автор, - пишет А. Аствацатуров, - работает не с реальностью как таковой, а с концепциями реальности, идеями, возникающими при языковом освоении мира, которые он субстантивирует" (Аствацатуров 2000, 100). В основанном на рефлексии акте творчества "всякая "кажимость" и "видимость" наблюдается в процессе своего создания" и значима эстетическим переживанием "рассматривания наготы фиктивности" (Тимофеев 1997, 44). Так понятая рефлексия - "необходимый и осознанный этап творческого развития", суть которой - в преодолении налично данного "плюрализма художественных практик" и обретении своего индивидуального слова (Аствацатуров 2000, 101). Слабость этого подхода обнаруживается в том, что в нем аналитические характеристики рефлексии немотивированно накладываются на созерцательную по сути интроспекцию, а сама проблема рефлексии тяготеет к растворению в проблеме овеществленного приема.
Специфическое понимание художественной рефлексии, связанное с самоидентичностью художественной формы, в ряде работ было обосновано А. Михайловым. Согласно исследователю, всякая теоретико-литературная концепция всегда основывается на переосмыслении имманентной художественному тексту самоинтерпретации и если и возможна, то только потому, что "сами литературные явления уже есть теория, запечатление своего осмысления, сгустки смысла, рефлектирующего самого себя" (Михайлов 1994, 26). При этом основным предметом интереса оказывается то, что лежит в основе всего создаваемого: "Прежде смысла конкретного произведения, прежде того, что он намерен создать, в нем определено, и определено всеми факторами, взаимодействующими в истории, то ч т о, в качестве какого <...> будет возникать замысел, или образ, конкретного художественного создания" (Михайлов 2000, 291). Суть рефлексии при таком подходе связывается с поиском художником первообраза формы и выбором эстетических решений, призванных ему соответствовать. Определенным недостатком данного подхода является уход от анализа обеспечивающих складывание художественного целого рефлексивных механизмов. Вместе с тем только в позиции А. Михайлова художественная рефлексия рассматривается в качестве самостоятельного конститутивного фактора формы.
Онтологическая поэтика в одном из наиболее распространенных ее пониманий соотносится с бытийными характеристиками художественного мира. Как отмечает Н. Шогенцукова, "истинная литература <...> это всегда постижение основополагающих принципов человека и общества", и одной из ее важнейших характеристик являются "формулы бытия" - "открытия, откровения", воплощающие целостное видение мира (Шогенцукова 1995, 4). Понимание метафизических основ при этом может в равной мере соотноситься как с духовными сущностями, так и с материальным субстратом бы-
тия. Л. Карасев соотносит "пафос онтологического взгляда" с анализом "на-личествования и оформленности мира", особо подчеркивая, что в этом случае "природа берет верх над культурой, вещество над символом" (Карасев 1996, 60). Е. Трофимов, напротив, связывает с онтопоэтикой указания в тексте на присутствие в повседневности божественного начала и нацелен на выявление "обусловленности поэтического <...> верой и богословием" (Трофимов 1999, 28). Специфика этого подхода состоит в редукции собственно поэтики, в фактической подмене поэтологических исследований выявлением концепции мира, анализом разнообразных вещных и соматических кодов, взятых безотносительно к их художественной функции.
Подход В. Океанского к онтопоэтике характеризуется смещением акцента на инвариантные структуры художественного мировидения. При таком подходе онтологическая поэтика нацелена на выявление форм и способов раскрытия в тексте "стилистики" мировосприятия. Сообразуясь с тем, что "онтология есть ... собранность сущего в бытии", В. Океанский настаивает на "онтологизме самого слова" и трактует поэтику как "морфологию бытия", его "структурную выстроенность" (Океанский 2000, 116). В центре внимания вновь оказывается "образ мира" - "языковой светомир, превосходящий и авторскую волю, и словарную семантику" и раскрывающий "целокупный первичный опыт человеческого "бытия-в-мире" (Океанский 1998, 15). Н. Крохи-на, сообразуясь с некоторыми идеями В. Океанского, склонна полагать предметом онтопоэтики "тип бытийной ориентации писателя" (Крохина 2000). Эвристическая ценность этого подхода существенно ограничивается тем, что он, с одной стороны, атрибутирует онтологическое качество не какому-то аспекту поэтики, но поэтике как таковой, а с другой стороны, в силу необъективируемости вот-бытия оказывается неспособен что-либо сказать об этом качестве.
Концепция онтологической поэтики, разрабатываемая В. Раковым, ориентирована на выявление взаимосвязей рационального и иррационального начал в морфологии стиля. Согласно В. Ракову, основополагающей характеристикой модернистского стиля является "сочетание в тексте риторико-классической ясности, с одной стороны, и элементов деструкции и смысловой темнотности - с другой" (Раков 19986, 88). С приобретением "деструктивным" и "темнотным" - "меоном" - статуса "регулятивной идеи" морфология стиля оказалась резко специфицирована: во-первых, в тексте "становится важным как сказанное, так и то, что залегает в глубинах молчания" (Раков 2000, 82); во-вторых, в качестве комплементарных черт выстраиваются "постоянно увеличивающаяся разрывность текста" (Раков 1999, 123) и "едино-мгновенность творческого постижения мира" (Раков 2000, 91). Предметом онтопоэтического интереса в рамках этого подхода выступает "меон" - "та стихия иррационального, который не есть ни бытие, ни устойчивость, ни движение, но всего лишь иное по отношению к этому" (Раков 1998а, 65). Недостаточно мотивированным в позиции В. Ракова следует признать отождествление "засловесного бытия" с хаосом и деструктивностью, однако только
эта позиция обращает внимание на присутствие в тексте неэксплицируемого содержания.
Аналитический разбор существующих концепций художественной рефлексии и онтологической поэтики позволил наметить общие перспективы содержательной разработки "синтетичности" творчества И. Бродского, однако не дал ответа, почему именно эти категории оказались релевантны для осуществленного поэтом художественного синтеза. Прояснение контекста художественной рефлексии и онтологической поэтики в искусстве XX века, думается, позволит прояснить это обстоятельство, а вместе с тем - точнее определить названные категории.
Выдвижение на первый план художественной рефлексии и онтологической поэтики в контексте эстетических исканий XX века представляется возможным соотносить с переосмыслением структуры и факторов детерминации художественной формы, обусловленное сменой классического типа рациональности неклассическим (термин «неклассический тип художественного сознания» параллельно введен Н. Лейдерманом: Лейдерман 2001, 1 и С. Бройтманом: Бройтман 1997) Классическое художественное сознание, как отмечает Н. Петрова, "уравновешивает бытие и объект на чисто фактических началах", суть классики - "принципиальная полнота жизни в органическом согласии ее сил" (Петрова 2001, 58). Неклассическое художественное сознание "противоположно по направленности: бытие и объект уравновешиваются на чисто смысловых началах" и " принципиальная полнота жизни обнаруживает себя в помысленности смысла" (Петрова 2001, 58). Диалектика пластики предмета и его смыслового строя отличается при этом определенной сложностью.
Складывание новых художественных принципов шло по нескольким направлениям, одним из которых явилось переосмысление соотношения мимесиса и одухотворения. В домодернистском искусстве одухотворение материала было призвано вносить чувственно конкретный порядок в хаотическое разнообразие явлений действительности. В модернистском искусстве порядок мыслится как репрессивный фактор, что предопределяет разрушение наглядности и выдвижение на первый план интеллектуального опосредования. "Эстетическая рациональность, - отмечает Т. Адорно, - стремится к тому, чтобы каждое художественное средство - и само по себе, и по своей функции - было столь четко определено и целенаправленно, чтобы сделать то, на что уже не способны традиционные средства" (Адорно 2001, 54). Еще одним направлением эстетического поиска оказалось перераспределение соотношения интенции и содержания. Искусство, сообщая о чем-либо, в силу самой своей природы делает свои умозаключения вне апелляции к поня-тийности. В домодернистском искусстве эта интенциональность была подчинена требованию единства определенного смыслового контекста. В модернистском искусстве, выстраивающемся в условиях кризиса смысла, художественная интенция начинает связываться с противостоянием конкретно осязаемому содержанию - с "эстетической трансцендентностью". "Явление,
возникающее в процессе аппариции, - пишет Т. Адорно, - принадлежит к сфере уникального, оно представляет то, что невозможно подвести под какую-либо общую категорию, и бросает вызов господствующему принципу реальности, принципу заменимости" (Адорно 2001, 123). Эстетическая трансцендентность, осмысленная как качественная однократность явления, позволяет атрибутировать модернистскому искусству прорыв к "первореаль-ности". "До того, как мы начинаем познавать, и даже до того, как мы начинаем действовать, - пишет И. Левин, - мир открывается нам в силу самого нахождения или жизни в нем", и это "соучастие в мире, первореальность" является "первичным предметом" нового искусства (Левин 1994, 387). Вместе с тем эстетическая рациональность, ставшая конститутивным фактором формы, делает творческую деятельность разума основанием особого рода эстетического наслаждения - наслаждения "нечувственно прекрасным". "Говоря о прекрасном в художественной форме, - отмечает И. Левин, - надо различать два момента: "красивость" самой художественной формы, выражающуюся в симметрии, том или ином сочетании линий, красок и звуков <...> и проявление активности человеческого духа, соответствие средства и замысла - то, что является необходимым атрибутом художественного произведения"; последнее и есть "нечувственно прекрасное" как еще один специфический "предмет" модернизма (Левин 1994, 234).
С учетом сказанного выше формально онтологическую поэтику и художественную рефлексию можно определить как принципы соотнесения внешней и внутренней формы, реализующие единство художественного впечатления. Содержательно онтологическую поэтику и художественную рефлексию представляется возможным рассматривать как средства создания эстетической трансцендентности (переводящей в структуру текста спонтанность переживания) и эстетической рациональности (выявляющей логику становления художественной мысли). Соотнесенность онтологической поэтики и художественной рефлексии с важнейшими законами формообразования в модернистском искусстве объясняет отмеченное ранее "итоговое" положение Бродского в историко-литературной перспективе XX века.
Вопрос, который выходит на первый план с определением фундаментальных категорий "синтетичности / итоговое" лирики Бродского, связан с поиском предметной сферы их соизмеренности. Если художественная рефлексия и онтологическая поэтика неразрывно связаны, то должно существовать поле общей меры, которое одновременно есть среда их реализации.
Р. Барт, одним из первых заговоривший о "бытийственности" текста, объяснял "способность формы вызывать к себе экзистенциальные ощущения" обретенной искусством возможностью "ощущать себя как язык" (Барт 2000, 61-62). "Самоощущение формы", в свою очередь, соотносилось им с "перфомативностью текста", с самодовлеющей реальностью совершающегося "здесь и сейчас" "речевого акта" (Барт 1989, 387-388). Креативному порыву, по Барту, ничто не предсуществует - все обретает смысл и определенность только в результате его развертывания в текст. Ю. Лотман, рассматри-
вая "перфоматив" как "уяснение внутреннего состояния пишущего" благодаря "записи", был склонен интерпретировать его как специфический род "автокоммуникации", когда "сообщение переформируется и обретает вид нового сообщения" (Лотман 1993, 36). Существенно при этом, что автокоммуникация, по Ю. Лотману, "трансформирует самоосмысление порождающей тексты личности", ибо "переводит уже имеющиеся сообщения в новую систему значений" (Лотман 1993, 41). Экзистенциальность самоощущения формы, таким образом, следует соотносить с переустройством основополагающих структур сознания в акте творчества. Однако само это переустройство есть не что иное, как специфическое проявление деятельности понимания. В самом деле, понимание устремлено на объекты уникальные, невоспроизводимые, эмпирически всегда косвенные (Яковлев 1991, 55), но в свете сказанного выше только первореальность можно соотносить с этим категориальным рядом.
Р. Якобсон, с именем которого связывается постановка проблемы художественной рефлексии, соотносил обращенность речи на самое себя со способностью речевого сообщения быть произведением искусства. "Поэтическая функция языка", по Якобсону, состоит в "направленности на сообщение как таковое, сосредоточении внимания на сообщении ради него самого" (Якобсон 1975, 202). Эмпирический критерий поэтической функции для него при этом составляло "проецирование принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинации" (Якобсон 1975, 204): последовательное построение речевых структур в художественном тексте всегда предполагает постоянную актуализацию выбора языковых единиц. Е. Фарыно соотносит высказанную Якобсоном идею с "авторефлексивностью, рекуррентностью и конвёрсивно-стью художественной речи, то есть с взаимопрекцией и меной местами формальных и семантических парадигм" (Faryno 1988а, 37). В рамках концепции польского исследователя определяющей является идея, согласно которой в пределах авторефлексивного текста "ни мотивный, ни лексический состав не привносятся извне <...> они порождаются внутри и по ходу данного текста" (Faryno 1988а, 29). Это означает, что "сообщение как таковое" связывается с "иерархически упорядоченным языком", в котором "каждая очередная ступень является планом содержания для предыдущей и планом выражения для последующей" (Faryno 19886, 44). Существеннейший момент, по Фарыно -абсолютный предел авторефлексивного ("экспликативного") текста: "лишенный всякого плана выражения и всякой постижимости <...> смысл" (Faryno 19886, 45). Невыразимое как результат аналитической работы - это озарение, художественная рефлексия в этой связи - способ продуцирования инсайта. Однако инсайт - также элемент деятельности понимания, цель которого -выявление оснований открытости в объекте (Яковлев 1991, 61).
Таким образом, предметная сфера онтопоэтики и художественной рефлексии - понимание. В этом плане одно и другое явления могут быть рассмотрены как необходимые составляющие поэтики, соотносящей художественную выразительность с различными слагаемыми акта познания - поэтики
когнитивной (Смирнов 1988) или гносеологической (Григорьев 2000). Необходимость в ее создании была осознана тогда, когда стало ясно, что модернистская литература "отчетливо предпочла пути "передачи информации" путь "трансформации сознания" <...> пути "оформления смысла" - путь "метаморфоз смысла"" (Седакова 2000, 570). Т. Адорно отмечает, что только в XX веке обнаружился имманентно присущий художественному произведению характер процесса: "Когда произведение говорит, оно становится явлением внутренне движущимся, развивающимся. То, что в артефакте можно назвать единством его смысла, является не статичным, а процессуальным, развивающимся, проявлением антагонизмов, которые неизбежно наполняют любое произведение" (Адорно 2001, 256). Однако "процессом" произведение может быть лишь для проживающего его сознания: "Время есть субъективное условие познания и понимания" (Молчанов 1988, 38). Тем самым в рамках "когнитивной поэтики" по отношению к тексту актуализируется комплекс вопросов, доселе связывавшихся исключительно с деятельностью сознания: об условиях возникновения нового знания, о внутреннем единстве акта сознания, о способах запечатления знания. Художественность, таким образом, предстает телеологической структурой, ориентированной на раскрытие в произведении движения понимания. В современной герменевтике, вплотную подошедшей к этой проблематике, последний момент связывается с понятием "абсолютного настоящего искусства". Как отмечает М. Вишке, "произведение искусства имеет место <...> только в своей презентации или истолковании, которые, со своей стороны, входят в произведение и не существуют отдельно от него"; вместе с тем, "в силу своего отрыва от творца и контекста, в котором он его создал <...> субъектом опыта искусства является само произведение искусства, и опыт произведения искусства может быть определен как его "бытие" "(Вишке 2001, 61).
Художественная рефлексия и онтологическая поэтика, даже объединяемые в акте понимания, тем не менее различны по своей направленности: художественная рефлексия соотносится с "языком-субъектом", онтологическая поэтика - с "языком-объектом". Коль скоро в лирике Бродского онтологическая поэтика и художественная рефлексия выступают не просто во взаимосвязи, а во взаимопроникновении, есть основание предположить, что это обстоятельство вызвано особым качеством "когнитивной поэтики" в лирике Бродского. Учитывая тот факт, что только в рамках феноменологии устремленность к первоначальному интуитивному опыту имеет своим необходимым основанием акты рефлексии (Свасьян 1987, 59), это качество поэтики, с нашей точки зрения, представляется правомерным определить как феноменологическое.
Феноменологический характер вершинных проявлений модернистской литературы XX века обсуждается довольно давно (Мальцев 1994, Кихней 2001, Петрова 2001 и др.), однако отсутствие ясной мотивировки привнесения этого термина в литературоведение, равным образом как и лишенное системности его употребление делают эту дискуссию малопродуктивной. Между тем представляется очевидным, что феноменологизм новой литера-
туры следует соотносить в первую очередь с "неклассическим" качеством этой литературы, сводящемся, в конечном счете, к ее "когнитивной" ориентированности. При этом для плодотворного развертывания идеи феноменологического качества художественной формы изначально следует: во-первых, отказаться от констатации мировоззренческих параллелей в пользу выявления феноменологии в строе поэтики; и, во-вторых, уйти от специального философского языка, обнаружив феноменологическую проблематику внутри филологического опыта осмысления литературы.
В рамках феноменологической философии, наиболее отчетливо выразившей специфику "неклассической рациональности", объективно наметились два взаимодополнительных направления переосмысления традиционных категориальных схем. Первое связано с разрушением оппозиции субъективного и объективного и преодолением классического представления о сознании как "монаде". М. Хайдеггер отмечает, что в основной конституции ego cogito <...> заключено то, что оно не имеет окон", это "замкнутое пространство"; при этом "в противоположность имманентности в сознании <...> "быть" в вот-бытии означает бытие-снаружи" (Хайдеггер 2001, 113-114). Второе направление связано с утверждением представления об а-субстанциальности сознания, которое, тем самым, более не связывается с субъект-субъектной оппозицией. Г. Шпет пишет об этом так: "Никакое "единство сознания" никому не принадлежит, ибо не есть вообще "принадлежность" или "свойство" или "собственность", оно есть единство сознания, то есть само сознание" (Шпет 1989, 107). Приведенные формулировки представляется возможным перевести на литературоведческий язык при посредничестве М. Бахтина. При этом следует учесть, что собственные представления Бахтина, позволяя наметить границу между классическим и неклассическим, в рассматриваемом аспекте остаются полностью в рамках классической традиции. Так, субъект-объектную оппозицию в самом тексте можно усмотреть в разведении творящего сознания и творимой им реальности. По М. Бахтину, "автор творит, но видит свое творение только в предмете, который он оформляет, то есть видит только становящийся продукт творчества, а не внутренний психологически определенный процесс его" (Бахтин 1979, 9). Субъект-субъектную оппозицию можно связать с присущей всякому тексту дифференциацией авторской и читательской позиций. Как отмечает М. Бахтин, "поэтическое произведение - могущественный конденсатор невысказанных социальных оценок", чем определяется тот факт, что "поэт все время работает с сочувствием или несочувствием, с согласием или несогласием слушателя" (Бахтин 2000, 85). Таким образом, феноменологическое качество поэтики Бродского можно априорно соотнести с нарушением или ограничением действия обозначенных Бахтиным закономерностей, то есть с взаимопроницаемостью творящего сознания и творимой реальности, с одной стороны, и, с другой - с устранением ценностной границы между авторской и читательской позициями.
Обобщая вышесказанное, представляется возможным определить основные параметры настоящего исследования.
Актуальность нашей работы обусловлена потребностью в выработке целостной концепции творчества И. Бродского и его поэтики, которая могла бы обобщить накопленный исследовательский опыт.
Новизна диссертационного исследования заключается в том, что за основу в определении художественной специфики лирики Бродского принимается ее "синтетическое" качество, связываемое нами с онтологической поэтикой и художественной рефлексией как определяющими координатами неклассического типа художественного сознания.
Объектом исследования является лирика И. Бродского как главная и преобладающая часть его художественного наследия.
Предметом исследования являются рассмотренные в историко-литературной перспективе аспекты онтологической поэтики и художественной рефлексии в лирике И. Бродского.
Цель работы: выявить черты онтологической поэтики и художественной рефлексии в лирике И. Бродского в связи со всей системой поэтических категорий.
Цель работы обусловливает следующие задачи:
раскрыть мировоззренческую основу лирики Бродского;
определить преобладающий принцип формообразования;
обозначить логику функционирования отдельных художественных приемов и их системную взаимосвязь;
соотнести поэтику Бродского с историко-литературным контекстом;
5) определить основания достигнутого поэтом художественного синтеза.
Обозначенный перечень задач предопределяет методы и приемы исследования, в числе которых доминантными являются, во-первых, разнообразные методы "медленного чтения" (Ю. Левин, Д. Сегал, С. Сендерович, Е. Фарыно), во-вторых, методы герменевтического истолкования текста (Г. Бо-гин, А. Богатырев), в-третьих, разработанные в ряде исследований методы сравнительно-типологического анализа явлений модернистской литературы (И. Смирнов, О. Ханзен-Леве. Е. Фарыно, 3. Минц).
Теоретическая основа работы связывается с феноменологией и философской герменевтикой (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Г. Шпет, Г. Гадамер), с теорией литературы русского формализма (В. Шкловский, Ю. Тынянов, В. Жирмунский, Б. Энгельгардт) и ее структуралистскими продолжениями (О. Ханзен-Леве, Ц. Тодоров, Ж. Женетт, Ю. Лотман), с работами, посвященными анализу неклассических черт художественного сознания (Н. Лейдерман, М. Липовецкий, Т. Адорно, И. Левин, С. Бройтман).
Содержательной направляющей исследовательского поиска в нашей работе является гипотеза о феноменологическом качестве поэтики Бродского как результате его "синтетической" художнической позиции.
Автор диссертации пытался аргументировать основные положения, выносимые на защиту:
Точкой отсчета для И. Бродского является идея нетранслируемости смысла. «Переоценка всех ценностей» означает для поэта отказ от любых априорных форм оценки мира и человека. Личностный поиск истины, понятый как альфа и омега познания, делает мировоззрение Бродского принципиально и последовательно скептическим.
Скептицизм И. Бродского обусловливает тот факт, что для поэта преимущественной средой порождения смысла и соответственно - личностного самоопределения являются творчество и поэтический текст. В соответствии с этим все аспекты формы получают отчетливую «гносеологическую» нагруженность, а она сама ориентируется на порождение субъективно достоверного откровения. Основными направляющими формообразования при этом выступают художественная рефлексия как способ передачи становления мысли и онтологическая поэтика как способ выражения интуитивного озарения.
Акцент на тексте как форме миропознания и самоопределения объективно сообщает художественности И. Бродского «синтетическое» качество. Отдельные элементы поэтики символизма, акмеизма, футуризма, в той мере, в какой им было присуще «когнитивное» качество, в лирике поэта изменены и реорганизованы, что свидетельствует о переходе к новой фазе развития русского модернизма.
Сутью художественного синтеза лирики И. Бродского явилось сообщение особого - феноменологического — качества поэтике. В общем виде его приметой выступает, с одной стороны, диффузность субъект-объектных связей, предопределяющая открытость друг другу творческого сознания и творимой реальности и, с другой стороны, синкретизм субъект-субъектных отношения, при котором авторская и читательская позиции в тексте ценностно не различаются.
Основой художественного синтеза, обусловившей принципы отбора и сочетания элементов модернистской формы, явилась для И. Бродского поэтическая традиция барокко. Бродским оказалось востребованным «единство восприимчивости» (способность к систематизации и классификации интуитивных впечатлений) и барочное «остроумие» (нацеленность речи на игру комбинаторными возможностями сознания).
Структура работы определяется логикой доказательства гипотезы о феноменологическом коде поэтики Бродского. Априорная составляющая гипотезы обусловливает наличие двух глав: об аспектах поэтики, связанных с текстом как опредмеченным содержанием (и субъект-объектной оппозицией) и об аспектах поэтики, соотносимых с текстом как коммуникативным явлением (и субъект-субъектной оппозицией). Диссертация включает введение, две главы, заключение, список использованной литературы. Логику построения материала в тексте работы определяет индуктивный момент доказательства гипотезы. В соответствии с ним в каждом параграфе выделяется принципиально важная для Бродского тема, определяется наиболее репрезента-
тивный для нее текст, в тексте исследуются пути формального воплощения авторского замысла.
Апробация результатов работы производилась на международных научных конференциях "Молодая наука - XXI веку" (Иваново, 2001), "Мир идей и взаимодействие языков в литературе нового времени" (Воронеж, 2003); всероссийских научных конференциях "Русская литература и философия: постижение человека" (Липецк, 2001), "Природа: материальное и духовное" (Санкт-Петербург, 2002), "Национально-государственное и общечеловеческое в русской и западной литературах XIX - XX веков (к проблеме взаимодействия "своего" и "чужого")" (Воронеж, 2002), ежегодных научных сессиях Воронежского госуниверситета (2001- 2003).
По теме диссертации опубликовано 8 работ:
1)Житенев А. Мотив двойничества в поэме И. Бродского "Зофья" / А. Житенев // Сборник студенческих работ. - Воронеж : ВГУ, 1998. - С. 120-123;
Житенев А. Эмблематика и смыслы в стихотворении И. Бродского "Фонтан" / А. Житенев // Сборник студенческих работ. - Воронеж : ВГУ, 1999.-С. 57-63;
Житенев А. И. Бродский : к феноменологии познания / А. Житенев // Сборник студенческих работ. - Воронеж : ВГУ, 2001. - С. 91-98;
Житенев А. Проблемы интерпретации современной поэзии : И. Бродский / А. Житенев // Молодая наука - XXI веку : тез. докл. междунар. науч. конф.: В 7 ч.- Ч. 1. Филология. - Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2001.-С. 32;
Житенев А. Эмблема как opera operans лирики И. А. Бродского / А. Житенев // Русская литература и философия : постижение человека : материалы всеросс. науч. конф. - Липецк : ЛГПУ, 2002. - С. 274-277;
Житенев А. Онтология языка и экология сознания в творчестве И. Бродского / А. Житенев // Природа : материальное и духовное : тез. и докл. всеросс. науч. конф. - СПб. : ЛГОУ им. А. С. Пушкина, 2002. - С. 230-232;
Житенев А. Ответ рецензенту / А. Житенев // Филологические записки : Вестник литературоведения и языкознания. - Вып. 17. - Воронеж : Воронеж, ун-т, 2001. - С. 201-205;
Житенев А. Поэт и власть : О. Мандельштам и И. Бродский / А. Житенев // Филологические записки : Вестник литературоведения и языкознания. - Вып. 21. - Воронеж : Воронеж, ун-т, 2004. - С. 113-124.
Особенности создания лирической концентрации
Тема изгнания в лирике Бродского является одной из самых широко обсуждаемых. Изгнание Бродского трактуется в ней как результат отчуждения, серии отказов от позитивного самоопределения: "Бродский видит все, что угодно, из-за границы всего ... из пространства, откуда "нет возврата" ... Бродский изгнал сам себя в пустую потусторонность" (Смирнов 1997, 147). Изгнание может прочитываться метафорически - как "движение, бегство, странствие" (Гордин 2000, 230), управляемое, в конечном счете, "идеей возвращения из странствий", которая, собственно, и делает Бродского "изгнанником par excellence" (Вайль 1995, 194). Наконец, изгнание может выступать семиотическим анахронизмом, при котором художественная позиция Бродского не вписывается ни в "перевернутый мир советско-российской культуры", ни в "в доминирующие дискурсы культуры англо-американской", оказываясь лишь напоминанием о "евро- и логоцентрическом" западном наследии (Bethea 1994, 44-45) (ср. также буквальное прочтение изгнания как "эмиграции": Bednarczyk І990). При всем различии взглядов перечисленные подходы характеризуются общим невниманием к образной структуре текстов Бродского. Между тем образность в этом случае отнюдь не является привеском к теме, но выступает формой ее категоризации.
Ситуация изгнания для Бродского - это в первую очередь ситуация смыс-лопотери. Изгнание есть содержательный разрыв между прошлым й настоящим, актуализирующий вопрошание о жизненной цели в предстоянии гибели и забвению: И вот, отправляясь навек на дно, /хотелось бы твердо мне знать одно, / поскольку я не вернусь домой: / куда указуешь ты, вектор мой? ("Письмо в бутылке" - II , 72). Специфика самоощущения лирического субъекта связывается с представлением двух измерений бытия: измерения изгнания (недолжного настоящего) и измерения вне изгнания (продолжающейся обычной жизни других и собственного неосуществившегося настоящего). Изначально акцент ставится на неснимаемом характере их различия, в связи с чем жизнь изгнанника обессмысливается, и текст насыщается суицидальными мотивами: Ручкой, юноша, не мучь / замкнутую дверку. / Пистолет похож на ключ, / лишь бородка кверху ("Сокол ясный, головы..." - II, 79). Позднее изгнание переосмысляется как необходимое и закономерное звено в событийной цепи, и уже "параллельное" измерение жизненной нормы лишается ценностных предикатов: Я не стремлюсь уже / за козырек, за пуговку, за ворот, /за свой сапог, за свой рукав. /Лишь сердце вдруг забьется, отыскав, что где-то я пропорот ("Новые стансы к Августе" - II, 79). Изгнание тем самым получает жесткую окказиональную связь с ностальгией по неосуществившимся жизненным возможностям и запретом на удвоение времени и пространства. Это внешняя позиция по отношению к длящейся жиз ни, а постольку - неоценимый дар безыллюзорного самопознания: Прислушиваясь к грозным голосам, / стихи мои, отстав при переправе / за Иордан, блуждают по лесам, /оторваны от памяти и яви ("Сонет" — II, 59).
Намеченные направления метафорического осмысления изгнания в дальнейшем получают определенную детализацию. Точкой отсчета по-прежнему оказывается представление о двух параллельных смысловых пространствах -однако теперь они оказываются испытаны лирическим субъектом, который противостоит уже не собственным неосуществленным возможностям, но перспективе несовпадения с самим собой: Снявши пробу с / двух океанов и континентов, я / чувствую то же почти, что глобус. / То есть, дальше некуда. Дальше - ряд / звезд. И они горят ("Колыбельная Трескового Мыса" -III, 85-86) (о тексте см. Смит 2002; Bethea 1994, 90, 207). В соответствии с этим изгнание начинает связываться не с пребыванием вне культурной метрополии, а с превозмоганием самого себя, оказывающимся процессом необратимым: Есть города, в которые нет возврата / ... / Там есть места, где припадал устами / тоже к устам и пером к листам. И / там рябит от аркад, колоннад, от чугунных пугал; / там толпа говорит, осаждая трамвайный угол, / на языке человека, который убыл ("Декабрь во Флоренции" -III, 113) (о тексте см. Кбпбпеп 2002). Запрет на удвоение времени и пространства редуцирует ностальгию к проживанию изгнанности как прямого следствия интеллектуального становления: Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых /я листал бы тома с таким же количеством запятых, / как количество скверных слов в повседневной речи, / не прорвавшихся в прозу. Ни, тем более, в стих ("Развивая Платона" - III, 122). Абсолютным пределом изгнаннической темы выступает адресация к языку как единственной опоре, а вместе с тем - репрезентанту отчизны, какой она должна быть: Мне нечего сказать ни греку, ни варягу. / Зане не знаю я, в какую землю лягу. / Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу ("Пятая годовщина" - III, 147).
"Полевая эклога" (1963) (I, 276-280) значима тем, что в ней впервые обозначается дифференциация смысловых измерений изгнания, а постольку определяются основные параметры разработки этой темы. Показательна она и в том отношении, что является откликом на стихотворение "Сохрани мою речь навсегда", подверстывает некий итог в мандельштамовской мифологии саморепрезентации.
Непосредственная текстовая отсылка к стихотворению Мандельштама -образный ряд колодца: сруб колодца, опускание во тьму, татарские могилы (у Мандельштама: Обещаю построить такие дремучие срубы, / чтобы в них татарва опускала князей на бадье (Мандельштам 1991, I, 167)). Текстуальное совпадение подчеркнуто рядом дополнительных указаний на мандель-штамовский текст. Во-первых, ассоциирование мотивов русскости, поэтического творчества и изгнания само по себе продуцирует образ русского поэта-изгнаника. Во-вторых, отсутствие прямой предметно-логической связи между мотивами "Полевой эклоги" сигнализирует о наличии подтекста, управ ляющего их развертыванием. В-третьих, закавычивание колодца и бадьи недвусмысленно свидетельствует о цитации и заставляет искать точку отсчета.
Один из аспектов художественной рецепции Бродского - переосмысление "текста жизни", в котором существует манделыптамовское стихотворение. Обращенное к провиденциальному собеседнику, осознанное автором как обетование (Мандельштам Н. 1989, 105), оно изначально было ориентировано на отклик, на продолжение. При этом ответ Бродского связывается с переосмыслением образного строя манделыптамовского текста: в духе рецептивных установок манделыптамовской статьи "О собеседнике" стихотворение "Сохрани мою речь навсегда" трактуется Бродским с позиций наивного читательского восприятия. Поверка жизнью выражается в двух моментах: стремлении истолковать буквально образ колодца и интерпретировать его возможный иносказательный смысл строго однозначно. Материалом интерпретации оказывается при этом широкий контекст манделыптамовского творчества.
Специфика сюжетосложения
Точкой отсчета в развертывании всех тематических комплексов лирики Бродского может быть признано ощущение распада исторической преемственности. Претекст творчества Бродского - "Остановка в пустыне", повествующая не столько о "секуляризации духовного наследия" (Bethea 1994, 82) или конце "эллинистически-христианской цивилизации" в результате экспансии "татарщины" (Loseff 1989, 41), сколько об утрате непрерывной линии развития отечественной культуры: Сегодня ночью я смотрю в окно / и думаю, куда загили мы? /И от чего мы больше далеки: /от православъя или эллинизма? («Остановка в пустыне» - II, 167). Культурное безвременье, вызванное пресекновением традиции, связывается при этом с кумуляцией исторических катастроф, физически уничтоживших носителей культуры. В стихотворении "Einem altem Architekten in Rom", прогулка по послевоенному Кенигсбергу - "инициация в Европу ... оказывается инициацией в руины" (Венцлова 2002, 6\): Когда вокруг - лишь кирпичи и щебень, / предметов нет, и только есть слова. /Но нету уст. И раздается щебет (II, 81). Исходным материалом для освоения культуры выступает оторванный от своего исторического контекста литературный текст. Характерен в этом смысле опыт "проецирования на современность" ситуативных и образных стереотипов в "Шествии" (Романова 2003, 73), разыгрывание "вечных тем русской литературы" в "Петербургском романе" (Ранчин 2001, 173). Поиск собственной литературной идентичности определяется для Бродского априорными представлениями о настоящей культуре, долженствующей быть внеидеологичной (свободной от заданности эстетических решений) и космополитичной (ин-тегрированнной в общемировой культурный процесс). Ближайшей отечественной традицией, удовлетворявшей указанным требованиям, был русский Серебряный век. Таким образом, именно потому, что "за поэзией Бродского стоит опыт политического террора, опыт унижения человека и роста тоталитарной империи", подлинные истоки его поэтики лежат не в оттепельной эпохе, а в "эпохе европейского космополитизма, закончившейся с Первой мировой войной, а в России - с началом революции" (Милош 1997, 238).
Наследуя Серебряному веку, Бродский не мог не говорить с ним "на его языке" (Лосев 1997, 241). Однако будучи "законным сыном" русского модернизма, Бродский был одновременно "сыном мятежным" (Nivat 1990, 96). Выразилось это в том, что он взял за точку отсчета не метафизические конструкции, а проблемные ситуации Серебряного века. В результате из двух ориентиров модернизма, "полярных в конечных устремлениях", но совпавших с ним в "желании изменить мир" (Сарычев 1991, 6) - Бродский оказался определенно близок к Ф. Ницше, но не к Вл. Соловьеву. Вместе с тем Ницше был воспринят им весьма избирательно: релевантной оказалась не идея сверхчеловека, экстатического самозабвения или примата телесности, но идея ценностного релятивизма и связанное с ней представление о "человеке как таковом" (о поворотах этой идеи в русской культуре XX века см.: Заман-ская 1996, 75-78). При этом, подобно русским идеалистам, уверенным, что "глубина несчастного отрицания есть ступень на пути к новому обращению" (Войская 1996, 303), Бродский воспринимал ценностный релятивизм как необходимое условие личностной идентичности. Основным ориентиром здесь оказывается "адогматизм" Л. Шестова, и формировавшегося, и читавшегося "под знаком Ницше" (Морева 1997, 67). Чрезвычайно важно, что главной чертой общности, объединяющей Бродского и Шестова, является "неприятие системной философии" (Келебай 2000, 107) - вполне ницшеанский отказ от "последнего слова" в пользу "противоречивых, как сама жизнь, размышлений" (Шестов 2000, 454) (о Бродском и Шестове см. также: MacFadyen 1999, 28-29). Но если для Шестова этот отказ выступает своего рода пропедевтикой к развертыванию религиозной проблематики (см.: Морева 1997, 82), то для Бродского он связан с внерелигиозным исканием истины (что не исключает возможности варьирования отдельных шестовских мотивов: Келебай 2000, 108-123). Подобное "редуцированное" прочтение Шестова предопределяет неадекватность устоявшегося определения мировоззрения Бродского как "экзистенциального".
В той мере, в какой для Бродского, как и для Шестова, "истинно ценное" существует, но оказывается "абсолютно иррационально и невыразимо в категориях разума и морали" (Морева 1997, 43), на первый план выдвигается проблема опознания и освоения этого "истинно ценного". Для Шестова это проблема откровения, для Бродского - проблема интуиции. Последний момент актуализирует для Бродского гносеологические поиски Серебряного века с его попыткой не "не подходить к истине", а "исходить из нее" (Войская 1996, 304), определить возможные и необходимые основания для бытия-в-истине. Отправной точкой для размышлений поэта явилось объединившее русских интуитивистов убеждение в проницаемости границы между ноуменом и феноменом. Восстанавливая картину своего интеллектуального становления, Бродский считает возможным отметить в нем чтение Н. Лосского и С. Франка (Волков 2000, 191).
Сведенные вместе, отдельные моменты "гносеологической" темы образуют у Бродского достаточно отчетливую смысловую парадигму. Рациональное познание представляется схематизирующим, обескровливающим реальность (см. Ранчин 2001, 163), мистическое - чрезмерно спиритуализирующим ее (в этой связи интересны рассуждения Крепса: Крепе 1984, 56-59). Истина замыкается в пределах чувственного, преображенного средствами искусства. Сфера ее раскрытия - опредмеченное в слове, но все же не познанное лири ческое переживание: Искусство есть искусство есть искусство ... Ди кунст гехапт потребность в правде чувства ("Два часа в резервуаре" - II, 137) (глубокий комментарий к тексту см.: Лосев 1986, 130). Эта смысловая парадигма характеризует скептика, для которого "истина состоит в переживании как действительном факте", а познавательный порыв направляется стремлением слиться с познаваемым объектом, "стать им" (Шпет 1990, 160). Определение мировоззренческой позиции Бродского как скептической позволяет объяснить ее специфические черты. "Прямая соотнесенность мышления и поэзии, живой плоти экзистенции и рационалистической метафизики" (Лакербай 1996, 167) мотивируется скептическим стремлением де-конструировать логику средствами самой логики, обозначив перспективу "невмешаемого в слова и понятия" откровения (Шпет 1990, 196). "Невозможность что-либо высказать о мире" (Баткин 1996, 172), равным образом как и "отсутствие баланса идей" (Лосев 1980, 56) объясняется тем, что скептицизм, "начиная с оппозиции здравому смыслу, не возвышается над ним", а "возвращается в него", оказываясь "преддверием философии", а не ею самой (Шпет 1990, 189).
"Песня пустой веранды" (1968) в обозначенном контексте выступает своего рода конспектом "гносеологической" проблематики. Этим обусловливается и ее содержательная значимость, и репрезентативность сюжетообразо-вания. В этом тексте Бродский, исходя из двух полярных, хотя и соизмеримых художественных величин - Т. Элиота и О. Мандельштама, - пытается обобщить и переосмыслить накопленный за первую половину XX века опыт оправдания художественного творчества.
Элиотовский слой стихотворения наиболее очевиден - это, во-первых, мо-тивная структура, образованная прямыми и косвенными цитатами из поэм Элиота, и, во-вторых, система поэтическая, надстраивающаяся над этой структурой и восходящая уже к его литературно-критическим эссе. В плане содержания "Песня пустой веранды" представляет интересный пример "полемики как формы наследования": здесь обозначены пределы применимости элиотовского "классицизма в поэзии", а равным образом и мотивы их появления; соединяющий два периода творчества, этот текст наилучшим образом проясняет причины перехода Бродского от ранней "очарованности" Элиотом к позднему "восхищению со многими оговорками" (Большая книга интервью 2000, 603 - 605).
Особенности тропеической структуры
В рамках скептического миросозерцания особое значение получает абсолютно достоверное и замкнутое в переживании смыслопорождение. В очерченном идейном контексте любовь - это преодоление скепсиса, прорыв к бытию "как оно есть". Подобное видение предопределяет смысловые валентности любовной темы у Бродского.
Если любовь - акт-субстанция, абсолютное смысловое начало мира, то в этом качестве она противостоит всему остальному бытию: Я, кажется, пою одной тебе. / Скорее тут нужда, чем скопидомство. / Хотя сейчас и ты к моей судьбе / не меньше глуховата, чем потомство ("Северная почта" - II, 86). Возлюбленная выступает медиумом, во всех жизненных ситуациях переводящим внешнее на язык внутреннего: Зачем лгала ты и зачем мой слух /уже не отличает лжи от правды, а требует каких-то новых слов, / неведомых тебе - глухих, чужих, / но быть произнесенными могущих, /как прежде, только голосом твоим ("Элегия", 1968 — II, 249). Взятая в своем пределе, инициация в мир может соотноситься с сотворением мира, а статус медиума сменяться статусом демиурга: Я был лишь тем, что ты, / там, внизу, различала: / смутный облик сначала, / много позже черты ("Я был только тем, чего..." - III, 226). В этом смысле можно сказать, что у Бродского "любовная страсть сублимируется в космический план ... выражает идею космического эроса" (Лосев 1986, 291). Вместе с тем "любовный дискурс Бродского отчетливо эротизирован ("сперматизирован")" (Pilschikov 1995, 342): телесное обладание не противостоит в нем идеализации объекта (ср. иное мнение: Келебай 2000, 176-177), но завершает ее.
Перевод любви из земного в трансцендентный план принципиально меняет любовный сюжет. Статус акта-субстанции делает любовь принципиально непереводимой в бытовой план, а потому лишенной "истории": начала, кульминации, конца. Этим обстоятельством обусловливается постоянное присутствие возможности возобновления якобы ушедшего чувства: До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу / в возбужденъе. Что, впрочем, естественно ("Элегия", 1982 - II, 252). Довлея себе как определенное состояние, любовь отнюдь не исчерпывается инициацией в социальный мир (как считает Панн: Панн 1997: 169), не разрушается под действием времени (Курганов 1998, 177), не растворяется в рефлексивном переживании возможных способов ее запечатления в слове (Жолковский 1992, 287). Она может быть только изжита, изъята из ценностного контекста: Не пойми меня дурно: с твоим голосом, телом, именем / ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил, / но забыть одну жизнь человеку нужна как минимум, /еще одна жизнь. И я эту долю прожил ("Дорогая, я вышел сегодня из дому..." - IV, 64) (см. анализ текста в статье: Смирнова 1999).
В обозначенном контексте "Горение" (1981) (III, 78-80) значимо как текст, воспроизводящий все основные составляющие парадигмы любви в лирике Бродского. В той мере, в какой любовная тема в этом стихотворении решается тропеическими средствами, сами эти средства оказываются репрезентативны для лирики Бродского.
Следует заметить, что связь метафоры любви-горения с обширным рядом традиций является на самом деле достаточно условной. Текст Бродского уже в силу особенностей ее подачи оказывается соотносителен их ограниченному числу. На рубеже XVIII и XIX веков в поэтическом языке существовали три формы лексического и фразеологического обозначения любви: "... символ типа пламень ... жар (пламень чей, жар чей); перифрастическое сочетание (типа пламень, жар, огонь нежный, небесный; пламень, жар, огонь души, сердца, сердечный, Венерин, Эрота) и описательно-метафорическое сочетание (огонь, пламень, жар любви, любовный, страсти ... )"; при этом, если "... поэты XVIII века предпочитали символ и перифразу, поэты XIX века культивировали описательно-метафорическое сочетание и символ" (Поэтическая фразеология Пушкина 1969, 211). В художественном сознании Бродского метафора любви-пламени под давлением поэтического контекста Серебряного века развертывается и реализуется. Первообразы такой трансформации можно обнаружить в ряде индивидуальных поэтических систем. У А. Блока с различными аспектами образа пламени связывается один из вариантов мифа о пути: от озаренности светом Души Мира - к жизни гибельному пожару, в котором сгорает лирическое "я", и, наконец - к углю и алмазу (Минц 2000, 543). В поэтической мифологии М. Цветаевой "... по образцу божества огня моделируется ... "я". И это "я"-божество-огонь, как мифологическое божество-огонь, нуждается в жертве огня ... Там, где речь идет о высшей форме бытия, о бессмертии, об идеальной гармонии, - там речь идет и об огне во всех его формах" (Faryno 1989, 109-110). Развертывание и реализация семантической фигуры остается, однако, художественной условностью, если не соотносится с глубиной лирического переживания. Еще одним поэтическим контекстом любви-пламени оказывается в этой связи переведенный Бродским текст Ц. Норвида - "В альбом" (1861), где огонь метафорически воплощает посмертную самооценку человека: Как древо просмоленное, пыланьем / Ты весь охвачен там, но не уверен /В свободе, порождаемой сгораньем: / Не будешь ли весь по ветру развеян? (Норвид 1972, 65).
Лирический зачин устанавливает, благодаря сравнению, связь между настоящим и прошлым лирического субъекта: Зимний вечер. Дрова / охваченные огнем - / как женская голова / ветреным ясным днем. Сравнение реализуется, атрибуты огненности переводятся в разряд субстанциальных: в лирической рефлексии возлюбленная видится онтологически причастной огню. Ее образ выступает из предельно интенсифицированного света: Как золотится прядь, / слепотою грозя! / С лица ее не убрать. / И к лучшему, что нельзя. Огненное "я" возлюбленной, возникая в воспоминании, обнаруживает свойства сущности надпространственной и надвременной: Не провести пробор, / гребнем не разделить. Эта близость к "вечному" атрибутирует ей способность быть носителем абсолютного знания о лирическом субъекте и произвольно вершить его судьбу: Может открыться взор, / способный испепелить.
Огненность создает ирреальное пространство идеализированного контакта, в котором любовные перипетии проживаются заново, выстраиваясь в логическую, а не временную структуру. Исходной точкой реконструкции событий оказывается семантизация пламени. Женский образ обретает чувственную конкретность, метонимически заимствуемую у огня: Я всматриваюсь в огонь. / На языке огня / раздается "не тронь" / и вспыхивает "меня!" Содержанием порождаемого огнем любовного "сообщения" оказывается непостижимый антиномизм желания: Я слышу сквозь хруст в кости / захлебывающееся "еще!" / и бешеное "пусти!" Интенсивное переживание "узнавания" встраивается в некоторый ряд прецедентов, создающий единый "текст" понимания. Сила метафорического проникновения в огненную суть женщины мыслится при этом как абсолютная. В апеллирующем к началу текста "куаферском" образном ряду этот момент обозначен градацией: Я узнаю / патлы твои. Твою /завивку: В конце концов - /раскаленность щипцов!
Поскольку главным открытием оказывается единство жизни в свете любви, содержанием оказывается восхищение самоидентичностью огня, метонимически относимое к неизменности женского облика: Ты та же, какой была/ прежде. Тебе не впрок/ раздевшийся догола, / скинувший все швырок. Понятый как встреча после разлуки, контакт в ирреальном пространстве - это метафорический постскриптум, завершающий любовь в слове. В нем горение мотивировано предельно интенсивным взаимодействием двух "я", а гибель - абсолютной взаимной увлеченностью: Только одной тебе / свойственно, вещь губя, / приравниванье к судьбе / сжигаемого - себя! Закономерно, что заданный режим общения лишь распределяет роли в метафоризированной ситуации. Даже апелляция к сиюминутности живого контакта подчеркивает одновременную явленность и неявленность чужого "я": Впивающееся в нутро, / взвивающееся вовне,/ наряженное пестро, /мы снова наедине!
Специфика композиционного строя
Любовь и смерть в концептуальной системе поэта значимы как экзистенциальные эктремумы, однако первично жизнь протекает не в предстоянии им, а в погруженности в однообразное, лишенное ценностной нагруженности существование. Ввиду общей ориентированности на состояния экзистенциальной собранности оно представляется неподлинным, однако в силу своей протяженности не позволяет с собой не считаться. \ Жизнь "как она есть" воспринимается, в силу свойственной ей бессвязности, вторгающейся в сознание и разрушающей его смысловые скрепы, как хаос: Бессонница. Часть женщины. Стекло / полно рептилий, рвущихся наружу. / Безумье дня по мозжечку стекло / в затылок, где образовало лужу ("Литовский дивертисмент" - II, 420). Объем впечатлений, как и их взаимная интегрированность, делают действительность трудно членимой, сводимой к семиотическому "шуму": Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме: / на его лице, у него в уме / ничего, кроме ряби ("Колыбельная Трескового мыса" - III, 90). Отраженное в сознании, хаотическое бытие расслаивает его на ряд измерений с дискретным, нестыкующимся содержанием: Мозг чувствует, как башня небоскреба, / в которой не общаются жильцы. / Так пьянствуют в Сиаме близнецы, / где пьет один - забуревают оба ("Двадцать сонетов к Марии Стюарт" - III, 67).
Неструктурированность повседневности, отраженная в скептическом сознании, делает проблематичным принятие временного потока. Время оказывается силой, разрушающей преемственность ценностных контекстов, в силу чего личностное существование лишается устойчивости: Жизнь бессмысленна. Или / слишком длинна. Что в силе /речь о нехватке смысла / отставляет ("Мексиканский дивертисмент" - III, 99). Время препятствует замыканию сознания на определенном предмете, делая неустойчивой идентичность лирического субъекта: Все, что я мог потерять, утрачено / начисто. Но и достиг я начерно / все, что было достичь назначено ("1972 год" - III, 17) (о теме времени у Бродского см.: Ваншенкина 1994; Крепе 1984, 245-250; Лотман 1997; Журавлева 1992 и др.). Единство этих моментов сообщает жизни характер "череды потерь и пропаж" (Лотман 1997, 189), однако оно же высвобождает смысловое место для Бога.
"Бог, названный или не названный, существовал в поэзии Бродского начиная с самых ранних стихотворений" Polukhina 1989, 263). Бог в лирике Бродского - это в первую очередь "собиратель" и хранитель бытия, зиждитель его целостности: Страницу и огонь, зерно и жернова, / секиры острие и усеченный волос - /Бог сохраняет все, особенно - слова / прощенья и любви, /как собственный свой голос ("На столетие Анны Ахматовой" - IV, 58). Кроме того, Бог - обладатель абсолютного знания, гарант осмысленности всего сущего: И по комнате, точно шаман кружа, / я наматываю, как клубок, / на себя пустоту ее, чтоб душа / знала что-то, что знает Бог ("Как давно я топчу, видно по каблуку" - IV, 25). Однако даже обладая определенным метафорическим вектором, поэзия Бродского "лишается голоса как раз там, где, казалось бы, пророк должен только обрести голос" (Кривулин 1977, 144): на границах физического мира. Развертывание религиозной проблематики его лирики определяется двумя обстоятельствами: априорно рационалистическим исканием Бога, "ощущением свободы мышления", "намерением идти к Богу только своим путем" (Келебай 2000, 220) и столь же априорной убежденностью, что "все формы прагматического высказывания неадекватны для выражения религиозного опыта" (Loseff 1989, 193).
В основе любой религиозной аксиоматики лежит представление о Боге как абсолютно независимой от человеческого существования субстанции. В лирике Бродского это представление изначально не выдерживается, ибо Бог мыслится преимущественно в модусе явленности - точкой отсчета оказывается переживание "священного", но не независимое бытие Бога. Как следствие, Бог Бродского отчетливо субъективируется, растворяется в переживании: И Младенца, и Духа Святого /ощущаешь в себе без стыда; / смотришь в небо и видишь I - звезда ("24 декабря 1971 года" — III, 8). Отсюда - потенциальное тяготение образа Бога к редукции в моральный принцип, в идею - в "небо".
Для религии противостояние Бога миру и Его живое присутствие в нем являются безусловной данностью, не нуждающейся ни в каком удостоверении. Для Бродского, пытающегося "вопрошать Всевышнего ... минуя посредников: предание, Писание, Церковь" (Кублановский 1991,,244), связь Бога и мира ничем не подтверждаема, а потому мнима; скептическая позиция поэта изначально накладывает запрет на развертывание мотивов Завета и молитвы. "Разговор с небожителем" (II, 361-367), аккумулируя самые разные мотивы религиозного дискурса русской лирики, фактически повествует только об одном: о непреодолимом и бесповоротном "затмении Бога". Содержательная дефиниция веры как почты в один конец закономерно приводит к сознательному разрушению контакта с Богом {Не стану жечь / тебя глаголом, исповедью, просьбой - Не стану ждать / твоих ответов, Ангел), в силу чего разговор сводится к медитации на тему собственной личностной состоятельности (Благодарю ... что ты не в масть / моим задаткам, комплексам и форам / зашел), а в конечном счете и вовсе сходит на нет (Теперь отбой, / и невдомек, / зачем так много черного на белом?). Едва ли содержание этого текста сводимо к абсурдной вере: "Я верю, невзирая на разум и свой жизненный опыт; я верю, потому что это абсурдно" (Polukhina 1989, 273); вернее было бы сказать, что оно "подчеркивает величие молчания, отделяющего человека от Бога" (Нокс 1997, 164). Следует добавить, что в той мере, в какой это молчание выводит Бога из объектной сферы человека, лирический субъект Бродского вообще может тяготеть к атеизму (ср. Ранчин 2001, 165).
Для религиозного сознания жизнь протекает в провиденциальном измерении, настраивающем на переживание пронизаннности мира Богом. В лирике Бродского, в силу разорванности связей горнего и дольнего, Бог не только не явлен в тварном бытии, но и индифферентней к нему, не на него ориентирован. "Бабочка", открывая тему теодицеи, сама же ее и закрывает. "Бог Бродского, - как отмечает Д. Бетея, - хотя и является прекрасным ювелиром .. все же "берет нас в клещи" ... И тогда все наши попытки найти место своей одухотворенной природе в общей картине мироздания тщетны, ибо мы остаемся лишь предметом в руках Бога" (Бетея 1991, 172). Поскольку для поэта мир создан был без цели, / а если с ней, / то цель - не мы, его позиция - прямое "опровержение религиозной точки зрения", согласно которой "Бог есть, и все, созданное Им, создано для человека -венца творения" (Крепе 1984 , 89-98) (о "Бабочке" см. также Polukhina 1989, 181-194). Еще одним полюсом притяжения для Бродского оказывается, таким образом, рационалистический философский деизм.