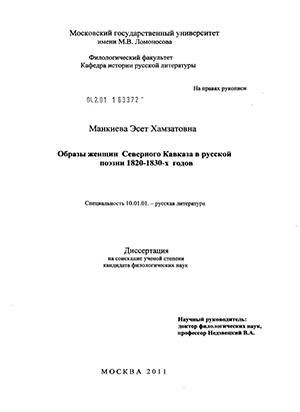Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Западноевропейские истоки темы. 16
Глава 2. Черкешенка или Пленник? «Кавказский пленник» А.С.Пушкина. 30
Глава 3. Образы кавказских горянок в поэзии М.Ю.Лермонтова. 51
3.1. Пленник или Черкешенка? «Кавказский пленник». 51
3.2. «Каллы». 60
3.3. «Аул Бастуйджи». 65
3.4. «Измаил - Бей». 73
3.5. «Хаджи-Абрек». 102
3.6. «Беглец». 110
Глава 4. Место образа женщины - мусульманки в поэмах и лирике А.И.Полежавева. 124
4.1. Поэмы «Эрпели» и «Чир-Юрт». 125
4.2. «Кладбище Герменчугское». 133
4.3. Лирика 136
Заключение 141
Библиография 152
- Пленник или Черкешенка? «Кавказский пленник».
- «Каллы».
- Поэмы «Эрпели» и «Чир-Юрт».
- «Кладбище Герменчугское».
Введение к работе
Предмет исследования - произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.И. Полежаева 1820-1830-х годов на «кавказскую» тему, особенности женских образов в них, связанная с ними проблематика, а также особенности поэтики «кавказских» поэм и лирики указанных поэтов. При этом поэтика произведений рассматривается в аспекте образов женщин и связанных с ними мотивов.
Актуальность темы диссертации обусловлена как ее широким общекультурным интересом в современной России, так и крайне малой изученностью в отечественном и зарубежном литературоведении. Исторически сложилось так, что Кавказ сыграл заметную роль в росте свободолюбивых идей и настроений, свойственных передовой русской интеллигенции, в особенности литературной. Знакомство ее представителей с самобытной культурой Северного Кавказа обогатило многих российских художников слова, порождая и стимулируя замечательные творческие замыслы. В свою очередь гуманистическая русская культура и художественная литература оказали огромное плодотворное воздействие на развитие литературы и искусства северокавказских народов.
Научная новизна работы определена по возможности исчерпывающим охватом произведений русской поэзии 1820-1830-х годов, относящихся к ее теме, включая небольшие стихотворения, а также поэтические тексты, где женские персонажи выступают в служебной роли к лицам главным или представлены лишь в собирательном образе.
Цель исследования состоит в анализе образов северокавказских женщин в русской поэзии указанного периода.
Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
Выявление литературных истоков темы кавказской («восточной») женщины в творчестве русских поэтов-романтиков 1820 - 1830-х годов.
Раскрытие характера Черкешенки и причин ее трагической судьбы в «Кавказском пленнике» А. Пушкина.
Показ своеобразия трактовки женских героинь в «кавказских» поэмах М. Лермонтова.
Фиксирование обобщенных образов и художественных функций женщин-горянок в поэмах А. Полежаева «Эрпели» и «Чир-Юрт», в большом стихотворении «Кладбище Герменчугское», а также их лирических модификаций в отдельных стихотворениях поэта.
Методология диссертации основана на принципе конкретного историзма и сочетании индуктивных наблюдений с итоговыми обобщениями. Теоретическая категория художественного образа понимается нами в соответствии с его трактовкой В.Е. Хализевым: в отличие от понятия как логической «формы освоения мира» образ есть «чувственная <.. .> воплощенность представлений» о нем . «Художественный образ, - дополняют Хализева В.А. Скриба и Л.В. Чернец, - феномен сложный. В нем как в целостности интегрированы индивидуальное и общее, существенное (характерное, типическое), равно как и средства их воплощения. Образ существует объективно, как воплощенная в соответствующем материале авторская конструкция, как "вещь в себе". Однако становясь элементом сознания "других", образ обретает субъективное существование, порождает эстетическое поле, выходящее за рамки авторского замысла» . Исследование характеров женщин-горянок учитывает принципы понимания литературного характера, выдвинутые А.Г. Цейтлиным, Л.Я. Гинзбург, М.М. Бахтиным. Обращение к недостаточно разработанному в литературоведении понятию национального характера в рамках нашей работы строится на том вкладе,
1 Хализев В.Е. Теория литературы. М, 2000. С.90.
2 Введение в литературоведение. Под редакцией Л.В.Чернец. М, 2004. С.32.
который внесли в исследование этого вопроса Г. Ломидзе, В. Оскоцкий, Ю. Суровцев, Н. Утехин.
Практическая значимость работы заключается в использовании ее результатов при подготовке тематически близких ей как историко-литературных, так и компаративистских лекционных курсов по русской классической литературе.
Структура исследования. Диссертация состоит из четырех глав, введения, заключения и библиографии.
Апробация результатов. Изложенные в диссертации идеи нашли отражение в публикациях автора:
Образ женщины-горянки в поэме М.Ю. Лермонтова «Беглец» // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. № 6 (38). Нальчик, 2010. Ч. П. С. 105-112.
Поэма М.Ю. Лермонтова «Измаил-Бей» (гендерный аспект) // Этносоциум и межнациональная культура. № 1(33). Москва, 2011. С. 153-176.
Воплощение принципов романтической эстетики в поэме А.С. Пушкина «Кавказский пленник» // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. № 2(40). Нальчик, 2011.
Пленник или Черкешенка? «Кавказский пленник».
Обратимся сначала ко второй. У Пушкина одноименная героиня цельностью своего характера, действенностью, способностью любить и силою этого чувства превосходила Пленника-европейца настолько, что самую поэму, по словам ее автора, «приличнее было бы назвать "Черкешенкой"». Рядом привлекательных человеческих черт наделена Черкешенка и в ее лермонтовском варианте. Вот ее первое явление «младому русскому» герою произведения:
Вдруг видит он перед собою: С улыбкой жалости немой Стоит черкешенка младая\ Дает заботливой рукой Хлеб и кумыс прохладный свой, Пред ним колена преклоняя. И взор ее изобразил Души порыв, как бы смятенной. .. . И долго, долго, как немая, Стояла дева молодая. И взгляд как будто говорил: «Утешь себя, невольник милый; Еще не все ты погубил». И вздох не тяжкий, но унылый В груди раздался молодой... (Курсив наш. — Э.М.).
Очерченный здесь душевный облик героини свидетельствует о глубокой гуманности ее сердца, побуждающей, с огромным риском для себя, утешить и, в сущности, неведомого ей страдальца, с которым ее сближает, однако, только общая им... молодость. Ведь и сделанное в следующей строфе авторское сообщение о том, что героиня «Четверту ночь к нему (Русскому. — Э.М.) ходила / .. . и пищу приносила; / Но пленник часто все молчал, I Словам печальным не внимал....» (курсив наш. — Э.М.), фактически ничего к первоначальной ее характеристике не добавляет.
В итоге и герой поэмы «Не понял ... ее стремленья / Ее печали и волненья; / Не думал он, чтобы она / Из эюалости одной пришла, / Взглянувши на его мученья; / Не думал также, чтоб любовь / Точила сердце в нем и кровь; /Ив страшном был недоуменье» (курсив наш. — Э.М.). Со своей стороны и лермонтовская Черкешенка признается Пленнику в вечной к нему любви, строго говоря, лишь в последнем свидании с ним: «Ах, русский! русский! что с тобою! Почто ты с жалостью немою, Печален, хладен, молчалив, На мой отчаянный призыв... ... Готова я часы досуга С тобой делить. Но ты сказал, Что любишь, русской, ты другую. .. . Забудь ее, готова я С тобой бежать на край вселенной! Забудь ее, люби меня, Твоей подругой неизменной...»
Но и в этот момент она, как прежде, никак не мотивирует своего чувства, остающегося в своих истоках непроясненным и для героя поэмы, и для ее читателей. И дело здесь не в праве романтического героя на его авторскую недосказанность или таинственность. Психологическая обоснованность и убедительность всезахватывающей, тем более внезапной сердечной страсти отнюдь не исключались, а предполагались поэтикой высокого романтизма. В «восточных повестях» Байрона так изображены, в частности, чувства Гульнары к Конраду («Корсар»), Паризины к двадцатилетнему Уго, внебрачному сыну ее мужа, князя Адзо («Паризина») или Франчески Минотти к Альпу («Осада Коринфа»). В «Кавказском пленнике» Пушкина возможность любви героини к иноземцу и иноверцу обусловлена и сходством несвободных положений обоих, и сердечной пылкостью девушки, и неравнодушием к ее ласкам со стороны русского Пленника, не узнавшего взаимного чувства от его русской
возлюбленной. Между тем Пленник лермонтовский, в «родной стране» оставивший любимую и любившую его женщину, ее «вечно милому» образу верен и в своем кавказском плену. В отношениях же с Черкешенкой он желал лишь «благодарным быть», да и то «сердце жаркое терялось / В его страдании немом, И как в тумане зыбком, в нем / Без отголоска поглощалось!...», но «не хотел ее любить». «Сердца своего» «не мог открыть» он, «И слезы девы черноокой / Души не трогали его...» и на ее «отчаянный призыв» к нему в их последнем свидании.
Героиня Лермонтова в своей страсти к Русскому рассчитывать на его ответное чувство с начала и до конца их встреч, таким образом, не могла. И поняв это, она, уже освободив его от оков, в прощальных словах вполне естественно просит его о немногом: в будущем счастье своем иногда вспоминать ее («Быть может... скажешь ты уныло: "Она любила и меня!"...»). Естественно и то, что, спрашивая в строфе XXVI второй части поэмы у любимого «Скажи мне: жить иль умереть?!!», она в уже в строфе XXVIII явно не собирается ускорять свою смерть («Ах!., вспомни обо мне тогда... Тогда)... быть может уж могилой / Желанной скрыта буду я...») (курсив наш. - Э.М.).
А решает броситься в Терек, потрясенная неожиданной гибелью любимого («Как вместе с ним поражена / Без чувства падает она...») от руки ее отца и, по-видимому, сознанием своей невольной вины в случившемся.
И в сцене мотивированного этой гибелью самоубийства обретает как подлинную художественную убедительность, так и то величие своего образа, в котором юный Лермонтов, состязающийся со своим учителем Пушкиным, думается, творчески равняется с ним.
«Каллы».
На поэтику и проблематику «восточных повестей» Байрона Лермонтов будет во многом ориентироваться и в таких самобытных поэмах 1830 — 1834 годов, как «Каллы», «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей», «Хаджи Абрек». Последовательно рассмотрим их в свете нашей темы. 3.2. «Каллы»
Непосредственно на связь этого произведения с «байронической» поэмой указывает, во-первых, его подзаголовок («Черкесская повесть») и, во-вторых» эпиграф, строки которого почерпнуты из «Абидосской невесты» (песнь первая, строфа I). Вот их почти дословный перевод: Это природа Востока; это страна Солнца -Может ли оно приветствовать такие деяния, какие совершили его дети? О! неистовы, как голоса прощающихся любовников, Сердца в их груди и рассказы, которые они передают А вот этот же фрагмент поэмы Байрона в ее поэтическом переводе Иваном Козловым:
Тот край - Восток, то солнца сторона! В ней дышит все божественной красою, Но люди там с безжалостной душою; Земля как рай. Увы! Зачем она — Прекрасная - злодеям предана! В их сердце месть; их повести печальны, Как стон любви, как поцелуй прощальный.
Как следует из эпиграфа, лермонтовская поэма была призвана в свой черед поведать читателю о каком-то жестоком деянии в духе обычаев не европейско-христианских, а восточных. Это — кровная месть. Однако, в отличие от Байрона, назвавшего «Абидосскую невесту» «турецкой повестью», Лермонтов переносит место действия «Каллы» на Северный Кавказ, знакомый ему уже по лету 1825 года, проведенному с Е.А. Арсеньевой в Горячеводске (Пятигорске). Существенно видоизменяет он и мотив, побудивший его героя — молодого черкеса Аджи — взяться за орудие мщения, и сам его результат.
Герой «Абидосской невесты», духовно благородный племянник паши Яфара Селим, знающий о его страшном преступлении (тот давно отравил отца Селима, своего брата Абдалу) и сам грязно оскорбленный им («"О сын рабы!" -паша вскричал: / Напрасно я надеждой льстился, / Чтоб ты с годами возмужал. От нечестивой ты родился!.."»), сначала, подобно шекспировскому Гамлету, заявляет: «Его обид я не забуду; / Кипит во мне отцова кровь...»1 . Однако, горячо влюбленный в дочь Яфара Зулейку, отказывается от мщения («Но в том по порукою любовь, / Что для тебя - я мстить не буду») и в конце поэмы сам погибает от пули из карабина Яфара. В сюжетную основу своей поэмы Лермонтов положил черкесское предание, известное также в позднейшей обработке П.П. Шан-Гирея . Герою «Каллы» о давней насильственной гибели его отца, матери и брата сообщает вместе с именем их убийцы - Акбулата - «мулла жестокий». Он же, призывая Аджу отомстить Акбулату («За все минувшие злодейства / Из обреченного семейства / Ты никого не пощади; / Ударил час их истребленья!»), выдает свой чудовищный в устах священника совет за «божий глас», а кровную месть - за «подвиг», якобы назначенный «законом, клятвой и судьбой».
Аджи, неопытный «сердцем и годами», очевидно, поэтому не смеет возразить почитаемому в народе священнослужителю, хотя ни одним словом не подкрепляет и свое согласие с ним. «Но чуждый страха, — говорит повествователь поэмы, - он готов / Обычай дедов и отцов / Исполнить свято над врагами, / Он поклялся — своей рукой / Их погубить во тьме ночной» (курсив наш. - Э.М.).
Исполнить навязанную муллою клятву оказалось для Аджи тем не менее мучительно сложно. Он, не колеблясь, вонзил кинжал в грудь спящего сына Акбулата. Но «взор потупил свой», узрев бессильного и покорного главу семейства: «Пред ним старик: власы седые! / Черты открытого лица / Спокойны, и усы большие / Уста закрыли бахромой! / И для молитвы сжаты руки!» (Курсив наш. - Э.М.). И только услышав «мщенья ... звуки», как будто произнесенные его собственным отцом, Аджи вновь пускает в ход кинжал.
После чего с трепетным биеньем сердца размышляет: «Ведь дочь была у Акбулата! - И ждет ее в семнадцать лет / Судьба отца и участь брата...».
Так, в анализируемой поэме Лермонтова впервые появляется женский «персонаж»:
Мила, как сонный херувим, Перед убийцею своим Она, раскинувшись небрежно, Лежала; только сон мятежный, Волнуя девственную грудь, Мешал свободно ей вздохнуть. Однажды, полные томленья, Открылись черные глаза, И, тайный признак упоенья, Блистала ярко в них слеза... (Курсив наш. — Э.М.)
Нарисованный в этом десятистишии образ юной черкешенки отмечен скорее общими для невинных юных девушек, чем индивидуально-неповторимыми чертами, и в рамках нашей диссертационной темы может показаться маловажным. Думаем, это впечатление ошибочно. Обратим внимание: из шести стихотворных фрагментов, составивших поэму, ее безымянной героине посвящен фрагмент третий, т.е. центральный. Уже это обстоятельство придает ее красоте и чистоте значение большее, чем просто дополнительное средство еще резче оттенить безобразие и ужас ожидающего ее злодеяния.
Поэмы «Эрпели» и «Чир-Юрт».
Начнем с полежаевских поэм. Определяя своих литературных учителей, Полежаев в начале VI-ой главы «Эрпели» называет А. Пушкина как автора «Кавказского пленника», Вальтер Скотта и Дж. Г. Байрона134, которому во второй песне «Чир-Юрта» посвящает специальное обращение:
Певец Гюльнары! Для чего В избытке сердца моего, В порывах сильных впечатлений, Назло природе и судьбе, Зачем неравен я тебе Волшебным даром песнопений! Тогда бы кистию твоей, Всегда живой и благородной, Я тронул с гордостью свободной Сердца холодные людей; Тогда, владыка величавый Перуна, гибели и зла, Изобразил бы я дела Войны жестокой и кровавой: Отважный приступ христиан, Злодеев яростную встречу, Орудий гром, пальбу и сечу, И смерть, и кровь, и трепет ран... Изобразил бы я страданье Полуживого мертвеца; И жил и членов содроганье. Его последнее дыханье И чувства мертвого лица... Но ты, певец души и чувства, Умея смертных презирать, Ты нам не передал искусства Умы и души волновать! Как непонятное явленье Исчезло мира изумленье — Великий гений и поэт... Осиротевшая природа И Новой Греции свобода Вещают нам: Байрона нет!.. (С. 300 - 301. Курсив наш. - Э.М.).
Самооценка эта, продиктованная скромностью русского «байрониста», вне сомнения, весьма занижена. На деле Полежаев во многих сценах обеих своих «кавказских» поэм ничуть не менее детально, выразительно и волнительно для читателей, чем Байрон в «Осаде Коринфа», где венецианцы сражаются с турками, воспроизвел не одни победы русского оружия над противостоящими ему силами горцев, но и весь ужас войны как для отдельных людей, так и для целых этносов.
К тому же, сделал это на основе оригинальной совокупности художественных стилей, включающей в себя наряду со стилем собственно романтическим и порой по отношению к нему ироническим, также своеобразную реставрацию стиля одического. Примерами первого стилевого начала может служить в поэме «Эрпели» следующее авторское отступление из конца главы VI-ой: «О Эрпели, о Эрпели! / И ты уроком для земли! / И ты, быть может, для поэта / В другие дни, в другие лета / Послужишь пищею живой! / Ты воскресишь воспоминанье / О бурях сердца, о страданье / Души, волнуемой тоской, / Под игом страсти роковой!» (С. 250). А в «Чир-Юрте» - начало «песни первой»: «Цель бытия души высокой, / Удел и жизнь полубогов — / Сияет слава в тьме веков, / В пучине древности глубокой. / Подобно юной красоте / В толпе соперниц безобразных, / Подобно солнцу в высоте / Перед; игрой лучей! алмазных, / Она блестит, она; горит / Без украшения и убранства, /Среди бесплодного тиранства / Своих ничтожных: эвменид»(С. 281). И т.д.
Свою; иронию Полежаев в «Эрпели» (начало и конец главы? Щ адресует традиционным романтическими представлениями о Кавказе, которые еще живы1 средитехюных россиян,, «кто любит дикие картины /В: их первобытной наготе; / Ручьи, леса; холмы, долины / В нагой природы, красоте; / Кого пленяет дух свободы, / ВіЕвропевьішедшей из моды / Назадтому немного лет...». Предлагая кому-либо из них «пройтиться на Кавказ»; автор поэмы вопрошает его: «Не; восхищался ли; как прежде, / Одним названием Кавказ? / Не дал ли крылышек надежде / За чертовщиною лететь, / Как-то: черкешенок смотреть,, / Пленяться день и ночь громами, ... Эльбрусом, борзыми конями, ... / Шпрочая...» (С. 230; 233-234); И охлаждает ожидания: такого любителя Кавказа своим; собственным, нарочито сниженным здесь его восприятием:
Пришед- сюда, я взором диким Окинул все, что прежде мне Казалось чудным и великим; — И всем скучал наедине, В шуму пиров и тишине! Все эти дивные картины: Каскады, горы и стремнины... С окаменелою душой, Убитый горестною долей; На них смотрю я поневоле, И верь мне: вижу из всего Уродство — больше ничего!-(С. 234).
Что касается горянок-мусульманок, то в обеих поэмах Полежаева их сколько-нибудь индивидуализированные образы сменились лишь образами собирательными и, кроме того, данным в контексте тех жестоких событий, 1831 года, которые участвовавший в них поэт положил в сюжетную основу данных произведений. А это — поход русских войск под командованием Р.Ф. Розена для усмирения восставших горцев селения Эрпели в нагорном Дагестане и второй поход русских с той же целью под началом А.А. Вельяминова к чеченскому селению Чир-Юрт. В обоих случаях причиной восстаний ранее мирных горцев стали фанатичные призывы к ним Кази-Муллы, или ших-Гази-хан-Мухаммеда (1785 - 1832), проповедника мюридизма - религиозно-политического учения, сторонники которого боролись против российского влияния на Кавказе.
Подобно многим соотечественникам 1820 — 1830-х годов, Полежаев, по всей очевидности, разделял убеждение в благотворности присоединения Северного Кавказа к России не только для нее, но и для населявших его народностей. Сам жертва грубейшего деспотизма, поэт не мог не понимать чувства горцев, воспламененных идеей народной свободы. Он не без уважения говорит о той части не примиренных дагестанских койсубулинцев, «отважный бунт» которых не остановили «ни жребий явный истребленья, / Ни меры кроткие главы / Победных войск и ополченья / В виду защитной их горы, ни увещания тавлинцев...» (С. 252). И побежденный русскими Чир-Юрт он сопровождает такими строками: «И ты сей жребий испытал, / Чир-Юрт отважный, непокорный! / Ты грозно бился, грозно пал / С своей гордынею упорной» (С. 296).
«Кладбище Герменчугское».
Большое стихотворение «Кладбище Герменчугское» (1833), навеянное впечатлениями Полежаева от штурма 23 августа 1832 года крупного чеченского селения на реке Аргун, в котором поэт принимал участие, и последующим зрелищем его погоста, по жанру восходит к философской элегии — от предромантического «Сельского кладбища» Томаса Грея (в России известно в трех переводах В.А. Жуковского, наиболее близкий к оригиналу был сделан в 1802 г.) до пушкинской «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).
И в своем начале звучит как традиционное для данной формы раздумье о бренности человеческого существования и еще недавних людских страстей: «Все тихо, мертво: все гласит / В природе час успокоенья... И он настал: не воскресит / Ничто минувшего мгновенья. / Оно прошло, его уж нет / Для добродетели и злобы! / Пройдут мильоны новых лет, / И с каждым утром новый свет / Увидит тоже: жизнь и гробы!».
Но вскоре эта печальная, однако бесстрастная констатация пополняется нравственным критерием поэта, определяющим разную участь ушедших людей в памяти новых поколений - либо скорое забвение, либо, напротив, вечную память: Цари, герои, раб убогий, — Один готов для вас удел! Цветущей, тесною дорогой Кто миновать его умел? Как много зла и вероломства Земля могучая взяла! Хранит правдивое потомство Одни лишь добрые дела... (Курсив наш — Э.М.).
Как и в поэмах «Эрпели» и «Чир-Юрт», граница между добром и злом -применительно к конкретной судьбе жителей Герменчуга — обусловлена у Полежаева их выбором: в пользу мира с многократно превосходящими их силами русских войск или отчаянно смелой и упорной, но неминуемо губительной для них войны с ними. Горцы выбрали второе:
О воин, о Герменчуг! Давно ли пышный и огромный, Среди завистливых врагов, Ты процветал под тенью скромной Очаровательных садов? Но ты, в безумстве роковом, Восстал под знаменем гордыни -И пред карающим мечом Склонились дерзкие твердыни... Ты ждал громового удара; Так вызывал свою судьбу — И пепел грозного пожара Решил неравную борьбу!.. И вот жуткий для глаз и сострадательно-любящей души поэта результат опрометчивого выбора:
Сверкает полная луна Из туч багровыми лучами... Я зрю: вокруг обагрена Земля кровавыми ручьями. Вот труп холодный, вот другой На рубеже своей отчизны. Здесь обезглавленный, нагой; Там — без руки страдалец жизни; Там груда тел.. Кладбище, ров. Мечети, сакли - всё разбито Перунов тысячи громов...
И в «Кладбище Герменчугском» русский поэт отдал дань самоотверженности мужской части селения, закончив стихотворения такой эпитафией одному из горцев: «Один под ризою ночною, / В тумане влажном и сыром, / С моей подругою-мечтою / Сижу на камне гробовом. / Не крест — символ души скорбящей — / Стоит над чуждым мертвецом: / Он славен гибельным мечом, / А меч - символ его грозящий... / Быть может, тень его парит, / Облекпшсь в бурю надо мною, / И невидимою рукою / Пришельцу дерзкому грозит; / Быть может, в битве оживляла / Она отчизны бранный дух / И снова к мести призывала / Сокрытый в пепле Герменчуг».