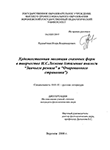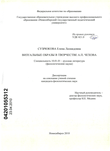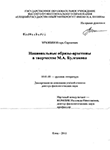Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Генезис образа-концепта Странника: культурная и литературная традиция в личностно-творческом самоопределении М. Горького 8
I. 1. Образ-концепт Странника в свете теории концептосферы: к постановке проблемы 8
I. 2.Феномен русского странничества и формирование мировоззренческих ориентиров Горького-художника 24
1.3. Особенности восприятия писателем темы Странника в западно-европейской традиции 43
Глава II. Топология странствия в художественной картине мира М. Горького 61
II. 1. Исходные рубежи и целевые направления странствия 61
II. 2. Пространственные координаты образно-смыслового концепта «земля» (к проблеме национальной идентификации феномена странничества) 75
II. 3. Образно-смысловой концепт «вода» в динамике художественно-пространственных форм (к проблеме интенциональной доминанты странничества) 89
Глава III. Онтология и типология странничества в художественной системе писателя 113
III. 1. Герой-странник в горьковской концепции человека 113
III. 2. Типы странничества в образном ряду произведений писателя 130
III. 3. «Странный» человек в свете личностно-творческих интенций М. Горького 150
Заключение 167
Примечания 172
Список использованной литературы 218
- Образ-концепт Странника в свете теории концептосферы: к постановке проблемы
- Пространственные координаты образно-смыслового концепта «земля» (к проблеме национальной идентификации феномена странничества)
- Образно-смысловой концепт «вода» в динамике художественно-пространственных форм (к проблеме интенциональной доминанты странничества)
- Герой-странник в горьковской концепции человека
Введение к работе
Понятие странствия, сопрягаемое с категорией движения в пространстве-времени, представляется одной из важнейших форм социокультурного развития человечества. На концептуальном уровне о явлении странничества можно говорить как о древнейшем архетипе, зафиксированном артефактами мировой культуры, где в ходе материально-духовного освоения различных явлений жизни русская культура обладает по-особому значимым и специфичным историческим «опытом движения», что позволяет говорить о России, как о «стране странничества и искания Божьей правды», а «величие русского народа и призванность его к высшей жизни» видеть «сосредоточенным в типе странника» . Подобный исторический российский «опыт» нашел свое выражение и в национальной литературной традиции, что проявилось в творчестве практически всех крупных отечественных художников.
Фигура М. Горького в этом ряду не исключение; напротив, для многих исследований XX века, обращенных к рассмотрению горьковского писательского феномена, стало своеобразной традицией подчеркивать, что «образный строй произведений Горького динамичен на всех уровнях, начиная с лексики..., до общих принципов сюжетосложения и характеристики персонажей»; такая динамичность нередко определялась как «доминанта художественного мира Горького»3. Подобный тезис получает дальнейшее развитие и в новейших исследованиях рубежа XX-XXI веков4.
В целом же, тема Странника в творчестве М. Горького, как правило, не выделялась в качестве специального предмета исследования, но, тем не менее, постоянно присутствовала в научно-критическом восприятии писателя, начиная от первых откликов современников на его произведения (Н.К. Михайловский, A.M. Скабичевский, А.А. Белозеров, П.Ф. Кудрявцев, В. Воровской, Д.С. Мережковский, М. Гельрот и др5).
И в дальнейшем указанная тема не обойдена ни в одной из крупных работ о раннем этапе творчества писателя: как в советском горьковедении (И. Груздев, А. Волков, Ю. Юзовский, Э. Бабаян, Н. Крутикова, В. Пискунов, Е. Заика, Б. Бялик, Р. Певцова6), так и в исследованиях зарубежных славистов (А. Труайя, Е. Хекельшнайдер, И. Уайл, Г. Хьетсо ).
Однако, несмотря на то, что в указанных работах был накоплен большой аналитический материал и сделано немало разнообразных наблюдений (по-своему важных, но часто и односторонне-социологизированных - в контексте «горьковского мифа»), тема Странника не получила целостного и углубленного рассмотрения. В тех случаях, когда исследователи все же обращались к ней, приоритетное внимание уделялось воспоминаниям писателя о периоде своих странствий по Руси, при этом обозначенная тема рассматривалась на уровне отдельных замечаний, а ее значение редуцировалось до «идеологии... анархического противления», «бегства от мира»8.
Таким образом, тотальная «эксплуатация» темы Странника в творчестве Горького и вместе с тем отсутствие в этой области крупных специальных работ - являют своего рода парадокс и вместе с тем определяют проблему, стоящую перед современными исследователями.
Последние два десятилетия можно обозначить как новый этап в горьковедении, характеризующийся возникновением новых методологических подходов, разрушением «горьковского мифа», введением в научный обиход новых, ранее неизвестных или недоступных материалов. В свете этого тема Странника в творчестве М. Горького приобретает особую актуальность и, так или иначе, затрагивается в современных работах фундаментального плана (Л. Колобаева, В. Баранов, Л. Спиридонова, П. Басинский, А. Удодов, Т. Белова, Т. Никонова)9, и в ряде специальных статей10.
При всем этом до сегодняшнего дня нет работ, посвященных обобщенному исследованию темы Странника в творчестве Горького. Между тем, необходимость в таком обобщении (или, по крайней мере, попытки
определения подходов в данном направлении исследований) представляются назревшими.
Все это и определяет актуальность такой попытки, предпринятой в нашей работе.
В качестве объекта исследования предстает период раннего творчества Горького (1892-1902 гг.) - его путь от начинающего литератора до всемирно известного писателя.
Предметом исследования является образ-концепт Странника, нашедший свое воплощение в творчестве и личностном становлении писателя, с «выходами» в социокультурный контекст эпохи и большого исторического времени.
Материалом исследования служит художественное, публицистическое, эпистолярное наследие писателя; биографические и автобиографические материалы и артефакты, составляющие исторический и социокультурный контекст предметного поля изучения.
Основная цель диссертации - проследить генезис и определить типологические особенности образа-концепта Странника в личностно-творческом становлении и художественной самореализации М. Горького на рубеже XIX-XX вв.
Достижение поставленной цели предполагается в результате решения ряда конкретных задач исследования:
-уточнение термина «образ-концепт» в свете современной теории концептосферы применительно к теме Странника;
прояснение процессов генезиса социокультурного феномена странничества (в контексте отечественной и западной традиций и в личностно-творческом становлении Пешкова-Горького);
выявление пространственных координат странствия в художественной картине мира писателя;
обозначение и систематизация типологии образов-персонажей в проекции на личностно-творческие интенции автора.
Решение этих задач, акцентированных в горьковедении впервые, определяет научную новизну исследования; впервые, естественно, осуществляется их комплексное решение, что позволяет прояснить формально-содержательные доминанты образа-концепта Странника как устойчивого образа-лейтмотива, наполненного концептуальным смыслом, опосредованного традицией, типологически очерченного и тесно связанного с творческой индивидуальностью автора. В свете этого новизна заключается и в самой формулировке темы исследования.
Теоретико-методологическая основа диссертации определяется поставленными в исследовании задачами, что, в свою очередь, диктует выбор путей и способов их решения в опоре на традиционные и современные методологические ориентиры. Так, обращение к теории концептосферы актуализирует для нашей работы соответствующие труды отечественных (Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова, В.А. Лукин, Ю.Д. Апресян, Н.Н. Болдырев, В.Г. Зусман и др.11) и зарубежных (Р.Барт, Д. Чандлер, Е. Бенвенист)12 ученых, а также исследователей воронежской филологической школы (З.Д. Попова, И.А. Стернин, А.П. Бабушкин, Л.В. Ковалева)13. В качестве методологических ориентиров также использованы работы воронежских исследователей по проблемам национальной идентичности и системного подхода к изучению литературного процесса (Е.Г. Мущенко, А.Б. Удодов М.К. Попова, Т.Г. Струкова и др.14). Такой подход диктуется самой природой предмета исследования — сложной и многоаспектной; это подразумевает применение конкретных методов анализа: историко-генетического» структурно-типологического, историко-культурного.
Структура работы состоит из Введения, трех глав, Заключения, раздела «Примечания», списка использованной литературы и выстроена в соответствии с логикой исследования - по задачам и этапам.
В первой главе уточняется понятийно-терминологический аппарат исследования и рассматривается формирование образа-концепта Странника
на этапе личностно-творческого становления писателя во взаимодействии различных культурных и литературных традиций.
Во второй главе выявляются особенности хронотопа странствия в художественной картине мира писателя, что позволяет прояснить специфику национального типа Странника.
В третьей главе определяется место и значение образа-концепта Странника в горьковской концепции человека, намечается типология странничества для художественной системы писателя - в проекции на личностно-творческие интенции и ценностные ориентиры авторского сознания.
В Заключении формулируются итоговые выводы, которые являются основой для положений, выносимых на защиту.
Теоретическая значимость работы видится в том, что ее положения и выводы дополняют современную теорию концептосферы применительно к понятию образа-концепта Странника в социокультурном и литературно-художественном контексте его функционирования.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его материалы, положения, результаты могут быть использованы в научной и образовательной практике: в исследованиях ученых-горьковедов, при изучении иных писательских персоналий в намеченном аспекте, при подготовке учебных пособий, лекционных курсов, семинаров по русской литературе в высшей школе, в руководстве курсовыми и дипломными работами студентов-филологов.
Апробация основных положений диссертации осуществлялась на ежегодных научных конференциях сотрудников ВГПУ «Тонковские чтения» (2003, 2004, 2005 гг.), Эйхенбаумовские чтения (2004 г.), на III Учительской конференции ВПТУ-ВОИПКРО (2004 г.). Положения работы и диссертация в целом обсуждены в Научно-практической лаборатории по изучению литературного процесса XX века и на кафедре русской литературы XX века и зарубежной литературы ВГПУ. По теме диссертационного исследования опубликовано 3 работы.
Образ-концепт Странника в свете теории концептосферы: к постановке проблемы
Картина мира, существующая в художественном произведении, подразумевает трансляцию авторского мировидения в сферу читательского восприятия. При этом смысл произведения открывается читателю «в концептах, которые значимы не только внутри произведения, они входят в культуру, в сознание ее носителей и, в конечном счете, образуют константы национальной культуры»1.
Усилившийся в последнее время интерес к проблеме национальной идентичности в условиях «глобализации» жизни мирового человеческого сообщества2 и связанное с этим стремление к осмыслению национальной специфики русской литературы, к выявлению «очертаний русской картины мира в исторической динамике национального самосознания и в особенностях его художественно-эстетических форм» , - все это актуализирует ныне обращение исследователей к изучению национальной концептосферы во всем многообразии составляющих ее конкретных концептов. В последние годы такой аспект все чаще присутствует и в диссертационных исследованиях, начиная от анализа «выработки основных концептов русской идеи» . Как представляется, образ Странника, глубоко укорененный в русской мысли и русской литературе, может быть рассмотрен на уровне одного из «основных концептов» не просто «русской идеи», но и шире - национального самосознания.
Важно при этом разграничивать национальную концептосферу и национальный менталитет. Известно, что термин «концептосфера» был введен в отечественной науке академиком Д.С. Лихачевым. Концептосфера, по его определению, это «совокупность концептов нации, она образована всеми потенциями концептов носителей языка. Чем богаче культура нации, ее фольклор, литература, наука, изобразительное искусство, исторический опыт, религия, тем богаче концептосфера народа»5.
Необходимо также указать, что национальная концептосфера носит достаточно упорядоченный характер. Концепты, ее образующие, по отдельным своим признакам вступают в системные отношения сходства, различия и иерархии с другими концептами .
В свою очередь, о национальном менталитете написаны сотни работ, между тем как содержание этого понятия до сих пор не может быть достаточно четко определено. Предлагаемая в связи с этим З.Д. Поповой и И.А. Стерниным трактовка обозначенного термина представляется вполне актуальной и своевременной. «Национальный менталитет, - замечают исследователи, - это национальный способ восприятия и понимания действительности..., он проявляется, прежде всего, в характере народа, его действиях и коммуникативном поведении»7. В то время как «национальная концептосфера - сфера мысли, сфера знаний народа — в определенной степени определяет менталитет народа (особенности восприятия и понимания действительности)» .
В дальнейшем, несмотря на тесную связь менталитета и концептосферы, говоря о национальном концепте Странника, мы обращаемся, прежде всего, к области концептосферы и ее составляющих, а уже затем к национальному менталитету. Это обусловлено тем фактом, что «образующие национальную концептосферу ментальные единицы (концепты - А.П.) выступают основой образования когнитивных стереотипов - суждений о действительности, то есть концепт является ментальной репрезентацией, определяющей, как вещи связаны между собой и как они категоризируются»9. По определению В.Г. Зусмана, «концепт запускает движение смыслов на стыках разных рядов -исторического, социального, бытового и собственно литературного»10. В современной филологической науке выделяются различные подходы к интерпретации этого термина. Сейчас уже доказано, что информация выявляется всегда в форме материальной, то есть в виде сигналов, реализуясь в качестве определенных символических структур. При этом в рамках когнитологии - науки, занимающейся изучением приобретения, переработки и использования информации человеком, уже доказана ошибочность традиционного оперирования понятиями, как логическими категориями, понимаемыми в их «классическом виде». На смену этим понятиям была выдвинута идея "нечетких понятий". Было установлено, что процессу мышления человека свойственна нечеткость, так как в основе этого процесса лежит не классическая логика, а логика с нечеткой истинностью, связями и правилами вывода.
Идея "нечетких понятий" заключается в следующем: невозможно подвести черту под объемом понятия, поскольку само понятие не является "предметом" с четко "математически" ограниченным объемом и содержанием.
Еще в начале 20-х гг. XX в. С.А. Аскольдов, задумываясь над "нечеткими понятиями", которые молниеносно высвечиваются в разуме человека и являются почти неуловимыми в чьем-то умственном кругозоре, определил эти понятия как особую структуру- концепт11.
В целом же термин «концепт» отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессе мышления и которые отражают содержание всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде некоторых «квантов» знания. В научной сфере он часто используется как синоним термина «понятие». Будучи «логически оформленной общей мыслью о классе предметов, явлений...»12, понятие сближается с концептом в плане обобщенности выражения (передачи) информации о предмете, явлении и так далее, но соотносится, тем не менее, с ним, как часть и целое (частное и общее) .
Пространственные координаты образно-смыслового концепта «земля» (к проблеме национальной идентификации феномена странничества)
По мнению ряда исследователей, среди «сухопутных координат», в которых у Горького разворачиваются «векторы» движения-странствия, доминирует прежде всего локус степи (поля) . Это представляется закономерным и вполне объяснимым: к образу русской равнины в начале XX века обращались Н.Е. Трубецкой, Ф.А. Степун, Н.А. Бердяев, Г.П. Федоров, В.В. Розанов, B.C. Соловьев - в осмыслении истоков национального самосознания. Особенности же мировосприятия Горького складывались во многом непосредственно в геофизических координатах равнинной России, по которой будущий писатель странствовал в конце 1880-начале 1890-х годов (в отличие, например, от того же Н.Е. Трубецкого, для которого причиной известных размышлений о феномене «русской равнины» явились наблюдения российских просторов из окна железнодорожного вагона)19.
Показателен (и во многом, на наш взгляд, автобиографичен) «взгляд» на мир героя горьковской «Исповеди», много лет скитавшегося по полям и дорогам России: «В полях земля кругла, понятна и любезна сердцу. Лежишь, бывало, на ней, как на ладони, мал и прост, словно ребенок, теплым сумраком одетый, и плывешь вместе с ней мимо звезд... мыши шуршат, иной раз по руке у тебя перекатится маленький мягкий комок, вздрогнешь и еще глубже чувствуешь обилие живого, и сама земля оживает под тобою, сочная, близкая, родная тебе...» (9, 333). В таком видении, во многом характерном и для раннего периода творчества писателя, происходит своеобразная «дефрагментация сознания» в попытках постижения человеком тайн жизни и смысла бытия. Здесь значимым предстает не только созерцание земного пространства, но и «вслушивание» в него. Так, характерно в этом плане признание девочки в «Крымских эскизах»: «Я очень любила ночью лежать и слушать. Слушать долго... долго, и ничего не слышно... Точно и нет ничего на земле... и даже земли нет... Потом что-нибудь вдруг услышишь и вздрогнешь... Так очень хорошо...» (3, 530).
Следует также отметить, что подобное «созерцание» и «услышание» чего-то тайного в пространстве русской равнины происходит преимущественно ночью. Так, в рассказе «Немой» автору, странствующему по югу России, становится жутко «от молчания и тьмы» в степи, он просит своего товарища-башкира рассказать что-нибудь. И последний советует: «А ты слушай, как молчит степь...» (3, 445). О таком ночном «вслушивании» как эффективном условии смыслотрансляционных процессов говорит и маленький Яков из горьковской повести «Трое»: «Ночью все спят; на земле совсем тихо... Я - маленький: днем мою молитву богу не слышно... А ночью-то будет слышно!» (5,63). Возвращаясь вновь к историософским концепциям русской равнины в современном Горькому «россиеведении», отметим весьма показательное признание Н.Е. Трубецкого: «Из окна вагона я не видел ничего, кроме всеобщего, прямого и равного. Это, если можно так выразиться, закон нашего российского существования. На расстоянии всего пути картина почти не менялась ... По привычке к четырехчленной формуле взор мой стал искать тайного: тут спустился туман над полями; потом ночь скрыла все очертания равнины, и я увидел тайное» .
Таким образом, ночью пространство степи как бы изменяется, происходят таинственные процессы трансформации окружающего мира. Так, в рассказе «Скуки ради» Горький пишет: «В сумерках степь суживается» (4, 10). Конечно, «суживается» не пространство степи, «суживается» ощущение, восприятие степи у человека, находящегося в этом пространстве21. Однако, если рассматривать горьковскую характеристику как отражение самостоятельной онтологической сути пространства степи, то можно говорить о двух самостоятельно существующих пространственных моделях22. Днем это пространство визуализируется и «прочитывается» присутствующим в нем человеком через конкретные объекты: «пассажирский поезд», «желтое море хлебов», «постройки станции» (4,7). Ночью пространство степи невидимо и «не читаемо», оно будто бы и не зависит от восприятия человека, непроницаемо для него, лишь иногда «из темной дали выбегает красный сверкающий огонь» (4,10), — позднее видится, что это - поезд.
Подобное же сосуществование разных моделей пространства прослеживается в рассказе Горького под знаковым названием «В степи». «Дневная» степь «разбегается» от странников к горизонту: «Степь, безмолвная и пустынная, вся залитая ярким солнцем утра, развертывалась вокруг нас, сливаясь на горизонте с небом...» (3, 185). Это модель «размыкающегося» пространства, где вектор движения направлен от центра, (т.е. от героев-странников) к периферии (горизонту). Но с наступлением темноты пространство степи как бы «сжимается»: «...мгла, поднимаясь со степи в небо, суживала... горизонты... вокруг нас все плотнее сливались тени, суживая бесконечную гладь степи...» (3,177-178). В такой модели «смыкающегося» пространства вектор движения получает обратную устремленность: от горизонтов (периферии) к героям (центру). В этом случае действуют и свои специфические законы: странник как бы ограничивается в возможности передвижения; объекты, предметы словно изменяют свои координаты и пределы. Подобное наблюдается не только в мире степи. Так, когда Илью Лунева, героя повести «Трое», околоточные ведут в участок, то небо видится как «почти черное, низко опустившееся к земле, похожее на закопченный потолок тесной и душной комнаты... Дома по бокам улицы... точно огромные камни» (5,316). Тьма в конце улицы как стена. Пытаясь убежать во тьму, герой разбивается о стену. Пространство «сжимается», его пределы ограничиваются, замыкаются. Это не просто модель «смыкающегося» пространства, здесь можно говорить и о его своеобразной морфологической деформации: «... дома, мостовая, небо - вздрагивало, прыгало, лезло на него (Илью - А. П.) черной, тяжелой массой» (5, 317). В «смыкающемся» пространстве и время словно замедляет свой ход, близится к остановке. Показательна в этом плане сцена из рассказа «Ярмарка в Голтве»: «Солнце село, и на небе задумчиво замерли легкие облака ... «Пойте славу бога нашег-о-о... яко он творец мира и прибежище челове-е-ков, в нем же обрящем упокоение...» - поет и играет слепой. Ночь идет» (3,198-199). На фоне «замерших облаков» эта песня слепого приобретает символический смысл: в ней присутствует ощущение покоя перед лицом Творца и Вечности. Своеобразная «остановка» времени прослеживается и в рассказе «Песня о слепых»: «В поле было тихо и пустынно.
Образно-смысловой концепт «вода» в динамике художественно-пространственных форм (к проблеме интенциональной доминанты странничества)
Среди «водных миров», пространственно представленных в художественном космосе Горького, исследователей чаще всего привлекает «образ моря», который анализировался в содержательно-символическом, либо мифопоэтическом аспекте. Но исследования такого рода представали, как правило, на уровне отдельных частных замечаний. В современных же исследованиях концептуально-обобщающего плана такие наблюдения и замечания в какой-то мере неминуемо сопрягаются с обращением к «образу» или «миру» Волги44. Однако, как представляется, «мир моря», связанный с «миром Волги» (и шире - с «миром реки») заслуживает и специального углубленного рассмотрения в контексте более широкого понятия, которое мы определяем как образно-смысловой концепт «вода».
Следует обратиться к воспоминаниям Горького о «дописательском» периоде его биографии, чтобы прояснить, как формировалось в его сознании представление о локусе моря, и какое содержание виделось здесь для будущего художника. Как известно, его первое знакомство с «миром моря» произошло в 1888 г. благодаря крестьянину Сергею Баринову, неоднократно обращавшемуся к Пешкову с предложением: «Лексей Максимович, воевода без народа... Едем, что ли на море завтра? Ей-Богу! Чего тут? Не любят здесь нашего брата, эдаких» (16, 131-132).
Согласно Дж. Тресиддеру, море - «во многих культурах - первичный источник жизни - бесформенный, безграничный, неистощимый и полный неожиданностей... Море - образ матери, даже более важный, чем земля, но, кроме того, - символ превращения и возрождения»45. Возможно, как раз подсознательное стремление к духовному очищению и возрождению является причиной стремления Баринова46. Стремление освободиться от тоски и уныния, и начать «новую жизнь» - доминанта душевного состояния как Баринова («Не впервые говорил это Баринов. Он ...почему-то затосковал, ...уныло оглядывался» (16, 132)), так и самого автора воспоминаний: «Меня свинцом облила тоска, ...я заметался по селу, точно кутенок, потерявший хозяина» (16, 131). Знаменательно, что эти «метания по селу» ни к чему не привели. Тоска не исчезала. И нужно было что-то делать, чтобы изменить жизнь. Таким деянием стал поход героев к «большой воде», к пространству моря. Стремлением быть поближе к воде одержим и другой персонаж этих же воспоминаний — крестьянин Изот, признающийся будущему писателю в своей мечте: «... пойду вдоль всех рек и буду все понимать!» (16, 106). Такое стремление, как представляется, может быть объяснено тем, что существующий в православной традиции обряд крещения, через который должен пройти каждый человек, исповедующий христианского Бога, соединяет в себе смывание греха, растворение старой жизни и рождение новой. Таким образом, крещение соединяет в себе очищающие, растворяющие и плодородные свойства воды. Знаменательны в этом плане слова Иоанна Крестителя: «Я крещу вас водой...»47. Вода выступает здесь метафорой духовного обновления человека. Вода изначально предстает как символ чистоты и самой жизни, средством очищения от грехов и спасения. Так, например, в Евангелии от Иоанна Христос говорит самаритянке: «Тот же, кто пьет воду, которую Я ему даю, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую Я ему даю, станет в нем источником, текущим в вечную жизнь»48.
Вместе с тем образ воды у Горького ассоциируется не только с «обновляющей», «живительной» функцией. Так, дождь у писателя символизирует тоску, печаль и даже смерть, о чем свидетельствует заключительная фраза рассказа «За бортом»: «И вода, стекающая с крыш, звучит, как реквием» (2, 546). Если же акцентировать внимание на дожде как символе печали, то примером здесь может явиться эпизод из рассказа «Однажды осенью»: «...По дереву лодки неугомонно стучал дождь, мягкий шум его наводил на грустные мысли...» (2, 51). Дождь, начавшийся после рассказа старого цыгана о гибели Радды и Лойко в «Макаре Чудре», знаменует собой окончательную утрату и необратимость в пространстве земли свершившегося события. «Накрапывал дождь» (1, 24); «Усиливался дождь» (1, 25) - это звучит не просто как сожаление о произошедшем, но в какой-то мере выступает и своеобразным символом, показателем мертвого состояния описываемого мира, пространства. Подобный же мотив просматривается и в «Старухе Изергиль», когда героиня убивает солдата ради освобождения любимого. Дождь здесь выступает «свидетелем» убийства и одновременно, некоторым образом, «соучастником» преступления, если принять во внимание то обстоятельство, что лужа, в которой и наступает смерть солдата, образована дождевой водой.
Сходная функция дождя присутствует и в рассказе «Дед Архип и Ленька»: мальчика, погибшего во время грозы, находят лежащим «лицом вниз, в жидкой грязи, оставшейся после дождя на дне балки» (1,75). Призывая, в свою очередь, смерть, дед Архип, задыхаясь, говорит: «Пусть меня, старого пса, вора... здесь дождь потопит... и гром убьет!» (1,75). Важно, что именно в такой последовательности звучат слова деда. Именно дождю здесь отводится приоритетное значение. Так во время грозы мальчик крестился, затем, когда уже пошел дождь, «Ленька замирал от ужаса» (1, 74). А сам «дождь, падая, шумел так холодно, монотонно, тоскливо...» (1, 74). И то, что дождь начинается в момент разрыва духовного контакта Леньки с дедом, знаменует собой необратимость этого разрыва, его неизбежность и невозможность существования иной развязки.
Герой-странник в горьковской концепции человека
Известно, что в письме к своему биографу и текстологу И.А. Груздеву от 10 марта 1926 г. Горький, замечая, что мечта о «положительном герое» неосуществима, а попытки осуществить ее едва ли пойдут дальше Базарова, делает такое признание: «для меня лично - герой исследующий, ищущий несравнимо ценнее героя, уже утвердившегося в вере своей и тем «упростившего» себя»1. В этом признании, как представляется, находят выражение все те «линии» художественно-эстетической программы великого писателя, которые для молодого Горького явились целеполагающими и в то же время основообразующими элементами при создании характеров героев ранних своих произведений.
Горьковедением неоднократно отмечалось, что «в ранних рассказах... писателя изображена целая галерея персонажей, характеров, отразивших богатство и разнообразие мыслей, настроений, идейных поисков в русской действительности конца XIX века»2. При этом в процессе создания «целой галереи образов» наиболее притягательной для Горького, как представляется, явилась смыслопоисковая функция личности. На это неоднократно обращала свое внимание критика как дореволюционного, так и советского времени. Об этом же говорится в работах исследователей последних лет. Однако специально данная тема не рассматривалась, и вопрос о горьковском ищущем герое ставился в контексте более общих проблем. К тому же смыслопоисковые интенции личности (стремление к постижению какой-то «тайны», желание «нахождения» себя), как правило, закреплялись критикой за каким-то одним типом горьковских героев. Так, Ю. Юзовский выделял в художественном мире Горького «чудаков» и «остальных героев»3 (то есть, говоря условно, «не чудаков») и, характеризуя первых словами горьковского
Промтова как «особый сорт людей», которые «никогда не могут найти себе место на земле», и внутри которых «живет тревожный зуд желания чего-то нового», замечал: «Этот многообразный горьковский чудак напоминает того чудака, который стал любимым героем самой распространенной и самой поэтичной русской народной сказки. Я имею в виду сказку об Иванушке-дурачке... И Горький явно симпатизирует ему, отдает ему предпочтение перед его «умными братьями», уделяет ему несравненно больше заботы, внимания, интереса, куда больше, чем «умным братьям». Он, правда, не забывает отдать должное и остальным героям, однако, он опять возвращается к своему чудаку, словно здесь он чувствует себя в более родной. привлекающей его стихии»4.
В советской критике 1950 - 1980-х годов характеристикой «ищущий» определялось чаще всего сознание «классового» героя. Так, А.И. Овчаренко, говоря об образе рассказчика, утверждал, что это - «оригинальный художественный образ ищущего и познающего себя пролетария»5. В свою очередь, В.А. Калашников, разработав целую классификацию горьковских героев6, отмечал, что «желание разобраться в смысле и противоречиях действительности» присуще «людям нового качества»7, то есть, героям-пролетариям. Правда, следует отметить, что исследователь, характеризуя горьковских героев-босяков, приходит к выводу, что эти «пытливые, жадные до жизни люди... жаждали счастья, жаждали в чем-либо необыкновенном, ярком утолить свой духовный голод, свою тоску по большой, свободной жизни» . То есть, по сути, сознание героя-босяка определяется исследователем как «ищущее», но в то же время Калашников замечает, что «по своему характеру босяки Горького - люди переходного типа, еще не успевшие» стать борцами9. Таким образом, по логике исследователя, герой-босяк является «не настоящим» героем, а звеном в цепи эволюции, ведущей к герою в некоем «высшем» качестве, то есть, к герою-пролетарию.
Как видим, выделение типа «ищущего» героя происходит не по признаку наличия/отсутствия в характере героя интенции «поиска». Для обозначенных исследователей приоритетными являлись другие признаки. При этом на основе отдельных и, как правило, социологизированных характеристик горьковских персонажей создавался концепт некоего положительного героя10, которому и «придавалась» соответствующая («классово обусловленная») смыслопоисковая функция. Между тем, думается, что смыслопоисковая характеристика героя является в отношении горьковских персонажей все же первичной, по-своему универсальной, что позволяет говорить о наличии в творческом мире Горького героя «ищущего, независимо от своей социальной роли и бытовых условий существования»11. А общим «моментом» для «целой галереи персонажей» Горького является как раз аспект «поиска», который, по мнению А.Б. Удодова, «характерен и для условно-аллегорических героев, и для реалистических образов-персонажей, представленных на социальном уровне как «хозяева жизни», но, тем не менее, «выламывающихся» из привычных рамок в поисках ее смысла»12. При этом векторы интересов ищущего героя многообразны. Но в художественном мире Горького поражает одна особенность: какая-то странная, своего рода тотальная «лишенность»13 героя «своего» места в жизни (не простое, где-то, может быть, элементарное отсутствие, а именно «лишенность»), И эту проблему следует рассматривать не только в социальном плане (как это, к примеру, делалось в советской критике); важное значение, как представляется, имеет осмысление этой проблемы в онтологическом, равно как и в аксиологическом аспектах. Так, «статус человека» у горьковских героев связывается именно с наличием собственного места в жизни. Показательны в этом плане слова Коновалова. Говоря о своей знакомой - Капитолине, он замечает: «Место себе найдет -может, человеком будет» (3, 13). А Комов - герой рассказа «Шабры»- так размышляет о дальнейшей судьбе своего ближнего друга: «Может, он и впрямь в казаки проберется и заживет там снова человеком» (3, 469). То есть, на данный момент герой отказывает в «статусе человека» своему приятелю на том основании, что у последнего нет «в миру своего места» (3, 446).
Таким образом, по логике героев, следует, что без места нет и человека, нет личности. Это положение является своеобразной обобщающей формулой самореализации героя в жизни. «Первое дело - себя самого надо найти, свое, значит, приспособление к жизни» (2,375), - говорит герой рассказа «Извозчик». И, словно дополняя его, Яков Филимонов - герой повести «Трое» - быстро и настороженно шепчет: «Я думал про это! Прежде всего надо устроить порядок в душе... прежде всего надо узнать, к чему я определен... во-от!» (5,170). О подобном процессе «нахождения корней» говорит и Фома Гордеев, но его слова представлены уже в некоем условно-обобщающем плане: «... я так полагаю, что непременно надо всем знать — для чего живешь ... Нужно сообразить - зачем живу? Толку нет в жизни нашей» (4, 425).