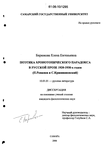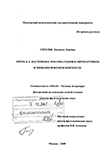Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Проблема мифологии смеха 19-61
1. Эстетическая природа мифа и его функции в литературе 19-30
2. Систематизация гуманитарных концепций смеха 31 -45
3. Разработка проблемы мифологии смеха в современной науке 46-61
Глава II. Эволюция смеха в карнавализованпом мире булгаковской прозы 1920-х годов 62-108
1. Карнавальные и смеховые традиции в литературе 1920-х годов 62-69
2. Смеховое и театрально-карнавальное начало в «Записках на манжетах», рассказах и очерках М.А. Булгакова 1920-х годов 69-77
3. Деструктивное, утверждающее и животворящее начала в романе М. Булгакова «Белая гвардия» 77-84
4. Смех как стилеобразующая доминанта театрально-карнавального мира в цикле М.Булгакова «Московские повести» 85-108
Глава III. Система смеховых мифологем в прозе М.А.Булгакова 1920-х годов 109-155
1. Смеховая мифологема как структурирующая единица карнавализованного мира 109-118
2. Воплощение животворящего / утверждающего начала в прозе М.А. Булгакова 118-132
3. Смех как необходимая составляющая булгаковской «дьяволиады» 133-143
4. Смех в символико-дуалистическои системе художественной прозы М.А.Булгакова 143-155
Заключение 156-159
Список литературы 160-185
- Эстетическая природа мифа и его функции в литературе
- Смеховое и театрально-карнавальное начало в «Записках на манжетах», рассказах и очерках М.А. Булгакова 1920-х годов
- Смех как стилеобразующая доминанта театрально-карнавального мира в цикле М.Булгакова «Московские повести»
- Смеховая мифологема как структурирующая единица карнавализованного мира
Введение к работе
У М.А. Булгакова - крупнейшего писателя XX века - своя исключительная судьба, своё неповторимое лицо - сатирика, новеллиста, драматурга, романиста. Более четверти века читатель не знал его романа «Мастер и Маргарита», который в последние десятилетия уходящего века получит всемирную известность; не знал он, что в сокровищницах русской литературы имеются такие произведения, как «Собачье сердце» и «Адам и Ева».
Смех над швондерами и шариковыми возник и заглох в 1927 году, когда повесть «Собачье сердце» была арестована ОГПУ. Даже роман «Белая гвардия» полностью был напечатан в Советском Союзе только в 1966 году. Долгое время М.А. Булгаков был известен лишь как автор пьесы «Дни Турбиных» и инсценировки поэмы Гоголя «Мёртвые души». И чем дальше от нас уходят по времени даты создания произведений Булгакова, тем сильнее возрастает интерес читателя и зрителя к ним.
Литература о творчестве М.А. Булгакова выглядит парадоксально. При жизни писатель не пользовался особым вниманием критиков, а если отзывы на его произведения были, то преимущественно уничижительного характера. Правда, его смерть в 1940 году вызвала ряд уважительных некрологов в разных московских изданиях (газеты «Вечерняя Москва», «Известия», «Литературная газета», «Советский артист», «Вахтанговец», «Советское искусство», «Горьковец»), Во всяком случае, до своей физической смерти Булгаков в критике всё-таки жил.
А вот потом наступила настоящая смерть. Отдельные упоминания его имени в прессе были связаны, как правило, с исполнителями ролей в его пьесах, с историей театра. Некоторое оживление произошло с наступлением «оттепели». Тогда Е. Колмановский, в частности, написал статью с красноречивым названием: «Возвращение Михаила Булгакова» (Нева. 1959, № 6). Возвращение действительно началось, но медленное. Если и печатают
Булгакова, то опять-таки не главные его произведения: «Жизнь господина де Мольера» в серии «Жизнь замечательных людей» (М., 1962), «Записки юного врача» (М., 1963) в библиотеке «Огонёк». Соответственно и отзывы на его творчество кратки, сдержанны и лаконичны (в воспоминаниях К. Паустовского, В. Каверина, К. Федина, А. Эрлиха, краткие оценки в работах Л.Ф. Ершова, В.Я. Лакшина, А.З. Вулиса).
Подлинное возрождение писателя в читательском восприятии и внимании критики произошло после появления в журнале «Москва» романа «Мастер и Маргарита» (1966, №11; 1967, № 1). С этого времени неудержимо растёт как издание его произведений, так и поток критических статей и исследований, посвященных не только его роману, но и другим творениям мастера. Появилась даже документальная повесть о нём (Гиреев Д.А. Михаил Булгаков на берегах Терека. Орджоникидзе, 1980).
Можно выделить и третий этап «возрождения» - с периода «перестройки», когда в журнале «Знамя» (1987, № 6) была напечатана повесть М. Булгакова «Собачье сердце». А столетний юбилей прозаика и драматурга вызвал буквально шквал публикаций, как в центральных, так и в периферийных изданиях [например, коллективные сборники статей в Куйбышеве (1990), Черновцах (1991), Самаре (1991), Киеве (1992)].
Но и по сию пору концептуальные исследования творчества М.А. Булгакова оказались связанными в основном или с романом «Мастер и Маргарита», или с булгаковской драматургией.
Первая монография о Булгакове (Яновская Л.М. Творческий путь Булгакова М.: Совет, писатель, 1983) представляла собой обозрение творческого пути писателя с ценными наблюдениями и обобщениями - но не больше. Вслед за этой книгой вновь возобладала «театральная тема». Появляются труды A.M. Смелянского «М. Булгаков в художественном театре» (М., 1986); сборник «Проблемы театрального наследия М.А. Булгакова» (Л., 1987); В.В. Гудковой «Время и театр М. Булгакова» (М., 1988); «Михаил Булгаков - драматург и художественная культура его
времени» (М., 1988). В 1983 году в Московском государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина состоялась защита кандидатской диссертации В.Б. Петрова «Комическое и трагическое в драматургии М.А. Булгакова (20-е годы). Задачами этого исследования явилось изучение жанровых и стилевых особенностей драматургии М.А. Булгакова в их обусловленности соотношением комического и трагического и установление места булгаковской драматургии 20-х годов в литературном процессе. Выявление функций комического и трагического в качестве жанрообразующего и стилевого фактора позволило исследователю найти путь к пониманию художественной специфики драматургии Булгакова.
Большую значимость для познания наследия писателя представили работы М.О. Чудаковой, в том числе книга «Жизнеописание М. Булгакова» (М., 1988), основанные на изучении булгаковского архива, но её концепция вызвала возражения других булгаковедов. То же относится и к описательной монографии В. Петелина «Михаил Булгаков: Жизнь. Личность. Творчество» (М., 1989), вряд ли претендующей на какую-либо концепцию. Свою книгу «Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (М., 1991) А.З. Вулис не случайно издал в серии «Массовая историко-литературная библиотека»: она скорее вызывает к размышлениям, чем разрешает их. Как литературоведческий курьёз воспринимается книга М. Золотоносова с красноречивым названием «Мастер и Маргарита» как путеводитель по субкультуре русского антисемитизма (СРА)» (СПб., 1994). Наконец, итогом субъективного булгаковедения явилась «Булгаковская энциклопедия» Б. Соколова (М., 1996), основанная на личных мнениях автора.
Немало ценных и обобщающих толкований можно обнаружить в отдельных статьях и разделах книг конца 80 - 90-х годов, преимущественно относящихся к «Мастеру и Маргарите» (работы И.Ф. Бэлзы, Н.П. Утехина, В.М. Акимова, И.Л. Галинской и др.).
С 1971 появляются диссертации, посвященные творчеству М.А. Булгакова, не только по филологическим наукам, но и по искусствоведению.
На рубеже XX-XXI веков интерес к творчеству писателя не утихает, наоборот, мы отмечаем новую волну всплеска интереса к «загадочному писателю» (в 2005 году в свет выходит экранизация романа «Мастер и Маргарита» В. Бортко).
В 1997 году интерес вызвала диссертационная работа, выполненная в Санкт-Петербургском государственном университете зарубежным исследователем Ким Су Чан, «Комическое и фантастическое в прозе М. Булгакова (от «Дьяволиады» к «Мастеру и Маргарите»). В 2003 году в Тбилисском государственном университете им. И. Джавахишвили защитила кандидатскую диссертацию «Ирония прозы М.А. Булгакова» Этерия Нино.
В начале 2000-х годов многие учёные заговорили о карнавализации булгаковского творчества. В 2002 году в Воронежском государственном университете по теме «Театрально-карнавальный компонент в прозе М.А. Булгакова 1920-х годов» состоялась защита диссертации Е.Г. Серебряковой. В том же году в Дальневосточном государственном университете была защищена диссертация А.В, Хохловой «Карнавал изация как жанрообразующий принцип в пьесах М.А. Булгакова «Адам и Ева», «Блаженство», «Иван Васильевич».
В последние годы вышли в свет две крупные монографии уральских булгаковедов: «Аксиология М. Булгакова» В.Б. Петрова (Магнитогорск, 2000) и «В мире Михаила Булгакова» В.В. Химич (Екатеринбург, 2003).
Установлено, что в булгаковском творчестве присутствуют тенденции творческой манеры письма других писателей. С этим закономерно связано появление работ, основанных на сопоставлениях: Булгаков и Гоголь (Б. Бахтин), Булгаков и Маяковский (М. Петровский, Ю. Неводов), Булгаков и Демьян Бедный (Н. Кузякина), Булгаков и Юрий Слёзкин (А. Арьев), Булгаков и Александр Грин (М. Чудакова), Булгаков и Марк Твен (Я. Лурье) и другие. В последние годы появилось много работ и зарубежных исследователей: Ким Су Чан, Вэнь Юйся, Р. Джулиани и др.
Немало нового опубликовано в академических изданиях Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН1. Одним словом, исследователями проделана большая работа по изучению и обобщению биографии и творческого наследия писателя. Издан «Дневник Елены Булгаковой», охватывающий последний период жизни и творчества писателя (с 1 сентября 1933 года по 10 марта 1940 года). Накоплен большой фактический материал. Настала пора оценивать творчество Булгакова и его место в литературном процессе с позиций литературной науки XXI века.
Не следует при этом полностью извлекать Булгакова из той эпохи, к которой он принадлежал, оставлять без внимания сложную эволюцию его творчества, его противоречия, вызванные трагическими обстоятельствами, в которых он жил. Абстрактные суждения порою эффектны, но они стирают «особенное» и подгоняют творчество писателя под общие мерки. А писатель велик не тем, что он стоит в стороне от особенностей и событий эпохи, а тем, как он их осмысливает, в каком свете изображает и каких результатов (в плане художественных обобщений) достигает.
При изучении творчества М.А. Булгакова наибольший интерес вызывает специфика организации художественного мира писателя. Его своеобразие определяется особенностью художественного метода, сочетающего в себе романтические и реалистические традиции, «странностью» построения художественных образов и сюжетных ситуаций. Но очевидно и то, что «художественный мир Булгакова во многом сложился как смеховой со всеми особенностями, присущими подобного рода явлению»2.
Смех Булгакова окружил себя ореолом таинственности. С первого взгляда, кажется, что всё предельно ясно, и не имеет смысла говорить о смехе. С другой стороны, желание исследователей объяснить всё то, что они знают о нём, оказалось трудно достижимым - так в науке появлялись
1 Творчество Михаила Булгакова: Исследования. Материалы. Библиография: В 3 т.-Л.,1991-1995. 1 Химич, B.B. В мире Михаила Булгакова. - Екатеринбург, 2003. - С. 309.
сомнения, знаем ли мы хоть что-нибудь о смехе писателя. Таким образом, тема оставалась открытой для исследователей. Многие из них, занимавшиеся этим вопросом, соглашались с тем, что тема смеха Булгакова оказывается «заветной», то есть одновременно желанной и трудно достижимой. И желание размышлять или писать на эту тему воспринималось как «риск», потому что смех сам по себе - это нечто смешанное, нечто сложенное из разных по своей природе элементов и стихий - от писателя «многоликость» смеха ждёт чего-то подобного, а «многоликость» в творчестве есть не у каждого.
Ещё Аристотель заметил, что именно смех - одна из основных характерных черт души человека.
Ф.М. Достоевский в романе «Подросток» указал на смех как на основной критерий в оценке человека: «... если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а высмотрите лучше его, как он смеётся. Хорошо смеётся человек -значит, хороший человек <... > смех есть самая верная проба души» .
Гёте, творчество которого, бесспорно, оказало большое влияние на мироощущение М.А. Булгакова, однажды сказал, что поэт - это «тот, кто сумеет овладеть миром и найти для него выражение»4. Таким «выражением» поэтического освоения мира, на наш взгляд, для Булгакова стал смех. Актуальность этого тезиса для нашего исследования важна ещё и потому, что мы будем говорить о смеховом начале, которое было ограничено серьёзными идеологическими рамками советской системы. М. Булгакову, с одной стороны, пришлось находиться «внутри» официального государственного мифа, доминантой которого была установка на абсолютную серьёзность. С другой, - писатель обладал трезвой насмешливостью, способностью видеть мир через призму смешного, а значит, испытывал потребность в выражении
3 Достоевский, Ф.М. Собр. соч,; В 15 т. - Л., 1988-1996.-Т. 13. - С. 285-286.
* Эккерман, И.Б. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. - Калининград, 1999. - С. 290.
своего художнического мировидения через смех. «Смеховое в таких условиях было продолжением диалогического способа искания истины»5. Эти факты определили центральный аспект нашего исследования -мифология смеха М. Булгакова,
Обратим внимание на черты личности Булгакова, которые крайне редко попадают в поле зрения биографов. Речь идёт об умении смеяться в разных жизненных ситуациях.
Как-то однажды, уже в пору своей предсмертной болезни, видя, как она измучила жену, и, желая немного отвлечь Елену Сергеевну, Булгаков попросил её присесть на краешек постели и сказал: «Люся. Хочешь, я расскажу тебе, что будет? Когда я умру (и он сделал жест, отклонявший её попытку возразить ему), так вот, когда я умру, меня скоро начнут печатать, театры будут выхватывать друг у друга мои пьесы. И тебя всюду станут приглашать выступить с воспоминаниями обо мне. Ты выйдешь на сцену в чёрном бархатном платье с красивым вырезом на груди, заломишь руки и скажешь низким трагическим голосом: «Отлетел мой ангел...» «И оба мы, -рассказывала Елена Сергеевна, - стали неудержимо смеяться» .
Да, весёлость входила очень важной составляющей и в характер самого Булгакова, и в его мироощущение. Глубоко справедливо в этом смысле указание В.Я. Проппа: «Неспособность к смеху может быть признаком не только тупости, но и порочности»7.
Чтобы по-настоящему смеяться, необходимо наличие в духовном составе личности положительных серьёзных ценностей. «Смехом иной человек себя совсем выдаёт, и вы вдруг узнаёте всю его подноготную, -рассуждает герой «Подростка» Достоевского. - Даже бесспорно умный смех бывает иногда отвратителен. Смех требует, прежде всего, искренности, а где в людях искренность? Искренний и беззлобный смех - это весёлость, а где в людях в наш век весёлость, и умеют ли люди веселиться?.. Только с самым
5Химич,В.В. В мире Михаила Булгакова. - Екатеринбург, 2003.- С. 314.
6 Лакшин, В. Булгакиада.- Киев, 1991. - С. 16.
7 Пропп, В.Я. Проблемы комизма и смеха. - М., 2002. - С. 34.
высшим и с самым счастливым развитием человек умеет веселиться сообщительно, то есть неотразимо и добродушно...»8.
Актуальность темы исследования определяется открытием новых возможностей для понимания художественного мира М. Булгакова; сегодня возникает необходимость углубления изучения смеховой культуры писателей XX века, при учёте новых публикаций по вопросу мифологии смеха.
Изучение мифологии смеха Булгакова не рассматривалось ни в одной диссертационной или монографической работе.
На рубеже XX-XXI в.в. мы наблюдаем возрастающий интерес нации к русской духовной культуре. В современной России вульгарная «смеховая» культура приобрела рамки массовой, что обезличивает духовную деятельность общества. В таких условиях изучение смеховых традиций, обозначенных в творчестве художников России, актуально и перспективно.
Научная новизна обусловлена разработкой и использованием особого подхода к изучению смеховой природы художественного мира -исследованием «смеховых мифологем» в прозе Булгакова 1920-х годов.
Объектом изучения в диссертации является карнавализованная проза М.А. Булгакова 1920-х годов, так как именно в этот период происходит становление специфичной поэтики писателя. Изучение прозы этого периода в смеховом аспекте делает естественной характеристику идейно-эмоциональной атмосферы, существующей в мире булгаковских произведений, и в эпохе, к которой принадлежал художник.
Это, в свою очередь, побуждает нас заняться рассмотрением роли, которая принадлежит здесь смеху в разных его проявлениях: в связи с чем, и как смеются герои, говорят ли они о смехе - всё это очень важно для понимания любого писателя. Тем более, когда речь идёт о М.А. Булгакове.
Предметом исследования в диссертации является мифология смеха в прозе М.А. Булгакова. Многоаспектность этого «предмета» представляет
s Достоевский, Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. - Т.13.- Л., 1958,- С. 233.
возможность объяснить феномен булгаковского творчества с опорой на мифологическую сущность смеха.
Мифология смеха, помогая осмыслить художественную картину мира писателя, позволяет понять нам не только булгаковских героев, самого писателя, но также понять прошлое и настоящее культуры России. Мы исходим из того, что смех, проникающий во все сферы человеческой жизни, представляет собой междисциплинарный объединяющий феномен и обладает универсальным мировоззренческим характером. Это приводит к тому, что анализ смеха становится одним из способов проникновения в художественный мир писателя.
Природа мифа, знака и символа будет раскрыта в рамках карнавализованного художнического мира, в котором смех является одним из главных компонентов. О карнавализации булгаковской прозы исследователи заговорили давно, что позволяет сегодня предметно исследовать мифологию смеха в карнавализованной прозе писателя 1920-х годов.
В мифологии смеха важными становятся те символические цепочки, которые сопровождают проявление смехового начала. Природа смеха уходит своими корнями в глубокую древность, где его рождение было ознаменовано особыми знаками и символами. Почему смеются герои Булгакова? К чему приводит этот смех? Ответы на эти вопросы помогут нам сегодня по-новому «прочитать» писателя.
Хотя вопрос о смехе и средствах его воплощения у Булгакова ставится в науке не впервые, считать его достаточно разработанным нельзя. Имеющиеся на этот счёт высказывания являются поистине каплей в безбрежном море литературы о загадочном писателе. Вот первая трудность, с которой мы сталкиваемся. Вторая заключается в том, что отсутствуют работы монографического характера, которые были бы посвящены статусу и функционированию смеха в произведениях М. Булгакова. Нам встретились две статьи, посвященные творчеству писателя, в названии которых
фигурировало слово «смех»: статья Мирона Петровского «Смех под знаком апокалипсиса (М. Булгаков и «Сатирикон»)9 и статья М.А. Лазаревой «Смех Михаила Булгакова (Критерии художественности «Мастера и Маргариты»)10.
8 монографии «В мире Михаила Булгакова» вопрос о «человеке смеющемся»
рассматривает В.В. Химич.
Проблема смеха в творчестве М. Булгакова до сих пор остаётся одной из наименее исследованных. Парадоксальность в том, что изучение булгаковского смеха предстаёт одним их наиболее плодотворных путей проникновения в содержание и структуру художественного мира писателя.
В теоретической мысли понятие «смех», прежде всего, соотносится с понятием «комическое». Так, например, Гегель в своей «Эстетике», различая «субъективный смех», «объективное комическое» и сатиру, считал, что смех как «плод <...> серьёзного отношения <...> гения «к окружающему миру не может быть «чем-то ничтожным», так как является художественно негативной реакцией на объективно ничтожное состояние существующей реальности. Смех, с его точки зрения, как «абсолютно серьёзное» отношение писателя к «мёртвой» официальности внешнего мира не должен исходить из «самого себя», так как художественная сущность смеха зависит не от эмоциональности творческого «Я», а от «субстанциального» интереса»11. В силу чего Гегель скептически относился к немецким романтикам, чьё крайне субъективное творческое сознание, развившееся из иронии, так и не смогло, как ему казалось, художественно возвыситься до отрицательной значимости комического содержания литературы. Таким образом, по Гегелю, смех - это художественный пафос произведения, определяющий его комическую направленность.
Но, как мы знаем, изображённая во многих произведениях М.А. Булгакова жизненная ситуация объективно не была комической.
9 Петровский, М. Смех под знаком апокалипсиса: М. Булгаков и «Сатирикон» (К 100-летию М.А. Булгакова)
//Вопросы литературы. - 1991,- №5.-С. 3-34
10 Лазарева, М.А. «Смех» Михаила Булгакова: Критерии художественности «Мастера и Маргариты» //
Филол. науки. -1999. - № 2. - С. 26-35.
иГегель,Г.В.Ф.Эстетика:В4т.М.- 1998.- Т. 1.- С.71-75.
Атеистическая кампания как продолжение революционного эксперимента, требовавшая новых человеческих жертв, была не менее трагической, чем братоубийственная гражданская война, которая ещё в «Белой гвардии» предстала в виде исторического «недоразумения», противного естественным законам человечества.
«Идея смеха», по мнению советской идеологии, не вписывалась в художественное миропонимание Булгакова, который пришёл к крамольной для своего времени мысли: смерть человека как необходимая жертва «новой власти» отнюдь не благое дело, а, напротив, насильственное преступление. В то же время, критическое отношение писателя к национально-историческому парадоксу русской действительности XX века предстало в его прозе 1920-х годов не только как трагическое неприятие случившегося («Белая гвардия»), но и как его комическое осмеяние, оформившееся позже в «Мастере и Маргарите» в необычном (по замечанию М.А. Лазаревой) для русской литературы жанре комической мистерии.
Но «комическое и смешное - не всегда одно и то же»12, и это подтвердил М. Булгаков. «Смешное» у него - это изобразительно-оригинальный способ художественного воспроизведения модели жизни»13, который открыл писателю идейно-эмоциональную возможность глубокого правдивого постижения современной реальности, а также совмещения в своих произведениях разных культурных пластов, ключом к постижению которых в нашей работе явилось архаическое мифологическое мышление, аккумулируемое художником.
Целью диссертации является определение функциональной и эстетической значимости смеха в карнавализованном художественном мире М.А. Булгакова 1920-х годов.
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:
12 Белинский, ВХ. Поли собр. соч.: В 15 т. - М., 1996. - Т.З. - С. 448.
13 Лазарева, М.А. «Смех» Михаила Булгакова: Критерии художественности «Мастера и Маргариты» //
Филол. науки. - 1999. - № 2. - С. 26-35.
рассмотреть бытующие в науке авторитетные фифилософско-эстетические воззрения на проблему мифологии смеха;
выявить в контексте русской литературы 1920-х годов её карнавальные и смеховые традиции;
3) определить стилеобразующую доминанту смеха в формировании
театрально-карнавальной атмосферы булгаковской прозы 1920-х годов;
4) выявить основные функции смеха и «смеховых мифологем» в исследуемой
прозе;
5) выработать классификацию «смеховых мифологем», способствующих
становлению целостного карнавализованного мира в прозе Булгакова.
Поставленные задачи определяют структуру нашего исследования, которое состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы, включающего 313 наименований.
В первой главе обосновывается необходимость рассмотрения понятий «миф» и «смех», как тесно связанных в поле разрабатываемой нами темы.
Во второй главе выбранные для исследования художественные произведения рассматриваются как целостный карнавализованный мир. Прослеживается эволюция смеха, и определяются его функции в формировании особой театрально-карнавальной атмосферы в этом мире.
В третьей главе обозначается система «смеховых мифологем» и определяется их художественная значимость в произведениях М.Булгакова. Л.В. Карасёв (концепция которого определит методологию диссертационного исследования) в работе «Философия смеха», рассматривая понятие «мифология смеха», приводит множество антропологических номинаций, с которыми смех образует «символические звенья» («смех и рот», «смех и волосы», «смех и красное» и др.). Опираясь на этот фундаментальный «символический набор», который приводит учёный, мы для анализа смеха Булгакова будем использовать термин «смеховая мифологема», не претендуя на право введения этого термина в научный обиход. В диссертации такая терминология представляется для нас наиболее
удобной, так как термин «смеховая мифологема» заключает в себе основную идею методологии анализа булгаковского смеха - миф, говоря о символах, сопровождающих смех героев карнавализованного мира, раскрывает природу этого смеха. Текстовой интерпретации «смеховой мифологемы» у Булгакова предшествуют описания проявлений смехового начала с точки зрения архаического мифа. Выявление символов, смыслов, ситуаций, сопутствующих проявлению смеха в рассматриваемой прозе, установление связей между ними составляет задачу нашего исследования в данной главе.
Работа отражает трёхступенчатое исследование мифологии смеха писателя в прозе 1920-х годов:
определение функций смеха в карнавализованной прозе писателя;
объяснение смеховой символики посредством мифологических архетипов;
установления «смеховых мифологем» в текстовом пространстве булгаковской прозы.
Методологической основой диссертационного труда явился герменевтический путь исследования - интерпретация булгаковской прозы 1920-х годов.
В современной научной парадигме герменевтика рассматривается как методологическая основа гуманитарного знания, в том числе и литературоведения. В теории литературы предметом литературной герменевтики является интерпретация. По мнению крупного представителя зарубежной литературной герменевтики Э.Д. Хирша, - цель интерпретации всегда определяется системой ценностей интерпретатора, его этическим выбором. Интерпретация - целенаправленная когнитивная деятельность, которая сопряжена с переводом высказывания на другой язык. Благодаря интерпретации художественного слова преодолевается неполнота его первоначального понимания. Наша задача как толкователя текста будет состоять в том, чтобы «понять речь автора сначала так же хорошо, а затем
глубже, чем её инициатор» , то есть осознать то, что для автора «оставалось неосознанным»; обнаружить скрытый смысл в смысле очевидном позволит нам теория мифологии смеха. Тип прочтения, характер интерпретации, вся суть рецепции обусловлены типом текста. Поэтому возникла необходимость учитывать карнавальный характер булгаковской прозы, насквозь пронизанной мифами и символами.
Один из важных герменевтических и рецепционно-эстетических вопросов современной булгаковской критики: является ли авторская интерпретация собственных произведений 1920-х годов единственно правильной и не приходится ли исследователю, в случае наличия такого авторского толкования, свести весь смысловой анализ смеха в произведениях к выявлению предложенного автором смысла, не учитывая связь мифологии смеха и символов? Наука утверждает, что произведение вступает в диалог с читателем и исследователем: хотя авторская интерпретация собственного произведения важна и существенна, она не может считаться общеобязательной и единственно правильной.
Наша трактовка подкреплена рядом объективных факторов: той социальной действительностью, что обусловила создание произведений, и той, что обусловила их прочтение. Первое относится к полю авторского творчества 1920-х годов, к биографии автора и т.д. Последнее - к культурно-историческим, мифологическим и собственно художественным традициям и контекстам. Объективные факторы интерпретации не исчерпываются внешними связями произведения с действительностью и культурой.
Столь же существенное значение имеют внутренние связи произведения (структура и принципы организации текста, его знаково-семиотическая система, его стиль и т.д.), а также социальное функционирование текста (его читательские и критические интерпретации, предшествующие нашей трактовке, поле общественного мнения и т.д.). Все эти факторы, имеющие своё объективное фиксированное выражение,
14 Шлейермахер, Ф.Д.Е. Герменевтика //Общественная мысль. IV. - М, 1993. - С. 233.
обусловливают определённость смысла художественных текстов писателя 1920-х годов, несмотря на множественность и вариативность их прочтений, и определяют методологию нашего исследования булгаковской прозы.
Будет применён и структурно-семиотический подход. Ю.М. Лотман рассматривал текст как своеобразную знаковую систему. В качестве определённых знаков в работе выступили «смеховые мифологемы», которые формируют целостный карнавализованный мир булгаковской прозы 1920-х годов. Мифологический подход позволит нам рассмотреть миф не только как первоисточник литературного материала, но и как некий общечеловеческий архетип. В процессе реконструкции «смеховых мифологем» в художественном мире писателя мы будем опираться на работы С.С. Аверинцева, Аристотеля, А.С. Ахиезера, М.М. Бахтина, А. Бергсона, Л.В. Карасёва, Д.С. Лихачёва, А.Ф. Лосева, Е.М. Мелетинского, В.Я. Проппа, А. Шопенгауэра, О. Шпенглера и др.
Творчество - это процесс воплощения замысла в знаковую систему и вырастающую на её основе систему образов, процесс объективации художественной мысли в художественном тексте, процесс отчуждения замысла от писателя и передачи его через произведение исследователю и читателю.
Многим может показаться, что в вопросе о мифологии смеха нужно опираться только на интуицию. Однако это не вполне оправдано. Исследование этого вопроса, на наш взгляд, призвано всесторонне и целостно охватить мир булгаковской прозы 1920-х годов, должно включать в себя - не в эклектическом, а в системном виде - всё богатство методологических подходов и использовать в сочетании как рассудочно-аналитический, так и интуитивные способы постижения художественного смысла, ключом к которым является мифология.
Будет применён и сопоставительный метод - аналитическое прочтение прозы 1920-х годов и выявление в ней общей тенденции; нахождение общего и различного в литературе и жизни того времени.
Практическая ценность исследования. Материалы диссертации могут быть использованы в вузовских курсах по истории русской литературы XX века, по теории литературы, для проведения спецсеминаров по булгаковедению. Полученные результаты могут быть востребованы в других гуманитарных науках (философии, социологии, культурологии).
Эстетическая природа мифа и его функции в литературе
Ещё в XX веке литературоведы-мифологи стали заниматься не столько анализом национального фольклора и поисками национальных корней, сколько прямым использованием древнего мифа в качестве инструмента объяснения самой современной литературы. Миф определялся в качестве матрицы, не только штамповавшей первые художественные формы, но и все последующие, вплоть до настоящего времени.
На рубеже ХХ-ХХІ веков вся современная литература в восприятии исследователей вдруг предстала насквозь пронизанной «мифологемами», «архетипами». При этом последние понимаются не в качестве «пережитков», а как носители высшей художественности, мудрости и глубины. Легко заметить контраст между этим культом мифа и отношением к нему как к чему-то бессмысленному и бесформенному, которое было, к примеру, у сентименталистов XVIII века.
Современное мифологическое направление в литературоведении основное внимание уделяет древним ритуалам, связанным со сменой сезонов (умирание-воскресение) и выросшим на их основе сезонным мифам (в литературоведении это направление именуют «ритуально-мифологической критикой»). В чём-то оно проливает свет и на проблему мифологии смеха, позволяя рассматривать творчество М.А. Булгакова в указанном аспекте.
Н. Фрай с помощью мифологической методологии пытается решить как общие, глобальные, так и частные проблемы литературы. Рассматривая литературный процесс в целом, Н. Фрай связывает зарождение и современное состояние этого процесса с мифотворчеством. Древний миф, по мнению канадского теоретика, совершив что-то вроде гегелевского «витка», возрождается на современном этапе15.
Однако в современной науке вопрос о том, существует ли современная мифология, является дискуссионным (видимо по этой причине многие из учёных сегодня обходят «мифологическую тему»). Мнения на этот счёт различны, но в одном сходятся все специалисты: в своём первозданном виде мифология перестала существовать с развитием сознания и цивилизации. Поэтому сторонники ритуально-мифологической критики заняты преимущественно поисками «пережитков» древних мифов как в литературе, так и в сознании современного человека (Г. Мэррей, Ф. Фергюссон, Т. Уиннер). Всё же существующие образцы мифокритики прямо свидетельствуют о разнообразии её исследовательских приёмов. Одним из актуальных вопросов мифокритики является сегодня исследование мифологии смеха. Наибольшее распространение мифологическая критика получила в Англии и США, а сегодня её методы исследования начинают широко применяются и в других странах, включая Россию.
Современная мифокритика позволяет нам рассмотреть мифологию смеха и в художественной прозе М.А. Булгакова.
Мифология - древняя, но вместе с тем устоявшаяся форма творческой фантазии. Она выступает доминантой духовной культуры в первобытных и отчасти древних обществах, господствующим способом глобального концептуализирования. В первобытной культуре мифология скрепляет ещё слабо дифференцированное синкретическое единство бессознательно-поэтического творчества, фантазии, религии, смеха и зачаточных форм донаучных представлений об окружающем мире. Мифология составляет почву и арсенал ранних форм как религии, так и поэзии. Заметим, смех всегда двуедин: положительный и негативный. Но и сама природа мифа двуедина в том смысле, что мифология представляет собой одновременно определённый набор представлений о мире и совокупность повествований о конкретных персонажах и явлениях. Если сопоставить многочисленные определения мифа, то они отчётливо распадаются на две группы, в зависимости от того, что взято за основу - «представление» или «повествование». В вопросе о мифологии смеха за основу мифа берётся «повествование». Дело в том, что по самой своей сущности миф, по крайней мере, первобытный - есть символическое описание модели мира посредством рассказа о происхождении различных элементов современного мироустройства. Это особенно важно, если речь идёт о художественном творчестве. В характере писательского повествования сказываются некоторые черты мифологии как типа мышления. «Мифологии свойственно наивное очеловечивание окружающей природы, метафорическое сопоставление природных и культурных объектов, которое привело к мифологическому символизму, а также к представлению космоса в целом в виде живого существа, к отождествлению макро- и микрокосмоса» . Диффузность первобытного мышления проявилась в неотчётливости разделения субъекта и объекта, предмета и знака, вещи и её атрибутов, части и целого. Мифология не строит обобщения на основе логической иерархии от конкретного к абстрактному и от причин к следствиям, а оперирует конкретным и персональным, так что вместо иерархии причин и следствий она даёт имеющую семантически-ценностное значение иерархию сил и мифологических символов. Мифологические классификации строятся не на основе противопоставления внутренних принципов, а по вторичным чувственным качествам, неотделимым от самих объектов и вызываемым последними эмоциям. Сходство или иной вид отношения выглядит в мифологии как тождество, а вместо расщепления на признаки миф предлагает разделение на части. «Поэтому вместо научного закона находим в мифе конкретные образы и индивидуальные события, вместо причинно-следственного процесса - «начало» во времени (происхождение) и материальную метаморфозу»17. «Мифологическая логика метафорична, символична, пользуется конечным набором средств, выступающих для художника то в роли материала, то в роли инструмента и подвергающихся периодически «калейдоскопической» реаранжировке» . Мифологическая логика широко оперирует двоичными оппозициями чувственных качеств. Эти контрасты все более семантизируются и идеологизируются, делаясь различными способами выражения фундаментальных оппозиций типа жизнь / смех / смерть и т.п. «Для мифологии характерно иллюзорное преодоление подобных антиномий посредством последовательного нахождения мифологических медиаторов (объектов), символически сочетающих признаки полюсов»19. При всём своеобразии мифологическое мышление несомненно было формой познания окружающего мира и при всей громоздкости и «фантастичности» несомненно служило инструментом анализа действительности, без которого была бы немыслима даже материальная культура человечества, не говоря о художественном постижении реальности.
Смеховое и театрально-карнавальное начало в «Записках на манжетах», рассказах и очерках М.А. Булгакова 1920-х годов
Работу над «Записками» М.А. Булгаков начинает в ноябре 1921 года, уже тогда писатель делает первые наброски - каким будет «портрет смеха» в прозе 20-х годов: «Что было! Что было ... Лишь только раскрылся занавес -.. прошелестел первый смех. Боже!» /
В «Записках» смеха мало. Но можно заметить, что смех Булгакова разный. Писатель ещё не знает, каким получится этот «портрет». Здесь есть место и «одобрительному хохоту», и «чеховскому юмору», и «стыдливой улыбке». Это «осторожный» смех. Булгаковский герой опасается насмешки, пока ещё и сам боится обидеть окружающих: «Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продаёт потому, что у него деньги украли. Он лгал! У него давно уже не было денег, И он три дня не ел ,,. Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту, Я чуть не засмеялся. Но вдруг вспомнил: а я » [171].
Вместе с тем, автор отмечает, что смех может быть далёк от доброго и возрождающего (не зря его герой «чертыхается»),
В «Записках» - одном из первых прозаических произведений Булгакова 20-х годов смех обнаруживает свою двойную природу, свою полифункциональность: «Слезкин усмехнулся одной правой щекой» [159] «... я улыбнулся. Каюсь, Улыбнулся загадочно, чёрт меня возьми! Улыбка не воробей?» [162]. Булгаков объединяет смех и слово. И действительно, смех, как мы увидим, скажет своё слово в прозе писателя 20-х годов. Смех писателя, как и слово, будет полифункциональным.
Булгаковский герой попадает в особый карнавализованный мир: «Давно уже мне кажется, что кругом мираж. Зыбкий мираж. Там, где вчера ... впрочем, чёрт, почему вчера? Сто лет назад ... в вечности ..- может быть, не было вовсе ,. , может быть, сейчас нет?..» [ 182],
И в этом странном карнавализованном мире есть, помимо прочих, некая сила, некое третье лицо, которое формирует этот мир и принимает формы, порождаемые этим же миром. Это третье лицо - смех. Он может выносить приговор, может осуждать или миловать, а может стать частью этого мира, рождающего сумбур и хаос: «Над нами есть какая-то жизнь, топают ногами. За стеной тоже что-то. То глухо затарахтят машины, то смех» [179].
«В основу сюжета неоконченного романа «Записки на манжетах» (1922-1923) «положен мифологический мотив инициации, трансформированный фольклором в тему «трудных задач», выполнением которых центральный персонаж подтверждал свою героическую роль и повышал свой социальный статус. Булгаков переосмысливает этот сюжет. Рассказчик преодолевает бесконечную череду «трудных задач»: одерживает верх в диспуте о Пушкине, не погибает от голода на Кавказе, находит работу в Москве, но всякий раз победа над обстоятельствами оказывается мнимой. Она ставит героя либо на грань физического уничтожения, либо толкает на нравственное преступление. Любая попытка социально адаптироваться только приближает его к гибели, так как абсурдны не поступки героя, а карнавализованный мир вокруг него»101.
Булгаков использует в повествовании традиционную фольклорную тему блуждания героя в «чужом» пространстве. Демонологические мотивы и образы пронизывают как «кавказскую», так и «московскую» части книги, что «подчёркивает идею неразличимости пространства: две «вселенные» сопоставлены как в равной степени губительные для человека»102.
В новом мире, родившемся из хаоса гражданской войны, возникают смешные, нелепые новообразования (Тео, Лито, Изо, Музо и другие), в которых витают абсурдные идеи. Вовлечённость в мир абсурда превращает рассказчика в участника всеобщего смешного «балагана». «Балаганной атмосферой дышит сцена диспута о Пушкине, настроением обмана и циркового мошенничества пронизаны ситуации, описывающие кавказское и московское Лито. Рассказчик и сам постепенно подчиняется логике «балаганной» жизни: имитирует активную творческую деятельность Лито, стремится «зацепиться за общий ход». Вторжение социального хаоса в нравственное пространство личности совершается незаметно, но именно духовные потери автор считает самыми разрушительными»103.
Появление смеха создаёт диссонанс между состоянием духовного мира человека и состоянием общества. Он, как мы увидим, будет пронизывать всю прозу писателя 1920-х годов.
«Нарочитые, театральные изменения в мимике лица, в голосе, в интонации создают маску, т.е. условный, заведомо построенный образ»104. «Печальная жена разбойника», «мадам Крицкая и котиковая шапочка» - всё это персонажи-маски, действующие в произведении.
Введение лиц-масок и предметов-масок в карнавализованный мир трактуется двойственной природой человека. Эта точка зрения основана на недоразумении: натура человека так широка и порой так страшна, что в общении все люди, бессознательно или сознательно, используют маски. Окружающие предметы принимают вид маски в зависимости от пристальности обращенного на них взгляда и угла зрения. «Маска - это определённый образец, тип поведения, который не может быть нейтральным по отношению к «Я», и наоборот. Маска должна компенсировать то, чего личности, по её самооценке, не хватает»105.
Идея маски в произведениях Булгакова связана со своеобразием построения портретного и предметного образа: в карнавализованном мире смех или улыбка маски могут скрывать подлинную мимику лица карнавального героя. Театрально-карнавальные маски являются у писателя способом развенчания обезличенных людей-функционеров, включавшихся в общий ритм смехотворной абсурдной жизни.
Смех как стилеобразующая доминанта театрально-карнавального мира в цикле М.Булгакова «Московские повести»
В повести «Дьяволиада» смех становится приметой формирования театрально-карнавальной атмосферы. В формировании этой атмосферы свой вклад вносит и «театрально-карнавальный компонент» [этот термин использует по отношению к булгаковской прозе Е.Г. Серебрякова]. Им мы будем обозначать один из важнейших формально-содержательных элементов поэтики прозы М. Булгакова, который, не меняя жанровой природы произведения (повесть, рассказ, роман), позволяет художнику использовать выразительные возможности других видов искусства, в данном случае -театрально-зрелищные. Термин «театрально-карнавальный компонент» позволяет нам сосредоточить внимание на использовании зрелищных форм карнавальной культуры в эпическом произведении и представить его, как конструктивный элемент художественного сознания и мировидения писателя.
Карнавал, включающий смеховое начало, выражает единое, но сложное карнавальное мироощущение писателя. Смех, служащий сатирическому разоблачению современного уклада жизни, описываемой Булгаковым в повести, раскрывается в частных элементах поэтики - именах. Поэтому, в рамках театрально-карнавального компонента рассмотрим ономастику писателя. Мы находим у Булгакова чрезвычайно последовательную систему превращения имён в прозвища.
Возьмём того же Короткова. При одном прочтении этой фамилии напрашивается само собой: «короткий», то есть «ограниченный», «недалёкий»121. Действительно, «жизнь на земле» заменена в его сознании маленькой обывательской жизнью. В то же время это слово, применительное к «нежному тихому блондину», вызывает ассоциацию с понятием «кроткий», «незлобливый», «согласный во всём». А когда Коротков пытается возвратить своё потерянное «я», - его называют Колобковым. Как известно, в русской народной сказке Колобок катится по свету, вкушая свою свободу, но из-за самодовольства, в конце концов, погибает. Таков и Коротков - Колобков, только судьба его драматичней: даже насладиться свободой ему не пришлось. «Колобок» превращается в тот же «биллиардный шар», которым играет неумолимый рок.
Другой персонаж повести наделён экзотической фамилией Кальсонер. Смысл этой фамилии расшифровывать нет надобности: более низменной и обыденной детали придумать трудно: «Я ду-думал, думал - прохрустел осколками голоса Коротков, - прочитал вместо «Кальсонер» «Кальсоны» [14]. Тем более Коротков заметил: фамилия эта под приказом была написана с маленькой буквы. А ещё здесь важен национальный - то ли немецкий, то ли еврейский - аспект этой фамилии: кто же по воле дьявола управляет страной? А если отречься от звукового оформления фамилии и войти в её семантическую суть, то «рядом встанет близкое по значению слово «исподнее» - уже с явной ассоциативной направленностью на «преисподняя», то есть ад» . Отсюда вытекают сложности в определении значений булгаковской ономастики.
В портрете Кальсонера выделяются такие подробности: «Достигал ... Короткову только до талии»; «Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч .. «квадратное туловище». Всё это обрисовывало скорее предмет, чем тело. Так же, как и лысую блестящую голову, где на темени «не угасая, горели электрические лампочки»; «голос ... отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки» . Бездушная предметность, механицизм действий, автоматизм движений - всё это роднит облик Кальсонера с посланцем из потустороннего, антижизненного мира - а он оказывается миром современной цивилизации. Всё время его облику будут сопутствовать «голос медного таза», «чугунный голос», «телефонный звонок», его рёв будет звучать, «как сирена»; он будет скатываться с лестницы, «словно на роликах», а умчится «в туче синего дыма» на мотоцикле. Одновременно привлекает внимание и облачение героя нового времени. «Тело неизвестного было облечено в расстёгнутый, сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка, ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времён Александра I». Левая нога у Кальсонера была хромая. На своём распоряжении он выводит «кривые слова», на бумаге Короткова он «косо написал несколько слов» [35].
Иногда смеховой эффект достигается явным столкновением несоединимых смыслов. Например, «товарищ де Руни»: дворянский артикль «де» - и новомодное советское «товарищ». Или бледный юный чиновник с красным кулаком Артур Артурович, которого называют Артуром Диктатурычем: ведь воцарилась диктатура бюрократии. Или Ян Собесский, улыбающийся «безжизненной гипсовой улыбкой», желающий поменять фамилию на Соцвосский: такая форма подлаживания к новой власти в ту пору была широко распространена. В то же время смысл подлинного имени редактора-приспособленца расшифровать нелегко. Как известно, польский король Ян Собесский в XVII веке разгромил турецкую армию и заключил «вечный мир» с Россией. Польша же после 1917 года заняла по отношению к Советской России враждебную позицию. Что подразумевает в данном случае автор? Двуличность польского правительства? Или продажность международной журналистики? Думаем, и то, и другое.
Смеховая мифологема как структурирующая единица карнавализованного мира
Карнавальный мир не знает разделения на исполнителей и зрителей. Карнавал не созерцают, в нём живут. В этом смысле Булгаков не просто использует театрально-карнавальные формы прозаического повествования, он передаёт реальную жизнь своей эпохи, в которой, как мы знаем, карнавал отнюдь не разыгрывали. В условиях карнавала реально существовали. Сама жизнь играла, а игра на время становилась жизнью (хотя игра эта слишком затянулась). И дети, и взрослые в 20-е годы продолжают вести обычную для них - ритуализированную жизнь. Писателя занимает «психологический механизм общей жизни - механизм житейского ритуала, механизм молчаливо принятой игры»142. Можно сказать, что человек в 20-х годах тоже жил как бы двумя жизнями: официальной, хмурой, подчинённой иерархии, полной страха, догматизма и пиетета, и неофициальной, «кухонной». Между этими двумя жизнями обычного человека был резкий разрыв, но они практически ежедневно соприкасались. Балаганная комика Булгакова - это попытка свести вместе две жизни одного человека, прорвать каноны идеологического догматизма, используя богатство форм и символов народного площадного смеха. Мифологическое мироощущение, особое ритуализированное значение смехового начала в национальной жизни укрепляло художественные позиции писателя.
Карнавальная игра в художественном мире писателя заключалась в столкновении ничтожного и серьёзного, страшного; карнавально обыгрываются представления о бесконечности и вечности (бесконечные тяжбы, нелепости и т.д.). Мы убедились - народно-праздничная жизнь организует большинство произведений М. Булгакова 1920-х годов. Карнавальная атмосфера определяет сюжет, образы и тон этих произведений. Эта атмосфера выводит жизнь из её обычной колеи и делает невозможное возможным. И в самих заглавиях произведений, и в сюжетных линиях существенную роль играет чертовщина, глубоко родственная по характеру, тону и функциям весёлым карнавальным видениям, преисподней и дьяблериям. Значимую роль в прозе писателя играют переодевания и всякого рода мистификации, а также побои и развенчания. Смех Булгакова в этих произведениях (как мы выяснили во второй главе) амбивалентен и стихийно-материалистичен. Эта народная основа булгаковского смеха, несмотря на его существенную последующую эволюцию, сохранится в нём навсегда.
Смеховая культура карнавала всегда оперировала карнавальным языком и символами. Символика смеха берёт своё начало в глубокой древности. Рассмотрение истоков этой символики нельзя ограничивать смеховой культурой средневековья и Ренессанса, необходимо обратиться к мифологии, в рамках которой одни символы смеха предполагают другие, полюса требуют связок и «вся эта «техника» действует безотказно на всём пространстве мифологии смеха»143, давая себя знать в интересующей нас теме.
Вопрос мифологии смеха, как мы выяснили в первой главе, в отечественном, да и зарубежном литературоведении разработан достаточно слабо. Безусловно, этот вопрос требует внимания теоретиков литературы. Мы уже отмечали тот факт, что Л.В. Карасёв в работе «Философия смеха» рассматривая понятие «мифология смеха», в один ряд ставит с ним другие -«поэтика» и «метафорика» смеха. «В мифе тема смеха делает круг, перебрав на своём пути множество связанных друг с другом символических звеньев»: смех и волосы (безволосие), смех и круг, смех и красное, смех и движение вверх / вниз и др» . Опираясь на этот фундаментальный символический набор, который приводит учёный, мы попытаемся установить «смеховые мифологемы» в рассматриваемой прозе.
Во второй главе мы изучили функции смеха в карнавализованной прозе писателя, учитывая мифологические первоисточники проявления смехового начала. В третьей главе наше исследование будет направлено на выявление «смеховых мифологем», которые явятся единицами формирования карнавализованном мира булгаковской прозы, и установление их художественной значимости.
Итак, всю прозу М.А. Булгакова 1920-х годов можно представить как своеобразный карнавализованный мир, в понимании которого важную роль выполняет смех.
Смех М.А. Булгакова восходит к древним истокам своей первоначальной значимости, в первую очередь, к тем человеческим принципам, с которыми были связаны разного рода магические действия, предопределяющие жизненные установки и идеалы (праздничные карнавалы, смерть и т.п.). Такой смех в карнавализованном мире является неотделимым от жизненной характерности человеческого бытия и является обязательным в своём прямом значении, своеобразно закреплённом в том или ином изобразительном знаке - символе. И хотя разные виды смеха по-своему выражали жизненные закономерности в их вечном круговороте, они при всей своей многофункциональности всегда отличались эмоционально-субъективной выразительностью и зрелищностью действия.
Принято считать, что миф рождался в свободе, не знающей границ фантазии. Но это не так. Если воображение создало миф, то создало вынужденно, подчиняясь тем силам, которые сдавливали его «извне». В этом смысле миф - дитя необходимости, а отнюдь не свободы. Не он решал, каким ему быть, но именно это обстоятельство и делает его столь привлекательным для нас.