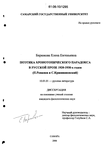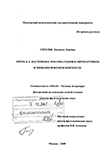Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Семиотический и ценностный аспекты традиционных представлений о доме: к постановке проблемы .25
1.1. Дом: структура архетипа 25
1.2. Понятие дом и русская ментальность 36
ГЛАВА II. Образ дома-гнезда в русской прозе 1920-х годов 56
2.1. Образ дома-гнезда в традиционалистской прозе 1920-х гг 57
2.1.1. Гибнущий дом: семантика и функции образа ..57
2.1.2. Конфликт Дома и Истории: взгляд на «большой» мир 76
2.1.3. Семантика непространственной границы (быта) .85
2.2. Образ дома-гнезда в прозе становящегося соцреализма 92
2.2.1.Ценностная инверсия традиционных представлений о доме-гнезде в прозе становящегося соцреализма и формирование нормативных принципов его изображения 93
2.2.2. Ситуация отказа от дома 107
ГЛАВА III. Образ дома-коммуны в русской прозе 1920-хгодов 145
3.1. Семантика и функции образа дома-коммуны в русской прозе 1920-х гг 145
3.2. «Случай» А. Платонова: дом-коммуна - утопия и антиутопия 158
3.3. Дом-коммуна и коммунальная квартира: утопия и «пародия» на нее 181
Заключение 208
Библиография 221
- Дом: структура архетипа
- Понятие дом и русская ментальность
- Образ дома-гнезда в традиционалистской прозе 1920-х гг
- Семантика и функции образа дома-коммуны в русской прозе 1920-х гг
Введение к работе
Дом - понятие многоаспектное. B.C. Непомнящий так обозначает семантическое поле, в котором в русской культуре существовало понятие дом: «Дом - жилище, убежище, область покоя и воли, независимость, неприкосновенность. Дом - очаг, семья, женщина, любовь, продолжение рода, постоянство и ритм упорядоченной жизни, "медленные труды". Дом — традиция, преемственность, отечество, нация, народ, история. Дом, "родное пепелище" - основа "самостоянья", человечности человека, "залог величия его", осмысленности и неодиночества существования. Понятие сакральное, онтологическое, величественное и спокойное; символ единого, целостного большого бытия» [Непомнящий 2001:126 - здесь и далее в квадратных скобках приводится фамилия автора цитируемого текста, год издания (для многотомных изданий - номер тома) и номер страницы с цитируемым текстом]. Приведенный исследователем перечислительный ряд со всей очевидностью раскрывает связь понятия дом с самыми существенными сторонами человеческой жизни. Причина зафиксированной практически во всех национальных культурах значимости этого понятия, заключается, видимо, в том, что дом принадлежит к числу «самых глубоких, базовых для человеческих институтов пространственных структур, относящихся к культуре в самом широком, общеродовом ее понимании» [Скубач 2002:5]. Местоположение дома в пространстве изначально существенно определяло представления человека о мире: дом задавал границы между пространством внутренним, «своим, понятным, привычным, соответствующим обычаю» [Кнабе 1993:119], и внешним, чья действительность была чужда обжитому домашнему миру. В семиотическом плане граница между внешним и внутренним знаменовала собой столкновение различных знаковых систем. Потому, определяя место дома в картине мира и характер соотношения данной пространственной единицы с другими, мы получаем возможность судить о «внутренней организации» той или иной культурной модели и ее «аксиологической иерархии» [Лотман I: 390].
Разумеется, нормы и идеалы, связанные с домом, воплощаются прежде всего в быту и принадлежат «обиходному слою культуры» [Панченко 2000: 15]. Слою, по замечанию A.M. Панченко, «консервативному», меняющемуся медленно, однако в «эпохи скачков», переломов, превращающемуся «в событие» [Там же: 15]. Периодом перелома в XX веке и стали 20-е гг.1 (здесь и далее примечания помещаются в соответствующем разделе за текстом главы), когда изменилась сумма идей и идеалов (среди них был и дом), на которых покоилось национальное бытие.
Актуальность данного исследования определяется интересом современного литературоведения к осмыслению топики национальной культуры, констант, структурирующих русский культурный космос и, если рассматривать собственно литературоведческий аспект, — художественную реальность произведения.
Научная новизна работы заключается в попытке осмыслить функционирование сущностно важного для национальной культуры топоса дом в ситуации смены культурных парадигм (1920-е годы)2. Это предполагает обращение и к нелитературному материалу - знаменитой «революции быта» и архитектурным новациям 1920-х гг. Их направление и пафос были глубоко родственны литературным поискам означенного десятилетия, ибо и то, и другое осуществлялось в русле становления «большого стиля», адекватного мироощущению эпохи.
Объектом исследования является отечественная проза 1920-х годов -десятилетия, когда осуществлялась смена культурных и социальных парадигм.
Предмет исследования — специфика воплощения в прозе указанного периода константного для русской литературы (и шире — культуры) образа дома.
Итак, в 1920-е гг. проблема дома оказалась одной из болевых точек эпохи и вызвала целую серию дискуссий. В это десятилетие вопрос о доме, вобравший в себя целый спектр родственных в духовно-культурном плане проблем (семья, род, родина, почва, традиция), приобрел еще и отчетливое нравственно-философское измерение: одни писатели были вынуждены оставить дом-жилище, чтобы в эмиграции сохранить дом в качестве духовной величины; другие - переосмыслить свое отношение к дому и связанным с ним ценностям в соответствии с требованиями новой идеологии и морали. Так что появление мотива дома в творчестве каждого из больших художников этого времени было определено, по выражению Г.М. Шленской, «конкретной исторической реальностью и собственной гражданской и творческой судьбой» [Шленская 1996: 22].
Интересно, что в исследованиях отечественных литературоведов, касающихся специфики послереволюционной прозы, .образ (мотив) дома долгое время не рассматривался в качестве отдельного смыслового элемента, хотя эти работы содержат много точных наблюдений над пространственно-временной парадигмой литературы 1920-х гг. Безусловным открытием последней провозглашалось принципиально иное по отношению к классической литературе осмысление взаимоотношений личности и истории. О специфически новых чертах героя послереволюционной прозы пишет Е.Б. Скороспелова: «Важнейшим критерием оценки личности стала ее способность к активному поступку в сфере революционно-практической, материально-практической и духовной деятельности. "Укрупнение" выразилось в стремлении писателей к сопряжению связей личности внутри микросреды ... со связями, действующими в пределах макросреды..., и определило потребность использовать при изображении личности широкие пространственные и временные координаты» [Скороспелова 1985: 14]. Аналогичны выводы В.П. Скобелева: литература 1920-х гг. жила убеждением, что «частная жизнь человека если и не прекратилась, то уж во всяком случае была перенесена на улицу или, наоборот (что не меняет сути ), улица ворвалась в дом, перевернув частную жизнь человека. ...Улица стала для человека местом его постоянной прописки» [Скобелев 1975: 20]. Расширение «пространственно-временного объема» в отечественной прозе 1920-х гг., связанное с возникновением нового мироощущения, констатирует Н.И. Великая: «Менялись отношения человека с миром, обстоятельства жизни раздвигались до эпохально-исторических. Судьба человека начинала строиться на новых точках соприкосновения, новых пространственно-временных параметрах» [Великая 1991: 31]. Эти концептуально важные наблюдения были уточнены, углублены и конкретизированы в ряде работ отечественных и зарубежных литературоведов, где образ (мотив) дома стал предметом отдельного рассмотрения и был определен как важнейшая структурообразующая единица прозы XX века.
Большей конкретизации в постановке проблемы способствовали работы Н.В. Корниенко и Г.М. Шленской, в которых осмысливался сквозной характер образа дома в русской литературе XX в. Так, Н. Корниенко высказывает мысль о том, что в XX столетии символы дома и площади могут быть истолкованы как знаки двух противостоящих друг другу типов миропонимания. В трагической интонации, утверждает исследовательница, проблема «дом и площадь» присутствует в литературе «серебряного века», в 1920-е гг. «в стихии разрушенного дома» живут герои Б. Пильняка, А. Толстого, П. Романова, М. Булгакова, А. Веселого и др. [Корниенко 1994: 337-338]. Вариации данного образа в литературе 1920-1930-х гг., по мнению исследовательницы, обозначают различные ценностные ориентации внутри русской культуры. В ее рамках «овеществленная идеальная шкала ценностей дома и семьи» в «Лете Господнем» И. Шмелева [Там же: 338] и сиротство героев А. Платонова «не противостоят, а скорее дополняют друг друга» [Там же: 339], потому что обнаруживают общую устремленность их авторов к преодолению бездомности. Г. М. Шленской идея дома охарактеризована с точки зрения ее значения для национальной ментальносте — это «идея прежде всего соединительная, духовно и материально созидательная» [Шленская 1996: 22]. По мнению автора статьи, мотив дома многоаспектен и вбирает в себя множество проблем: «дом и история, дом и семья, дом и формирование "русского духовного характера" (И. Ильин), дом и проблема личности, дом и проблема счастья, дом и судьба женщины послереволюционной России, дом и судьба поколений и т.д.» [Там же: 22]. Статья построена по хронологическому принципу и включает в себя анализ наиболее важных в плане присутствия мотива дома произведений русской прозы XX в. В поле зрения автора оказывается литература первой волны эмиграции (И. Бунин, В. Набоков, М. Осоргин, М. Цветаева, особое внимание уделено творчеству И. Шмелева), где «мысль о Доме-России становится смысло- и формообразующим началом. Ею определено направление жанровых поисков и присутствие лирической стихии в прозаическом повествовании» [Там же: 23]. Характерный для антиутопии смысловой поворот в интерпретации этого мотива - символическое сопоставление двух типов жилища (Древнего Дома и «стеклянной клетки») - ярко выражает, с точки зрения исследовательницы, новый идеал жизни, построенной на «системе ценностей казарменного социализма» [Там же: 25]. Гибель дома-гнезда и ее последствия для жизни отдельной личности и общества как важное сюжетное звено и основа художественного конфликта рассмотрены в романах Ю. Олеши «Зависть», М. Шолохова «Тихий Дон», Ф. Гладкова «Цемент». Естественно, не обойдена вниманием повесть А. Платонова «Котлован» (анализу образа дома в этом произведении и романе М. Булгакова «Белая гвардия» вообще в отечественном литературоведении посвящено наибольшее количество работ): бездомность платоновских героев порождает такие явления, как «отмежевание» от души, веры, утрату личности. Кроме того, в статье Шленской содержится интерпретация метафорических превращений образа дома в «Котловане» (могила, гроб, котлован). С опорой на сделанные Ю.Б. Неводовым наблюдения проанализировано содержательно и функционально значимое для творчества М.А. Булгакова расхождение понятий дома и квартиры. Автор статьи доказывает, что в контексте литературной жизни 1960-1980-х гг. «слово "дом" обретает все расширяющийся метафорический ореол... Это уже слово-образ, слово-проблема, создающее вокруг себя целое смысловое поле и целую систему переосмыслений» [Там же: 28]. Смыслы, итоговые по отношению к идущему на протяжении десятилетий процессу утраты исторической, культурной, нравственной памяти, открывает трактовка мотива дома писателями-«почвенниками», в творчестве которых этот мотив вплетается «в общую для современного искусства тему экологии природы и человеческого духа» [Там же: 29].
Уяснению природы образа дома и некоторых аспектов его функционирования способствовала методика, предложенная Ю. М. Лотманом. В статье «Заметки о художественном пространстве. 2. Дом в "Мастере и Маргарите"» ученый вычленяет архетипическую основу мотива- противопоставление дома антидому — и констатирует факт устойчивости и продуктивности данной архаической модели в дальнейшей истории культуры. По мнению Ю.. М. Лотмана, «традиция эта исключительно значима для Булгакова, для которого символика дома - антидома становится одной из организующих на протяжении всего творчества» [Лотман I: 458]. Семантику антидома раскрывает в романе «Мастер и Маргарита» тема ложного дома и обладающей ярко выраженной инфернальной окраской коммунальной квартиры. Многочисленные вариации темы ложного дома, по Лотману, способствуют созданию образа фантасмагорического мира. Отметив, что Булгаков использует «пространственный язык для выражения непространственных понятий» [Там же: 461], автор статьи доказывает возможность осмыслить эволюцию главных действующих лиц с точки зрения поиска ими дома: «Духовность образует у Булгакова сложную иерархию: на нижней ступени находится мертвая бездуховность, на высшей - абсолютная духовность. Первой нужна жилая площадь, а не дом, второй не нужен дом» [Там же: 461]. Ученый доказывает, что этот частный аспект построения «Мастера и Маргариты» - через анализ мотива дома - интересен тем, что «позволяет поставить роман в общую перспективу творчества Булгакова» [Там же: 462], в которой на одном полюсе - «Белая гвардия», повествование о гибели дома, а на другом — «Театральный роман», где «бездомный писатель воскрешает дом Турбиных» [Там же: 462]. «В нижней точке этой творческой кривой находится "Зойкина квартира"», а последний булгаковский роман «оказывается одновременно и включенным в глубочайшую литературно-мифологическую традицию, и органическим итогом эволюции его автора» [Там же: 463].
Лотмановскую методику анализа образа дома применительно к роману Е. Замятина «Мы» использует Е. Максимова. Наблюдая вариации архетипическои инвариантной структуры в этом произведении, она отмечает факт «сужения» Замятиным домашнего пространства до нуля, его превращение «из категории пространственной, материальной в категорию энергетическую», локализованную в сере сознания героя [Максимова 1994: 73]. Такого рода трансформации свидетельствуют об изменениях в психологии героя антиутопии, для которого сознание остается единственной, хотя бы отчасти защищенной от постороннего вторжения областью. Образ «стеклянной клетки» Максимова, ориентируясь на наблюдения В. Я. Проппа, возводит к фольклорному образу символизирующего смерть стеклянного гроба.. Соответственно характерное для антиутопии противопоставление воплощающего прошлое Древнего Дома и современного стеклянного жилища интерпретируется автором статьи как вариант архаической оппозиции дома и антидома.
Следует отметить,, что высказанные Ю.М. Лотманом идеи по исследованию проблем художественного пространства (в частности, уже упомянутая статья об организующей для художественного мира М. Булгакова роли мифопоэтической оппозиции дом-антидом) положили начало целому ряду работ, основанных на подобной методологии. Сегодня большинство литературоведческих статей, где затрагивается означенная проблема, содержат элементы структурного подхода. Идея Ю.М. Лотмана о
возможности понимать художественное пространство произведения как «своеобразную двуплановую литературно-этическую метафору» [Лотман I: 417] лежит в основе довольно распространенной и отработанной методики, согласно которой дом рассматривается в качестве элемента художественного пространства произведения в соотнесении с другими пространственными координатами. Анализ художественного пространства в данном аспекте становится основой для интерпретации художественного мира произведения в целом. В этом отношении для: исследователей русской прозы 1920-х гг. особенно притягательным оказалось первое крупное булгаковское произведение - роман «Белая гвардия», где наиболее отчетливо проявилась символико-мифологическая природа пространственных, категорий дома, Города, мира. Большинство литературоведов, рассматривавших способы организации художественного пространства в этом произведении [см.: Фиалкова, 1986; Никонова 1987; Великая 1991; Петровский 1991; Ребель 1995; Яблоков 1997], солидарны в том, что безусловным центром художественного мира романа является дом. Пространство текста организовано в четком соответствии мифопоэтической логике: оно тем упорядоченнее и стабильнее, чем ближе к дому и, напротив, «тем разреженнее и стихийней» [Фиалкова 1986: 154], чем дальше от него. Дом и Город определяются авторами многочисленных статей как пространства однотипные по структуре, связанные отношениями взаимозависимости: до апокалиптических событий революции и гражданской войны Город, «несмотря на многоярусность и суету, был, в сущности, так же уютен и ритуален, как дом...» [Никонова 1987: 56]; во второй части романа по контрасту с первой Город изображается как царство хаоса. «Разрушение Города повлекло за собой не только разрушение дома. Оно поставило на грань распада духовный мир Турбиных» [Там же: 59]. С точки зрения исследователей, значимо для понимания художественной концепции романа и наличие в нем абсолютного критерия оценки исторических событий, высшей оценочной категории - неба, символически истолкованного как дом всего мира.
Наиболее скрупулезно семантика образа дома в данном произведении проанализирована в монографии Е. А. Яблокова «Роман М. Булгакова "Белая гвардия"». В работе предложена типологическая классификация данного образа в романе. С точки зрения Яблокова, «по признаку архаичности, "внеисторичности" дом Турбиных обнаруживает известное сходство с домом Юлии Рейс [Яблоков 1997: 170]. Одновременно жилища этих героев противопоставлены, с одной стороны, флигелю Най-Турсов - «не-дому», «временному пристанищу» [Там же: 135], а с другой стороны, - квартире Василисы, явно соотнесенной автором с образом «подполья», «подвала» [Там же: 132]. Исследователь высказывает предположение о том, что к изображенному в романе дому Юлии генетически восходит важный в «Мастере и Маргарите» тип «нехорошей квартиры» [Там же: 170].
Принципиально противоположными булгаковским, по мнению Г. М. Ребель, были принципы организации художественного пространства в эпопее А. Н. Толстого «Хождение по мукам», вектор которой был направлен из ущербного пространства дома к яркой жизни в гуще социальной борьбы [Ребель 1995: 8]., А вот роман М. Шолохова «Тихий Дон», полагает исследовательница, возведен на тех же основаниях, что и булгаковское произведение: «И в той, и в другой книге авторская мысль, устремляясь по маршруту Дом - Мир — Вселенная, неизменно вновь и вновь возвращается обратно: от невозмутимой в своем спокойствии и бессмертии Вечности -через бушующий, раздираемый противоречиями Мир - к самому дорогому, желанному, теплому для скитальца-человека месту - родному Дому» [Там же: 8-9].
Проза другого современника М. Булгакова - А. Платонова, по замечанию Н. И. Великой, «почти не знает малого пространства дома» [Великая 1991: 39]. «Универсальная бездомность, вечное странствие человека по земле в поисках истины и сердечного тепла, любви, в поисках родного душевного начала, которое бы избавило человека от сиротства и отчуждения... - весь этот платоновский мир воспринимается как антитеза миру Булгакова» [Там же: 39]. Это обусловлено особым типом платоновского героя: он — странник, «идущий в пространство». Уточним, что для прозы А. Платонова отсутствие малого дома — осознанный минус-прием, деталь, определяющая неблагополучие мироустройства и мироощущения героев, и в этом качестве необходимая, для «исходного положения» в развитии сюжета, направляющая его к поискам выхода из ситуации сиротства и бездомности..
Н. Малыгина относит дом к числу устойчивых образов-символов платоновского творчества. Она указывает, что модель сюжета Платонова в качестве необходимого элемента содержит «приобщение героя к средствам "спасения" человечества: разного рода "двигателям"..., исполняющим функции "кораблей спасения" или преобразования земли в "дом-сад"» [Малыгина 1995: 285]. Исследовательница подчеркивает, что функционирование мотива дома в прозе Платонова подчинено принципу «обращения» - перехода в свою противоположность (отсюда пессимистическая трактовка «строительного сюжета» в «Котловане» и оптимистическая - в «Ювенильном море»). Малыгина объясняет это идейно-эстетической установкой автора на воссоздание образа целостного бытия, которая допускает взаимоисключающие, на первый взгляд, варианты развития ситуации [Малыгина 1994: 179].
Пожалуй, первой из известных нам попыток рассмотреть образ дома в прозе А. Платонова в качестве знака утопической культуры, побуждающего искать интенции утопического мышления в прозе этого художника, является статья австрийского литературоведа Э. Маркштайн «Дом и котлован, или мнимая реализация утопии» (впервые опубликована в 1980 г. в Studi е riserche a cura: di Vittorio Strada. № 4). Э. Маркштайн отмечает умение Платонова пойти намного дальше сатирического изображения несообразностей советского быта и истолковывает имеющий вполне реальные прототипы в действительности образ общепролетарского дома как воплощение идеи «коммунальности» жизни [Маркштайн 1994: 284].
К сходным выводам, анализируя повесть А. Платонова «Котлован» и контекстуально близкие ей произведения, написанные в жанре утопии, приходит Г. Гюнтер. Немецкий литературовед полагает, что существует «единое поле утопической проблематики» [Гюнтер 1995: 145], общее для антиутопии и утопии, но в разных жанровых образованиях имеющее противоположную оценочность. Атрибутом хронотопа утопического города, по замечанию Г. Понтера, является дом-башня, «общепролетарский дом», который возводят платоновские герои. Особенности трактовки писателем этого образа-символа обнаруживают сложное, иногда не поддающееся аналитическому «расщеплению» переплетение элементов утопического и антиутопического восприятия мира в художественном сознании Платонова.
Противопоставление Старого Дома новому жилищу склонен считать обязательным элементом «архисюжета» антиутопии А.К. Жолковский. Он восстанавливает ее типовую сюжетную схему: «Сам Герой обычно живет в неком полуобщественном помещении, просматриваемом насквозь с помощью техники, полиции и осведомителей. Но по ходу сюжета он оказывается в Старом Доме... Старый Дом становится местом знакомства Героя с запретными образцами ушедшей культуры...» [Жолковский 1994: 173].
В поле зрения литературоведов, обращавшихся к исследованию образа дома в прозе 1920-х гг., оказался и роман М. Осоргина «Сивцев Вражек». В диссертации М.В. Нечаевой символическое значение данного образа в этом произведении осмыслено путем анализа «поэтико-философского контекста и околороманного пространства» [см. Нечаева 1997], а Э.С. Дергачевой рассмотрено специфическое для Осоргина истолкование оппозиции дом -мир. Заглавие статьи Э. С. Дергачевой «Дом и история в романе М. Осоргина "Сивцев Вражек"» содержит указание на основополагающий конфликт произведения. Автор статьи, анализируя эволюцию образа дома в романе, воспринимает ее как художественную манифестацию культурно-идеологических взглядов писателя. Констатировав, что в романах «Белая гвардия» и «Сивцев Вражек» возникают сходные мотивы (воспевание поэзии дома, его утверждение в качестве главной опоры для героев в драматические времена русской истории), Дергачева подчеркивает и свойственные только Осоргину смысловые нюансы: для писателя дом прежде всего «средоточие культуры, культурных традиций и судьбы культуры. Двери особняка на Сивцевом Вражке приоткрыты навстречу течению жизни, и он оказывается менее защищенным от ее жестокой силы, чем Дом в романе Булгакова, и в нем быстрее наступают драматические перемены» [Дергачева 1994: 62].
Мы сосредоточили внимание на. литературоведческих исследованиях, посвященных анализу семантики образа дома в произведениях 1920-х гг. Однако перечень работ, где рассматривается эта же проблема в литературе последующих десятилетий, может быть продолжен (см. библиографический список, в который включены статьи об образе дома в мемуарно-биографической прозе первой волны эмиграции, в поздних рассказах А. Платонова, в прозе Ю. Трифонова, В. Высоцкого, А. Тарковского и др.). Даже беглого взгляда на историю русской литературы XX в. достаточно, чтобы увидеть в ней постоянное присутствие данного образа. Естественно, он - живой организм, испытывающий на себе влияние многих (исторических, социальных, культурных и др.) факторов, оттого он то уходит, воспользуемся выражением Д.С. Лихачева, «с дневной поверхности литературы» (так случилось в 1930-е гг.), то, напротив, актуализируется, заявляя о себе в произведениях различных тематических направлений и жанровых образований (например, в 1970-1980-е гг.). Повторим, осмысление жизни образа дома в русской литературе и шире - топоса дом в национальной культуре - могут стать предметом отдельного исследования.
Возвращаясь к периоду 1920-х гг., еще раз отметим, что Октябрьской революцией были кардинально изменены коренные принципы национального бытия. Для понимания сути процессов, происходивших внутри русской культуры после 1917 года, значимым оказывается не только общепринятое в подобных случаях указание на ее гетерогенную природу и типы ментальносте, характерные для различных культурных подтипов, но и антитеза «традиционное» - «антитрадиционное». Смыслоразличительные ориентиры, апробированные русским культурным сознанием, оставались в послереволюционный период актуальными для культуры крестьянской и культуры, генетически связанной с классической дворянской традицией. В рамках же культуры социалистической, наследующей и углубляющей революционно-радикальные умонастроения, данные ориентиры либо отменялись, либо пересматривались. Безусловно, оппозиция «традиционное» — «антитрадиционное», меняя свое смысловое наполнение, всегда присутствует в культуре, являясь одним из условий ее нормального существования. Однако в 1920-е годы - период формирования нового культурного мифа, которому надлежало вытеснить прежнее, основанное на христианстве миропонимание, вопрос о приверженности традиционной ценностной системе или отказе от нее приобрел всеобъемлющее значение. «Анафеме предаются... вся национальная топика и аксиоматика, вся сумма идей, в соответствии с которой живет страна, будучи уверенной в их незыблемости и непреходящей ценности. Притом цель этого отрицания - не эволюция, без которой, в конце концов, немыслима нормальная работа общественного организма, но забвение, всеобщая замена» [Панченко 2000: 56] - характеристика, которую A.M. Панченко дал деятельности «новых учителей», адептов барочной культуры XYII в., точно определяет и содержание социокультурной ситуации 1920-х годов, когда также осуществлялся культурный перелом. Все это имеет прямое отношение к проблеме, вынесенной в название данной работы: дом, домашний уклад и этикет сами по себе являлись воплощением традиции (генетически закрепленные за образом дома смыслы описаны в главе I), поэтому их признание-непризнание в качестве одной из важнейших ценностей национальной жизни стало ярким выражением социальной, нравственной и культурной позиции личности. Следует еще раз подчеркнуть, что вышесказанное верно по отношению к традиционному способу домоустройства. В течение веков дом в национальной культуре был эквивалентом природного, естественного, но «окультуренного», обжитого мироустройства и воплощал собой устойчивость, упорядоченность, семейно-родовую близость. Несмотря на условность подобных определений, назовем традиционный тип домоустройства домом-гнездом, включая в это понятие многообразные конкретно-исторические разновидности жилья (крестьянская изба, помещичья усадьба, родовое поместье, городской «фамильный» дом) и учитывая характер принятого в них домашнего уклада, в идеале основанного на преемственности и традиции. «Дом - это гнездо, а ... гнездо предполагает стада, детей, очаг, одним словом, символизирует семейную, социальную и экономическую жизнь» [Элиаде 2000: 341]. В данном контексте принципиально важной является глубинная связь дома-гнезда с традицией и родом («...Символическая связь существует между домом... и хранилищем мудрости, то есть традиции самой по себе» [Керлот 1994: 180]), с феноменом наследования (как материального, так и духовного, культурного). Сущностные для характеристики дома-гнезда качества — это стабильность, защищенность, определенного рода консерватизм, выразившийся в ориентации на ценности традиционного порядка и, что немаловажно, -исконность данного типа жилья, его «укорененность» в специфически национальном способе бытия, его адекватность апробированным формам народной жизни4.
Образ дома-гнезда в русской прозе 1920-х годов станет предметом рассмотрения в главе II. Наше внимание будет сосредоточено на отразившемся в литературе процессе ценностной инверсии, которой в данный период подверглись сформированные национальной культурой представления о доме-гнезде. Если рассматривать отношение к дому-гнезду в качестве свидетельства идеологической, социальной, нравственной
позиции личности, то, руководствуясь этим ценностным критерием, в русской прозе 1920-х гг. можно усмотреть сосуществование двух противоположных друг другу тенденций. Правда, отечественное литературоведение в силу идеологических причин и невозможности ввести в научный обиход произведения, принадлежавшие «крамольным» авторам и отразившие «не-советскую» систему ценностей, какое-то время замечало только одну из них, связанную со свойственным новой культуре отрицанием дома-гнезда. Анализируя раннюю советскую прозу, Н.И.. Великая пишет: «Мотив дома в ранней советской прозе, по существу, отсутствует... Чуть ли не исключением является первая часть трилогии А.Н. Толстого "Хождение по мукам"» [Великая 1991: 38]. Это наблюдение, нуждающееся в уточнении, по существу своему глубоко верное. В конце 1910-х-1920-е гг. попытка советских писателей перенести место действия своих произведений за стены дома была точным выражением потребностей и устремлений социалистической культуры. Герои «Цемента» Ф. Гладкова и «Хождения по мукам» А.Н. Толстого - произведений, содержащих весь набор соцреалистических «устойчивых формул», - действительно, стремятся перенести центр тяжести своих жизней из дома-гнезда в «большой» мир, в котором только и возможна, с точки зрения новой культуры, подлинная самореализация, личности. Все же образ дома-гнезда (причем подвергающегося разрушению, гибнущего) и ситуации, связанные с ним, в прозе становящегося соцреализма присутствовали, но их семантика не получала всестороннего истолкования в силу сознательного или бессознательного следования критической и литературоведческой методологии за ценностными предпочтениями социалистической культуры (в ней значимость личности определялась не тем, насколько она состоялась в домашней и семейной сфере, например, в качестве хозяина дома и главы семьи, но причастностью к крупным историческим событиям, участием-неучастием в производственном процессе).
Однако в 1920-е годы в отечественной литературе существовала и иная тенденция (за ней — иная ценностная система), содержание которой раскрывается формулой, «апология дома» [Лакшин 1993: 22]. В этом определении, возникшем применительно к творчеству М.А. Булгакова, в частности к роману «Белая гвардия», опять же акцентирован аксиологический аспект. В русской прозе, ориентированной на традиционную ценностную систему (в дальнейшем мы будем пользоваться термином «традиционалистская проза»), действительно, дом является доминантой частного и общенационального бытия. Исходя из этого, в одном сопоставительном ряду можно объединить произведения, созданные либо опубликованные в эмиграции5 и потому на десятилетия изъятые из читательского и научного обихода («Солнце мертвых» И. Шмелева, «Окаянные дни» И. Бунина, «Сивцев Вражек» М. Осоргина), произведения, в силу своей якобы идеологической «неполноценности» искусственно оттесненные на периферию («Белая гвардия» М. Булгакова), и
произведения, насильственно причисленные к соцреализму, но по своему художественному мировидению не укладывавшиеся в его рамки («Тихий Дон» М. Шолохова).
Рассмотрение в рамках одной главы двух литературных потоков, чьи ценностные системы антагонистичны (традиционалистская проза, как явствует из ее обозначения, наследует традиционный для русской культуры взгляд на дом-гнездо и семью, соцреалистическая проза яростно его оспаривает), на наш взгляд, даст представление о процессе аксиологической инверсии устойчивых представлений о доме.
Оговорка должна быть сделана по отношению к «попутнической» прозе6, отличительной чертой которой явилась амбивалентность, «сращение разнонаправленных интенций смысла» [Белая 1996: 12]. Естественно, амбивалентностью отмечена и ценностная система «попутнической» литературы, имеющая точки соприкосновения с ценностными системами и традиционалистской, и соцреалистической прозы (мы попытаемся показать это, анализируя ситуации, связанные с домом-гнездом). Однако произведения писателей-«попутчиков» будут -привлекаться для сравнительного анализа в качестве материала, позволяющего уяснить специфику каждого из обозначенных явлений, но не станут предметом рассмотрения в отдельном разделе.
Естественно, социалистическая культура не только пыталась уничтожить традиционный дом-гнездо и выработанные социально-нравственные и духовные навыки жизни в нем, но и искала новую модель дома, которая бы смогла выразить ее собственные представления о мире и человеке. Таковой стала возникшая в недрах утопических концепций модель «общепролетарского дома», дома-коммуны (в ее основе - перекодирование традиционных значений, закрепленных за домом-гнездом, - об этом речь идет в главе III, в центре которой вопрос об осмыслении прозой 1920-х годов альтернативных форм домоустройства).
Итак, цель предложенной работы, исследуя семантику и функционирование образа дома в русской прозе 1920-х годов, осмыслить изменения, произошедшие в смысловом поле топоса дом. Поставленной целью определяется ряд конкретных задач:
• описать, опираясь на исследования культурологов, этнографов, фольклористов, структуру архетипа дом;
• в комплексе традиционных значений выявить аспекты, актуализированные общественно-исторической ситуацией 1920-х годов, и установить, как именно мифопоэтическая семантика данного образа моделирует потенциальные возможности сюжетного развития и авторскую точку зрения, а также определяет характер мировосприятия и поведения персонажей;
• исследовать зафиксированный прозой 1920-х гг. процесс ценностной инверсии, которому подверглись традиционные представления о доме-гнезде;
• рассмотреть семантику, роль и функции образов дома-коммуны и коммунальной квартиры в прозе означенного периода.
Теоретико-методологическую базу исследования составили работы Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Т.В. Цивьян и других авторов, в которых были сформулированы принципы структурно-семиотического описания пространства и интерпретации ключевых в культурном отношении пространственных координат. Кроме того, был использован материал, касающийся мифопоэтических представлений, связанных с домом (работы М. Элиаде, Г.С. Кнабе, А.К. Байбурина, В.В. Колесова и др.).
Методология и методика работы продиктована стремлением, с одной стороны, исследовать данную проблематику в широком контексте социально-культурной жизни десятилетия, а с другой - рассмотреть образ дома в прозе 1920-х годов через призму его архетипических смыслов, которые всегда обусловливали ключевую роль дома в системе пространственных и нравственно-этических представлений народа. Это повлекло за собой ориентацию на структурно-типологический и сравнительно-исторический методы исследования. Кроме того, мы использовали элементы ценностного подхода, необходимого, с точки зрения A.M. Панченко, в инструментарии литературоведа, пытающегося адекватно интерпретировать образы, которые в разные культурные периоды имеют разный культурный ореол [Панченко 2000: 252].
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что его выводы уточняют представления о процессе ценностной инверсии, во многом определившем глубинное содержание переломного для национальной культуры десятилетия (1920-е гг.).
Практическая значимость работы обусловлена возможностью использования ее материалов при разработке и чтении основных и специальных курсов по истории русской литературы, XX века, в работе спецсеминаров.
Положения, выносимые на защиту: 1) рассмотренные в работе семантические трансформации образа дома в отечественной прозе 1920-х гг. позволяют осмыслить глубинные процессы разлома и деформаций в русской культуре первого послереволюционного десятилетия; 2) актуализированный художественным сознанием прозы данного периода образ гибнущего дома-гнезда является в анализируемых произведениях важнейшим смысло- и формообразующим элементом; 3) для традиционалистской прозы знаковой становится ситуация пребывания в доме, которое является своего рода формой сопротивления хаосу, в то время как бытийные приоритеты героя прозы становящегося соцреализма выражает ситуация ухода из дома; 4) образ дома-коммуны, .воплотивший представления о пересозданном революционными усилиями мире, в прозе указанного десятилетия становится своеобразной эмблемой утопической культуры и утопического типа сознания - по существу, начинается художественное осмысление феномена утопизма; 5) центральный в сатире 1920-х гг. образ коммунальной квартиры - не только реалия послереволюционного быта, но и символ царящего социально-культурного хаоса; мотивы и типы персонажей, связанные с образом «коммуналки», раскрывают общую для советской культуры названного периода тенденцию к «овнешнению».
Материалом настоящей работы послужила русская проза 1920-х гг. При этом, отбирая тексты, мы накапливали материал-, необходимый для системного обобщения и освещения вопросов историко-литературного и культурологического характера. Критерием отбора и группировки художественных текстов для анализа в данном исследовании явились, во-первых, концептуальная значимость в них ситуаций, связанных с образом дома, во-вторых, специфика интерпретации этих ситуаций авторами произведений (выше этим было обосновано рассмотрение в главе II двух противостоящих друг другу в восприятии дома-гнезда тенденций). Следует также отметить, что в прозе 1920-х гг. судьбы дома-гнезда и его обитателей рассматриваются писателями (вне зависимости от их социально идеологической позиции) на историческом переломе, в ситуации, символизирующей разрушение прежних образа жизни и уклада. В текстах, отобранных для анализа в главе И, можно проследить определенную тематическую общность: в основном, они посвящены событиям революции и гражданской войны. Произведения, рассматриваемые в главе III, тематически более разноплановы, но объединены вниманием авторов к проблеме реализации утопии, архитектурным воплощением которой является дом-коммуна: : это «Чевенгур» и «Котлован» А. Платонова, «Мы» Е. Замятина, «Жизнь и гибель Николая Курбова» И. Эренбурга, «Голубые города» А. Толстого. Кроме того, в рамках главы III проанализирован ряд сатирических произведений 1920-х гг., сюжет которых разворачивается в пространстве коммунальной квартиры (образ «коммуналки» мы рассматриваем как невольную, спровоцированную действительностью пародию на идеальный «общепролетарский дом»).
Дом: структура архетипа
Как отмечалось во введении, с домом связаны «базовые антропологические пространственные представления» [Скубач 2002: 12]. Различные типы ориентации человека в окружающем мире - религиозная, социальная, культурная, нравственная - являются, по мнению А.К. Байбурина, «производными от первичной, пространственно-временной... Случаи потери ориентации в любой из указанных сфер, - продолжает ученый - расцениваются и в наши дни как отступление от нормы» [Байбурин 1983: 126-127]. Попытаемся, апеллируя к работам авторитетных культурологов, религиоведов и этнографов, описать структуру данного архетипа , наиболее очевидно проявившуюся в обрядовой практике, сакральных и фольклорных текстах.
«Дом относится к числу основополагающих, всеобъемлющих архетипических образов, с незапамятных времен функционировавших в человеческом сознании. Эквиваленты славянского слова "дом" -древнегреческого (о[Х Ь) и древнееврейского "байт" - обозначали широкий круг понятий: кров, семью, жилище, строение, некое определенное место - а также явления, связанные с культурной организацией жизни, хозяйство, быт семьи или народа, наследство, иерархию и порядок. Эксплицитно понятие дома связывалось также со своим народом.., страной, правом, нравственностью, памятью и верностью заветам» [Щукин 1994: 33]. В семиотическом аспекте исключительное место дома в картине мира обусловлено чрезвычайно высокой моделирующей способностью данной семиотической единицы (это свойство исследователи отмечают лишь для тех объектов, которым «приписаны сущностные свойства мира» [Байбурин 1983:11]).
В мифологической и религиозной моделях мира символика дома является частью символики надземного сакрального центра. «Всякое жилище, - пишет М. Элиаде,..— располагается рядом с Axis Mundi, так как религиозный человек желает жить в Центре Мироздания...» [Элиаде 2000: 277]. В архаическом обществе отдельный человек либо коллектив, определяя место возведения дома, совершали религиозно-мистический акт. «Найти "свое место", оборудовать его, обжить — все эти действия предполагают жизненно важный выбор Вселенной, которую они "сотворяют", чтобы сделать своей. И эта "Вселенная" всегда является подобием образцовой Вселенной, созданной и обитаемой богами» [Там же: 267]. Таким образом, по Элиаде, любое строительство своим прототипом имеет космогонию. Напротив, «всякое разрушение поселения равноценно возвращению в хаос» [Там же: 274]. Забегая вперед, отметим, что в литературе нового времени ситуации, связанные со строительством либо разрушением дома, свидетельствуют о наличии в тексте пра-мотивов космогонического или эсхатологического мифа. Эти пра-мотивы в свою очередь способны влиять на сюжетную организацию текста и бессознательно определять авторскую оценку ситуации.
Свойство дома как пространственной единицы — обозначать сакральный центр - отмечено В.Н. Топоровым при анализе мифологемы пути. При «прогрессивно-восходящем движении» героя мифологических текстов, строящемся «как овладение все более и более сакральными концентрическими зонами» [Топоров 1983: 258], дом является конечной целью движения, сакральным центром пространства, «обозначающим полноту благодати, причастия, освященности» [Там же: 262]. Дом может быть и начальным пунктом пути, «укрытым, защищенным, надежным малым центром» [Там же: 262], от которого герой начинает движение на чужую, опасную периферию. «В этом случае нисходящее движение к отрицательной точке сразу же перебрасывает героя в центр, если только ему удалось успешно решить задачу, связанную с указанным дурным местом» [Там же: 258].
Дом - это imago mundi, модель Вселенной, приспособленной к размерам и потребностям человека. Именно в доме происходила «встреча» человека с космосом. Рано возникшая в архаических культурах триада дом - космос -тело обнаруживает изоморфизм этих трех своих элементов: «Тело, равно как и Космос, в конечном итоге не что иное, как "положение", система жизнеобеспечения... ... Человек "живет" в своем теле точно так же, как он живет в доме или в Космосе, который он сотворил для себя сам» [Элиаде 2000: 335-336]. Именно по этой причине «столь обычны перекодировки между частями человеческого тела, элементами космоса и деталями дома... Дом может быть "развернут" в мир и "свернут" в человека» [Байбурин 1983: 11]. Отсюда характерное для народной культуры уподобление наличников -лицу, устья печи - устам, окна - оку. В обрядовой практике славян четыре стены дома соотносились с четырьмя сторонами света, а на период строительства в центр будущего жилища садили деревце, уподобляя строительство дома его росту. Структура дома в целом дублировала трехчленную структуру мироздания: чердак - небо, жилая часть - земля, подполье - преисподняя (ср. в «Ключах Марии» (1918) С. Есенина: «Изба простолюдина - это символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками... „. Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, потолок — небесному своду, а матица - Млечному пути» [Есенин III: 141]. Попутно отметим, что возникший много веков назад естественный «космизм» крестьянского мироощущения, выразившийся среди прочего в уподоблении дома миру и наоборот - мира дому, полемически противопоставлялся поэтом в момент написания статьи новому, лишенному традиции «космизму» пролеткультовского искусства).
Понятие дом и русская ментальность
В первом подразделе были рассмотрены архетипические — и в этом отношении универсальные - значения, закрепленные за пространственной единицей дом. Однако архетип - всегда некая схема. Его, так сказать, материализация, характер конкретных воплощений во многом обусловлены спецификой национальной ментальносте. Именно в рамках национальной культуры с учетом многих факторов (начиная с геополитических и заканчивая вкусовыми) оформляется семантическое поле, в котором существует понятие дом. Поэтому представления о доме, сложившиеся в рамках той или иной культуры, могут служить объемной характеристикой национальной ментальносте и образа жизни.
Во введении уже говорилось о том, что после 1917 г. новая власть под лозунгом «Даешь революцию быта» целенаправленно пыталась уничтожить традиционные формы дома и семьи. В 1920-е гг. был оспорен накапливавшийся веками опыт жизни в доме и созданные духовными усилиями нации принципы «домостроительства» — нравственного, социального, бытового. Чтобы понять характер трансформаций, которым в первое послереволюционное десятилетие подверглись сложившиеся в русской культуре представления о доме, нужно уяснить сущность этих представлений. Конечно, мы не ставим перед собой задачу осмыслить эволюцию образа дома в отечественной литературе ХІХ-ХХ вв. и уж тем более жизнь идеи дома в русском национальном сознании (это невозможно в рамках диссертационного исследования), но попытаемся хотя бы схематически обозначить место понятия дом в ценностной системе национальной культуры, пунктирно наметить магистральную, на наш взгляд, для классической русской литературы линию в восприятии топоса дом.
Итак, дом - материализованное воплощение духовных, этических, эстетических, социальных идеалов и представлений народа. О необычайной символической емкости понятия дом пишет О. Шпенглер в «Закате Европы»: «Дом - это самое чистое выражение породы, которое вообще существует. Первоначальная форма дома всецело вырастает из органического чувства. Ее даже не создают. Она обладает такой же внутренней необходимостью, как раковина моллюска, как пчелиный улей, как птичьи гнезда...» [Шпенглер 1991: 23]. По Шпенглеру, дом — это плод самовыражения национальной души и одновременно опознавательный знак различных культурных типов: «Когда исчезает тип дома - вымерла некоторая человеческая порода» [Там же: 25].
Пример, который убедительно подтверждает взаимосвязь типа национальной культуры и модели дома, в этой культуре существующей, приведен в статье Г.С. Кнабе «Понятие архетипа и архетип внутреннего пространства». Автор приводит выдержку из интервью эстонского социолога, который рассказал, что в 1974 г. при исследовании отношения эстонского населения к понятию kodu перед ними встала проблема адекватного перевода этого слова на русский язык. Оказалось, что русские эквиваленты «отечество», «отчизна», «родина» не вполне точно раскрывают суть понятия kodu, которое ближе по своему значению к русскому «очаг». «Тут, - размышляет эстонец, - ... какое-то основное различие в типе культуры. Наша культура, как и у многих северных народов, сконцентрирована вокруг домашнего очага, и мы очень болезненно переживаем все, что нарушает его целостность. Это иначе, чем у народов, живущих на больших просторах - просторов у нас просто нет... И мы строили свой очаг внутрь: в песни, в культуру, в язык» [Кнабе 1993: 118].
Общим, пожалуй, для всех национальных культур, в том числе и русской, является представление о доме как о средоточии важнейших жизненных ценностей. Оно раскрывается в пословицах: «Своя хатка - родная матка» [Даль II: 79], «Каково на дому - таково и самому» [Даль II: 80], «Дом вести - не лапти плести» [Даль II: 82], «Дом невелик - да лежать не велит» [Даль II: 83], «Дома и солома съедома» [Даль И: 83], «Всего дороже честь сытая, да изба крытая» [Даль II: 84]. На ярко выраженную символико- знаковую природу заглавия древнерусского памятника нравоучительной литературы - «Домострой» - обращает внимание В. В. Колесов: «Домострой - памятник с названием символом, неустранимым ни в какие времена» [Колесов 1990: 23]. Религиозная по происхождению идея домостроительства, считает В.В. Колесов, была органично усвоена русской средневековой культурой. Она во многом определила нормы национального духовного, домашнего и государственного уклада.. В основе этой идеи -осмысление мира как дома, в центре же всех представлений о мире «всегда остается соборность — ... внутренняя слиянность человека с социальной организацией, от которой к отдельному человеку исходят силы и разум» [Там же: 24].
Образ дома-гнезда в традиционалистской прозе 1920-х гг
«Русь слиняла в два дня. Самое большее - в три», - писал В.Розанов [Розанов 2001: 23]. Гибель, казалось бы, прочного дома-России со всей остротой поставила вопрос о причинах катастрофы.
Именно так - как осквернение и последующее разрушение дома — осмыслил И. Бунин гибель в революционных событиях национального космоса, русской государственности, сложившихся форм культуры и быта. В «Окаянных днях» он писал: «... В тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой не стало уже ничего святого и запретного ни в каком из его покоев» [Бунин 1991: 69]. Образ захваченного и поруганного дома-России (образ, заметим, возникающий в результате метафорического расширения смыслов, первоначально закрепленных за пространственной категорией дом, — см. глава I, с. 5) стал символическим воплощением итогов русской смуты. Интересно, что в какой-то мере смыслопорождающий потенциал данного образа-символа направляет и размышления автора «Окаянных дней» об истоках и природе революции. Она, с точки зрения Бунина, является очередным кровавым русским бунтом, в котором противостоят друг другу два начала национальной жизни, два нравственно-психологических типа, определяемые писателем не в терминах социально-политического характера, а по их духовно-нравственной позиции в отношении , дома-России. Речь идет об извечном противоборстве в русском характере и русской истории славяно-христианского, по своей сути созидательного начала, с кочевым азиатским, несущим энергию разрушения, и соответственно - «строителей, высокой, хотя и жестокой крепости» [Там же: 125], с «шатунами», «бегунами» [Там же: 124], «отвыкшими от дома, от работы и всячески развращенными людьми» [Там же: 91]. Революция для Бунина вовсе не проявление «гнева низов, жертв социальной несправедливости» [Там же: 79], а «опустошение», по словам цитируемого в «Окаянных днях» С. Соловьева, «своего же дома толпами отверженников, подонков общества» [Там же: 92]. Не случайно ведущим при изображении событий революции и гражданской войны в «Окаянных днях» оказывается мотив захвата дома2 и поругания святынь. Данный мотив, устойчиво возникающий в русской культуре в подобных ситуациях, у Бунина получает неожиданное семантическое наполнение: «Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась.,
Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали -победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем» [Бунин 1991: 126]. Естественное для культуры восприятие захватчиков как силы, проникающей извне, чужаков и иноверцев, трансформировано в «Окаянных днях». В бунинском дневнике в качестве иноплеменников, вторгающихся в дом-Россию, попирающих святые пределы Москвы, изображены «свои», соотечественники, новые «наследники», не имеющие, тем не менее, никакой связи с породившей их национальной средой . «Особым народом», «более страшным ... чем печенеги» [Бунин 1991: 65] называет их автор, подчеркивая тем самым их чуждость, инородность дому-России. Свойственные новым хозяевам жизни неумение и нежелание ощутить «родное, кровное» [Там же: 34], беспамятство и презрение к национальным святыням суть проявления их духовного плебейства: «Это для меня вовсе не камень, - поспешно говорит дама, - этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать... - Мне нечего стараться, — перебивает баба нагло - для тебя он освящен, а для нас камень и камень!» [Там же: 26]. Так оформляется главный конфликт «Окаянных дней», (не только идейно-социальный, но и духовно-эстетический), который обретает к тому же весьма характерное для Бунина звучание: всегда духовно пребывающему в Доме русской культуры художнику автор «Окаянных дней» противопоставляет толпу плебеев «без роду-племени» и «комсомольцев Есениных» [Там же: 144], обитающих на периферии национального космоса и уподобленных мелким бесам.
Метафорически расширенный до пределов России образ дома-гнезда в «Окаянных днях» яріко обнаруживает свою «родовую» черту, проявляющуюся практически во всех произведениях, избранных для анализа в данном разделе: дом-гнездо в них никогда не изображается только как элемент топографии и реалия смятенных революционных и послереволюционных лет. В силу универсальной семантической ассоциации, побуждающей соотносить состояние дома (микрокосма) с состоянием мира (макрокосма), образ дома-гнезда нередко становится знаковым выражением общей социально-исторической и духовно-культурной ситуации, сохраняя при этом свою реалистическую природу.
Прежде чем пояснить этот тезис, отметим: стремление Бунина, Шмелева, Шолохова, Булгакова и Осоргина осмыслить произошедший разлом национального бытия нашло выражение в организации художественного мира их произведений. Он хронологически двупланов: уютный и обжитой мир прежней русской жизни (план прошлого) своим устроением и законами" существования резко противопоставлен новой реальности, порожденной революцией и гражданской войной (план настоящего). При этом в сознании писателей идеальное состояние дома, устоявшийся распорядок его жизни, домашний этикет, мир, лад, уют, тепло домашнего очага были прочно связаны с периодом исторического прошлого России. Напротив, разоренный дом рассматривался в качестве символико-обобщенного воплощения «взвихренной Руси». Такая смысловая динамика (от теплого и уютного дома в прошлом к поруганию родного пепелища в настоящем) недвусмысленно выявляла оценочный вектор авторского сознания.
Семантика и функции образа дома-коммуны в русской прозе 1920-х гг
В предыдущей главе речь шла о том, что в материально-бытовом и психологическом «ландшафте» советской культуры дом-гнездо оказался совершенно инородным объектом. Его привычные функции либо игнорировались, либо пересматривались в соответствии с новой системой ценностей. Был провозглашен альтернативный традиционному идеал домоустройства - «общепролетарский дом», дом-коммуна1 (в дальнейшем оба определения будут употребляться как синонимы), в структуре которого отразились представления о пересозданном революционными усилиями мире. Именно этот тип домоустройства в 1920-е гг. планировалось сделать главенствующим.
Как известно, архитектурный и идеологический феномен дома-коммуны не был плодом фантазии тех советских архитекторов, которые создавали и пытались воплощать в жизнь смелые проекты жилья нового типа. Концепции расселения 1920-х гг., уточняет В.Э. Хазанова, вообще «впервые были выдвинуты не архитекторами, а философами, социологами, экономистами, были поддержаны государственными и общественными деятелями. Все они воспитаны идеями русского социального утопизма, от которого старших из них отделяло всего лишь два-три десятилетия» [Хазанова 1970: 10].
Идея дома-коммуны и родственная ей идея города-сада имеет длительную традицию в отечественной и западноевропейской утопической мысли. В произведениях Т. Мора, Т. Кампанеллы, Т. Дезами, В. д Алле, Ш. Фурье, Н.Г. Чернышевского и др. дом-коммуна (именовавшийся то дворцом, то фаланстерой, то осмазией) неизменно представал более совершенным типом жилья, нежели традиционный дом-гнездо.
Совершенной была архитектурная форма дома-коммуны. В противовес беспорядочно лепящимся друг к другу убогим домишкам настоящего дом будущего должен был идеально вписываться в окружающую материально-природную среду и иметь геометрически правильную форму. Усовершенствовать предполагалось и принципы организации жизни в доме-коммуне. Для этого уже в проекте, на стадии замысла, надо было устранить недостатки, свойственные жизни в доме-гнезде. Избавляться предстояло от замкнутого, обособленного характера домашнего существования и «стихийности», «биологизма» последнего, обусловленных следованием природно-инстинктивному началу. Меры, которые рекомендовали предпринять утописты на пути осуществления мечты об идеальном жизнеустройстве, подробно рассмотрены в работах, посвященных данной проблематике [см.: Утопия и утопическое мышление 1991; Гальцева 1991; Чаликова 1994; Шестаков 1995]: это отказ от частного дома, общие трапезы, единый распорядок жизни для всех обитателей дома-коммуны, коллективное времяпрепровождение в часы, свободные от работы, воспитание детей вне семьи с целью вырастить из них прежде всего благонамеренных граждан государства и т.п. Несложно заметить, что многое из перечисленного было позаимствовано в 1920-е гг. идеологами реформы в домашне-семейной сфере, которые под лозунгом «Пусть вымрет быт-урод» (В. Маяковский), вели атаку на традиционный уклад жизни, нередко доводя: до абсурда идеи своих предшественников.
Дом-коммуна стал органичной частью советской идеологии и эстетики. В работе «Литература и революция» Л.Д. Троцкий, разворачивая перед читателем картину идеального планового будущего, настаивал, что символом нового жизнеустройства должен стать «не храм, не замок, не особняк, а народный дом, массовая гостиница, общежитие, дом-коммуна, гигантских размеров школа» [Троцкий 1991: 109-110]. А.В: Луначарский говорил о желании творцов нового мира «построить большие дома, в которых кухня, столовая, прачечная, детская, клуб были бы устроены по последнему слову науки и обслуживали бы всех жильцов дома-коммуны, живущих в уютных, чистых, снабженных водой и электричеством комнатах» [Цит. по ст.: Маркштайн 1994: 287]. Троцкому и Луначарскому вторила Ф. Рогинская: «Опорными пунктами будут дома-коммуны с широким общественным сектором, с физкультурными залами и столовыми, яслями и т.д. Дома-коммуны, обнесенные широкими зелеными насаждениями» [Рогинская 11930: 186].
Желание как можно скорее, слепо отрицая при этом опыт существования в доме-гнезде, возвести новые жилища и организовать жизнь в них на новый лад, объясняется все теми же архетипическими механизмами мышления: если уничтожение традиционного дома-гнезда приравнивалось к разрушению старого мира, то возведение дома-коммуны отождествлялось с построением мира нового. Этот пласт архетипических представлений1 выходит на поверхность в «Рассказе о многих интересных вещах» А. Платонова (1923). «Рассказ...» содержательно членится на две части: в первой из них Иван Копчиков покоряет землю, во второй — небо. Кульминационным моментом первой части становится восстановление Суржи после природного катаклизма (аналога потопа, но не всемирного, а локального), в котором погибает поселение и все живое в нем. Иван берется за восстановление родной деревни: сначала он находит водный источник, потом приводит на место, где располагалась прежняя Суржа, новых жителей - бывших бродяг и разбойников. Под руководством Ивана , объявившего себя предводителем новой «болыпевицкой нации» [Платонов I: 164], мужики засевают землю, ходят на охоту, строят лесопилку, смолокуренный завод, водонапорную башню. Итогом их деятельности становится превращение Суржи в дом-сад, «А в Сурже достраивался уже один большой дом на всех людей. Строился он круглый, кольцом. А в середине сажался сад. И снаружи также кольцом обсаживался дом садом. Так что окна каждой отдельной обители-комнаты выходили в сады» [Там же: 169].