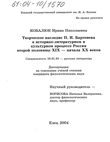Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Национальная словесность XIX века и государственная цензура: к проблеме конфликтного становления «русской идеи» 10
1.1. А.С. Хомяков и проблема мировоззренческого конфликта в пределах русского православия 10
1.2. Н.В. Гоголь и проблема сближения художника с официальной концепцией народности 30
1.3. Н.Н. Страхов и проблема религиозного обоснования русского традиционализма 47
Глава 2. Русский цензор в конфликте свободной словесности и государственного контроля 61
2.1. Цензор и цензура в тематическом пространстве отечественной словесности 61
2.2. А.В. Никитенко: внутренний конфликт цензора 80
2.3. В.Н. Бекетов и проблема положительного сотрудничества цензора и писателя 97
2.4. Ф.И. Тютчев как цензор-практик и теоретик цензуры 108
Глава 3. Феномен внутреннего преодоления цензуры в русской литературе XX века 141
3.1. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: «русская идея» в контексте духовной альтернативы 141
3.2. Роман Б. Пастернака: «русская идея» в контексте «поэтического христианства 154
3.3. «Роза мира» Д. Андреева: «русская идея» в контексте неотеософской доктрины 165
Заключение 184
Примечания 191
Библиографический список 199
- А.С. Хомяков и проблема мировоззренческого конфликта в пределах русского православия
- Цензор и цензура в тематическом пространстве отечественной словесности
- Ф.И. Тютчев как цензор-практик и теоретик цензуры
- Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: «русская идея» в контексте духовной альтернативы
Введение к работе
«Русская идея» - достаточно устойчивый мировоззренческий комплекс -существует в двух основных контекстах, пребывающих в сложных отношениях друг с другом. Во-первых, национальная мысль входит в сферы интересов государства, которое по своей природе не склонно к компромиссам и стремится к известной жесткости и однозначности позиций. Во-вторых, национальная идея творится и развивается философами, писателями, подчас литературными критиками, заинтересованными не в устойчивом, малоподвижном законе, а в свободном рассуждении, в отсутствии регламента, сдерживающего полемику. Цензура - как общественный институт -оказывается посредником между достаточно рискованной мыслью творческих личностей и государственной целесообразностью, порой предстающей в форме внешнего диктата.
Этот тип отношений мы определяем как драматический. В настоящем диссертационном исследовании нет стремления упростить этот сюжет и принять исключительную правду контролирующего государства (модель «цензура против литературы») или интересов свободного творчества (модель «литература против цензуры»). Ушедший XX век наглядно показал, что словесность - сфера конфликтов, во многом определяющая для построения той или иной национально-государственной системы. И здесь важно избежать излишнего пафоса и категорических оценок. Не будем забывать, что необыкновенное цветение литературы и философии в России начала прошлого столетия завершилось катастрофой русского народа, созданием общества, в котором «серебряный век» уже был невозможен. Стоит помнить и о том, что двадцать лет назад серьезные общественные сдвиги сопровождались невиданным интересом к словесности. Литературные журналы выходили миллионными тиражами. Художественные тексты, такие, как «Чевенгур» А. Платонова, «Собачье сердце» М. Булгакова или «Плаха» Ч. Айтматова, вызывали массовый интерес, казались рецептом спасения от социальных нестроений. Вскоре последовал распад государства и трагедия
народа, вновь разорванного километрами границ и томами местечковых идеологий. Мы не утверждаем вслед за В.В. Розановым, что «Россию убила литература», но если дважды за одно столетие действительно серьезный взлет словесных искусств сопровождался гибелью государства, наверное, стоит задуматься о положительной и отрицательной стороне свободы слова в области литературы.
Стремление поставить проблему соотношения свободы и необходимости в ходе литературного процесса и предопределило композиционную организацию нашего исследования. В первой главе сюжетный центр будет образован тремя крупнейшими фигурами отечественной словесности XIX века - А.С. Хомяковым, чье имя связано, прежде всего, с философско-богословским обоснованием «русской идеи»; Н.В. Гоголем, который заинтересовал нас как писатель, стремившийся совместить интересы государства и литературы; Н.Н. Страховым, сумевшим возвести литературную критику в ранг, значительно превышающий формальные полномочия тех, кто способен нечто говорить о художественных произведениях. Идеи и реальные общественные контакты Хомякова, Гоголя, Страхова позволят рассмотреть научный сюжет, который можно выразить простой формулой: «от литературы и философии - к цензуре». Во второй главе исследования в центре окажется другой тип движения - «от цензуры - к словесности». Именно поэтому организующим началом в этой части работы станут фигуры цензоров - А.В. Никитенко и В.Н. Бекетова, оказавшихся в сложной нравственной ситуации, когда необходимость контроля за потоком словесности и невозможность оставаться в этом контроле самим собой вступили в противоречие. Ф.И. Тютчев в нашем диссертационном исследовании предстанет не в привычном облике поэта, а как государственный человек, призванный поощрять достойное и отвергать опасное для нравственного состояния русского общества. Наконец, в третьей главе мы обращаемся непосредственно к литературе - к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», к роману Б. Пастернака «Доктор Живаго», к мистической книге Д. Андреева «Роза мира». В завершающей части
диссертации нас будет интересовать вопрос о внутреннем преодолении цензуры, о стремлении художника создать произведение, заведомо обреченное на неизвестность - по крайней мере, в первые десятилетия после написания. Возможно, проще и даже логичнее было поставить проблему совершенно конкретной - «цензурной» - реакции на указанные произведения, но мы посчитали этот вопрос во многом исчерпанным в науке последних лет, и решили обратиться к противостоянию с цензурой непосредственно на творческом уровне.
Актуальность научного исследования мы видим в серьезной опасности деструктивного понимания свободы, которое грозит культуре в последнее время. Литература, которая лишается любых связей с идеологией, объявляется независимой словесностью никому и ничем не обязанной, вовсе не обязательно становится чистым развлечением, беспечной игрой ума. Мы считаем, что природа литературного творчества исключает такую игровую безответственность. Цензурное ведомство, заработавшее за десятилетия негативный имидж, во многом соответствующий действительности, выполняло одну важную миссию - контроль и запрет, не только лишали читателей достойных произведений, но и несомненно повышали значение и роль литературы, убеждая общество, что художественное слово, которое может быть запрещено, обладает большой силой. Во времена цензуры с литературой считаются, ее боятся, ее читают, наконец. Во времена всеобщего равнодушия и нравственного безразличия никто не запретит художественный текст, но и мало кто его прочитает. С этим парадоксом нельзя не считаться.
Новизна научного исследования в единой, совместной постановке трех
основных проблем диссертационного исследования. Проблему цензуры мы
рассматриваем не изолированно, не как обособленный объект
социологического исследования, а в обязательном контексте литературного
процесса, который показывает, что участие в нем таких творцов, как Ф.И.
Тютчев, должно привести к усложнению взглядов на цензурное ведомство. Но
рассмотрение цензурной политики во взаимодействии со словесностью (глава
1), а также в наиболее известных лицах (глава 2) мы продолжаем главой,
полностью посвященной проблеме особой внутренней установки, когда художник слова, полностью отдавая себе отчет в обреченности создаваемого произведения, пишет роман или поэму как особое слово, направленное против цензуры. Цензура и внутреннее противостояние цензуре рассматривается нами в контексте проблемы национального самоопределения - в контексте «русской идеи», вбирающей в себя и мысль о духовной свободе, и мысль о необходимости сдерживания ради сохранения единого государственного «тела».
Объектом научного исследования стали два русских романа («Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Доктор Живаго» Б. Пастернака); «метафилософия истории» Д. Андреева («Роза мира»), обладающая несомненной художественной формой; многочисленные публицистические, эпистолярные и мемуарные документы, позволяющие поставить и по-своему решить проблему внешней и внутренней цензуры в ходе литературного становления «русской идеи».
Предметом научного исследования следует назвать проблему свободы/ответственности литературного творчества, решаемую в контексте сложных взаимоотношений писателя и цензора. Цензура как ограждающая, направляющая, но и подавляющая система интересует нас в этой работе как на материалах литературного процесса (специальность 10.01.01), так и в пространстве публицистических, журналистских исканий (специальность 10.01.10).
Цель научного исследования - изучение сложных взаимоотношений русской словесности (Хомяков, Гоголь, Страхов) с отечественной цензурой, которая рассматривается и как серьезная нравственная проблема, представленная в лицах (Никитенко, Бекетов, Тютчев), и как объект обязательного внутреннего преодоления в процессе создания художественного произведения (Булгаков, Пастернак, Андреев).
Целью определены основные задачи исследования: - рассмотрение историософских позиций Хомякова, Гоголя, Страхова в контексте их взаимодействия с отечественной цензурой;
изучение конфликтов отечественной словесности с отечественной цензурой как противостояния двух мировоззренческих позиций внутри национально-православной доктрины;
оценка «теоретических» суждений о русской цензуре, например, позиции Тютчева;
воссоздание портретов русских цензоров (Никитенко, Бекетова, Тютчева) в сложной системе внутренних и внешних несогласий с собственным профессиональным делом;
детальное изучение феномена сознательного противостояния цензуре в творчестве Булгакова, Пастернака, Андреева;
обращение к проблеме «цензура и русская идея» с целью постановки вопроса о диалектике свободы и необходимости, личной инициативы и общественного запрета в литературном процессе.
Методы исследования. Культурно-исторический метод, позволяющий решить проблемы взаимодействия словесности и государственной цензуры, поставленные в главах 1 и 2. Синтез системно-типологического, историко-функционального и комплексного подходов к изучению художественно-публицистических процессов Х1Х-ХХ веков. В работе также используется сравнительно-типологический подход к исследуемому материалу, дополняемый наблюдениями стилистического и жанрового характера, позволяющий рассмотреть романы Булгакова и Пастернака, «метаисторическую» книгу Андреева с точки зрения авторских -«неподцензурных» - стратегий.
Научно-практическая значимость исследования. Научный сюжет первой и второй глав, как и результаты, полученные в них могут быть использованы в курсах по истории литературы XIX века, в социологических курсах, в курсах по истории журналистики. Результаты третьей главы представляют интерес с точки зрения психологии и философии литературы: исследованный нами конфликт Булгакова, Пастернака, Андреева с современным им социумом, литературный выход из стереотипной для
советской системы мировоззренческой модели позволяют научно
познакомиться с принципиально не ангажированным (политической системой) типом художественного поведения. Поставленная проблема «цензура и литературный процесс» и варианты ее решения целесообразно использовать в практической (публицистической) политологии при решении проблем общественной стабильности и провокаций в сфере массовой литературы и публицистики.
Апробация научной работы. Основные положения и выводы диссертации были изложены и обсуждены на заседании кафедры аналитической журналистики, литературы, теории и критики Кубанского государственного университета. Работа проходила апробацию на Всероссийской научной конференции аспирантов и молодых ученых «Перспектива - 2002» (Нальчик, 2002), на 2-ой межвузовской докторантско-аспирантской научной конференции «Актуальные проблемы современной русистики и литературоведения» (Краснодар, 2003), 3-ей всероссийской научно-практической конференции «Культура и власть» (Пенза, 2005). Материалы и результаты исследования использовались в лекциях («История русской литературы XIX в.», «История русской литературы XX в.», «История и теория литературно-публицистического процесса») и спецкурсах на факультете журналистики Кубанского социально-экономического института. По теме диссертационной работы опубликовано 3 научных статьи. Основные положения, выносимые на защиту.
1. Судьба творческого наследия Хомякова и прямые высказывания одного
из лидеров славянофилов показывают, как в рамках русского «большого
православия» произошло столкновение двух религиозных принципов. Один -
государственный - главную опору видел в борьбе с реальным и иллюзорным
инакомыслием. Второй - философический - ценил свободу диалога, а
соборность всегда отличал от формального согласия без душевной
расположенности к единству.
2. Два полярных идеала - могучей империи и святой Руси - отличающие
внутренний динамизм «русской идеи», преломляются в жизни и творчестве
Гоголя и Страхова. Осознавая опасность нигилизма как «гражданского
монашества», оба мыслителя показывают возможность
положительного компромисса между свободной позицией и принципом служения монархической России.
Образ цензора в русской словесности XIX в. неоднороден; в ней встречаются упоминания как о преследовавших литературу, так и об ее защитниках. Цензор являлся общественным рупором эпохи, но в основном он был чиновником, более или менее пристрастно выполняющим свои обязанности. В поэтических произведениях нет четкой грани между цензором-профессионалом и цензором-литератором.
Судьбы просвещенных цензоров - Никитенко, Бекетова, Тютчева -свидетельствуют о практически неизбежном конфликте с официальным ведомством, которое требует от цензора большей решительности. Статья Тютчева (своеобразная «теория цензуры») проясняет главные претензии тех, кто сочетал мастерство писателя с талантом государственного человека: цензура может сохраниться, но должна перестать быть руководством, которое вторгается в область творчества.
5. Социально-политические процессы минувшего столетия привели к
максимальному ужесточению внешнего, государственного контроля за
литературным процессом. Как следствие, столь значимые для «русской идеи»
произведения, как роман «Мастер и Маргарита», роман «Доктор Живаго»,
«метаистория» «Роза мира» создавались Булгаковым, Пастернаком и
Андреевым как «неподцензурные» тексты, не имевшие шансов на
публикацию при жизни авторов.
6. В противостоянии трех произведений («Мастера и Маргариты»,
«Доктора Живаго», «Розы мира») цензурной политике Советского
государства проясняется основной вектор становления «русской идеи» в XX
веке - это возвращение к христианству, которое (пусть в разных формах) дает
писателям и мыслителям возможность пережить свое диссидентство как
состояние высокого соответствия истине.
А.С. Хомяков и проблема мировоззренческого конфликта в пределах русского православия
Славянофильство, самым ярким и, пожалуй, самым глубоким выражением которого служит творчество А.С.Хомякова (1804-1860), есть по сути первая попытка проявления русского самосознания1. «Тысячелетие продолжалось русское бытие,- писал в 1912 г. Н.А.Бердяев, - но русское самосознание начинается с того лишь времени, когда Иван Киреевский и Алексей Хомяков с дерзновением поставили вопрос о том, что такое Россия, в чем ее сущность, ее призвание и место в мире. В этом деле зарождающегося самосознания с ними может быть поставлен рядом лишь Чаадаев...»2 Собственно, в спорах о России, о ее особом культурном достоянии, об особенной ее религиозной судьбе и родилось славянофильство3. Именно в спорах и именно о России. То, что затем будет несколько витиевато именоваться русской идеей, начало впервые выковываться в полемических столкновениях трех названных Н.А. Бердяевым замечательных личностей.
К завязанной ими дискуссии довольно активно подключались все новые и новые литераторы и публицисты. Но с самого возникновения публичных споров о судьбе России их участники не могли не ощущать присутствия еще одной стороны, еще одной силы - государственной.
Подобно тому как в борениях, в напряженном творчестве обретает свое выражение общественное сознание, так не сразу и отнюдь не в неизменной форме появляются на свет государственное сознание, государственная идеология. В формировании ее, в поиске ее более или менее четкого выражения трудятся, как правило, многие чиновничьи умы. Не последнее место принадлежит здесь институту цензуры, причем его роль заметно вырастает в эпохи реформ или, наоборот - реакции на попытки реформ, т.е. тогда, когда государство ставит перед чиновником задачу быстро и чутко реагировать на самые неожиданные проявления в сфере общественного сознания.
Внимательное обращение к «цензурному творчеству» 1830-1850-х годов дает не только возможность лучше уяснить так называемую официальную позицию, но и вслед за тем, как случается при контрастном освещении, яснее представить и сам предмет цензурной критики. Иначе говоря, изучение материалов цензуры не только расширяет контекст для исторического комментария, но и открывает новый ракурс на анализируемую проблему.
Именно 30-50-е годы XIX в. стали периодом рождения, формирования и выделения неожиданно большого, по сравнению с прежними эпохами, обилия мнений, позиций, литературных партий. Их причудливое переплетение и столкновение, а также навешиваемые на них ярлыки и возникающие вокруг них мифы ставят современного исследователя перед парадоксальными, как порой кажется, коллизиями. Примером одной из них является положение, сложившееся вокруг А.С.Хомякова и его единомышленников. Все они были воцерковленные православные христиане, убежденные сторонники монархического правления и искренние борцы за развитие «народного начала». Время их творческой активности пришлось на десятилетия, осененные уваровской триадой,- «Православие. Самодержавие. Народность». Но именно тогда все они - А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, братья К.С. и И.С.Аксаковы, Ю.Ф.Самарин, А.И.Кошелев - испытали на себе жесткие, бывало и жесточайшие, цензурные притеснения, вражду высших сановников, а иные и полицейские преследования. Обратимся к составляющим триады и взаимоотношениям Хомякова с цензурой.
«Православие»... Ни одно из богословских произведений Хомякова не было напечатано в России при его жизни. Основная их часть написана по-французски и впервые увидела свет в неправославной Франции. Спустя семь лет после смерти Хомякова, в 1867 г., в Праге был отпечатан том его богословских сочинений, распространять который в России разрешили, однако, только спустя несколько лет.
«Самодержавие»... Своих представлений о царской власти и о роли монархии в России Хомяков никогда не имел возможности изложить публично. Он, кажется, и не пытался писать на такую тему. Сделать это за него смог только сын Дмитрий в брошюре, впервые изданной, опять же вне пределов родины, в Риме в 1899 г. под криптонимом «Д. X.». «Народность»... С этим понятием обстояло сложнее, даже сам официальный идеолог С. С. Уваров признавал: «Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущие»4. Возможно, именно зыбкость официальной трактовки этого понятия оставляла пространство для дискуссий. Впрочем, и это пространство тоже было ограничено. Основная, посвященная проблеме народности, работа Хомякова «Разговор в Подмосковной» (1856), несмотря на наступающую либеральную эпоху, увидела свет без окончания, ибо в нем сохранилась критика, как выразился автор, приверженцев квасного патриотизма. И едва ли не за дискуссии о народности славянофилы стяжали себе славу опасных для общества вольнодумцев. В столичной администрации, как вспоминал позднее А. И. Кошелев, их считали «не красными, а пунцовыми, не преобразователями, а разрушителями, не людьми, а хищными зверями»5.
Вероятно, все-таки велика была разница между патриотизмом славянофилов и патриотизмом властей, между Россией А. С. Хомякова, И. В. Киреевского и Россией С.С. Уварова, П.А. Ширинского-Шихматова и им подобных6. Но в чем именно она заключалась? Быть может, ответ на это мы найдем с помощью самих создателей и хранителей государственной идеологии.
Но сначала вспомним, как завязались прения о русской идее. Принято считать, что началом выделения в общественном сознании двух самых ярких его направлений - славянофильства и западничества послужило известное «Первое философическое письмо» Чаадаева, появившееся в журнале «Телескоп» в сентябре 1836 г. Автор представил в нем образ России как отсталой, лишенной собственной культурной традиции страны. Культура России, по его словам, была всецело основана на заимствовании и подражании. Чаадаев указывал на безуспешность попыток «великого человека» - Петра I, просветить и приохотить русский народ к образованию. Причем отсталость своей родины, особенно ощутимую при сравнении с Западом, Чаадаев объяснял религиозным ее обособлением. В этом, по его мнению, сказалась слабость нашего «нравственного начала» - православия, перенятого от презираемой цивилизованными народами Византии. Именно на это и обратили внимание критики Чаадаева. Для «смердящего большинства» -так выражался близкий к Чаадаеву М.И. Жихарев7, остались абсолютно незамеченными не только глубина и свежесть многих его мыслей, но, быть может, самое удивительное в этой статье - огромное чувство тоски, боль человека, мучающегося поиском смысла и собственной жизни, и истинного призвания в этом мире своей родины. Поиск «одной великой идеи» лежал для Чаадаева не в сфере созидания «сильной», «могучей», «великой» и тому подобной России, а на пути «нравственного совершенства и бесконечного развития» народов, сердца и умы которых, как считал Чаадаев, когда-нибудь сольются в одно чувство, в одну мысль8. Тогда и исполнится «дело искупления».
Цензор и цензура в тематическом пространстве отечественной словесности
На всем протяжении XIX в. русская литература находилась под неусыпным контролем цензуры. И естественно, что, постоянно ощущая ее влияние, литераторы не могли не откликнуться — в печатной ли, в рукописной ли форме - на само существование института ограничения свободы слова. В поэтических произведениях о цензуре можно выделить две основные темы: цензурные действия, отношение к ним и образ цензора как проводника цензурных идей.
Состав цензоров не был однороден по отношению к контролируемой ими литературе. В штатах цензурных комитетов состояли как цензоры-профессионалы, исполнявшие привычные для них чиновничьи функции, так и цензоры-литераторы, служившие в противоестественном, казалось бы, для писателя месте. Разницу в восприятии и выполнении должностных обязанностей профессионалов и литераторов, в оценке тех и других современниками мы и попытаемся показать.
Одним из первых стихотворений, в котором появляется конкретная цензорская фигура, явился «Протокол двадцатого Арзамасского заседания», написанный В. А. Жуковским в 1817 г. Нужные нам строфы начинаются с того, что князь П. А. Вяземский, в будущем сам цензор, демонстрирует «китайские тени»:
... В первом явленьи предстала С кипой журналов Политика, рот зажимая Цензуре, Старой кокетке, которую тощий гофмейстер Яценко Вежливо под руку вел, нестерпимый Дух издавая87. .М. Яценков служил в Санкт-Петербургском цензурном комитете в 1804-1820 гг. Цензором он был достаточно мягким - это видно из сохранившихся документов, например, по сдержанному обоснованию запрещения печатать Новый российско-немецкий букварь, безграмотно составленный. Г. М Яценков был также переводчиком, издателем «Духа журналов» (1815-1821) и «Журнала мануфактуры и торговли» (1825-1827). НА издаваемый им «Дух журналов» один за другим сыпались выговоры: «Находил я неоднократно, что издатель ... помещает ... статьи, содержащие в себе рассуждения о вольности и рабстве крестьян, о действиях правительства и многие другие неприличности»88, —писал в 1818 г. князь А. И. Голицын. Яценков—даже после увольнения из цензурного ведомства -частенько цензуровал свой журнал самостоятельно, критиковал распоряжения Министерства внутренних дел, самое монархическое правление... И ничего удивительного нет в том, что 9 апреля 1820 г. он был уволен от цензорства, а выпуск его «Духа журналов» прекращен с 1821 г
Для XIX столетия довольно характерен факт служения литераторов в цензурном ведомстве. «Современному русскому человеку ... трудно, почти невозможно понять это совместительство свободного литературного творчества со службой, так или иначе направленной к ограничению свободного слова»,— так в 1906 г. размышлял автор статьи в «Русском вестнике» по поводу этого типичного для XIX столетия явления .
Но до тех пор, пока цензура не была отменена официально, непосредственным вершителем и толкователем законов оставался цензор.
... А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами? Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами,
Не понимая нас, мараешь и дерешь, Ты черным белое по прихоти зовешь ... , —так обращался Пушкин к «угрюмому сторожу муз» в 1822 г. Спустя два года ему же адресуется «Второе послание цензору»: Обрадовался я ... заметя вдруг В тебе и правила, и мыслей образ новый! Ура! Ты заслужил венок себе лавровый И твердостью души, и смелостью ума91. Адресат послания — А.С. Бируков — служил в Санкт-Петербургском цензурном комитете с 1821 по 1826 г., цензуруя сочинения А.С. Пушкина, В. А. Жуковского. Его называют «знаменитым своим мракобесием цензором» , но нельзя забывать и отзыва великого поэта: «Бируков человек просвещенный; кроме его я ни с кем дела иметь не хочу. Он и в грозное время был милостив и жалостлив»93. Правда, в другом письме пушкинской рукой написано: «Скучно писать про себя или справляясь в уме с таблицей умножения глупости Бирукова, разделенного на Красовского»94.
А. И. Красовский (1780-1857), служивший цензором (1821-1828), затем председателем Комитета цензуры иностранной (1833-1857), был человеком легендарным, патологически рьяно служивший букве закона. История его придирок к стихотворению В.Н. Олина «Стансы к Элизе» стала хрестоматийной иллюстрацией к цензурному абсурду той эпохи.
... О, как бы я желал, пустынных стран в тиши, Безвестный, близ тебя, к блаженству приучаться, — писал Олин.
Реплика цензора: «Это значит, что Автор не хочет продолжать своей службы государю; сверх сего, к блаженству можно приучаться только близ Евангелия»95. Цензор, запрещающий статью о вреде грибов на том основании, что грибы — пестная пища православных, и писать об их вреде — значит подрывать основы веры; председатель цензурного комитета, заставляющий подчиненных просматривать оберточную бумагу — а вдруг-де там прокламации?; чиновник, облаченный властью, утверждающий — в присутствии Пушкина, — что «современная литература наша так мерзка, что это чистое наказание»96 - отвечал ли он требованиям, предъявляемым современниками к цензору-гражданину?
Он друг писателю, пред знатью не труслив.
Благоразумен, тверд, свободен, справедлив... В 1823 г. князь П. А. Вяземский послал А. А. Бестужеву «Быль, которая сбудется»: Когда Красовского отпряли парки годы, Того Красовского, который в жизни сам Был Паркою ума, и мыслей, и свободы, Побрел он на покой к Нелепости во храм .
Эта басня, несколько лет ходившая в рукописных списках (по словам Пушкина, «в последнее пятилетие царствования покойного императора вся литература сделалась рукописною благодаря Красовскому и Бирукову»98), была напечатана в журнале «Славянин» (1830 г. ЛІ). В заголовке стояло «Цензор. Перевод с французского»; общеизвестная фамилия Красовского была заменена на Ларобине; имени Голицына («Я у Голицына был цензор, — молвил он») не упоминалось вовсе. Тем не менее по предписанию министра народного просвещения против цензора и издателя было заведено дело за IV» 18/1830 г. Цензор К. Сербинович объяснял свой промах тем, что перевод с французского относится и к цензуре французской. Издатель А. Ф. Воейков уверял: «О подобной пьесе, ходившей за несколько лет перед сим по рукам, мне неизвестно. В напечатанной же и имена, и рассказ ... и самая соль басни не русские»99. Поверили ли ему в цензурном комитете, слишком хорошо зная «соль» цензуры, неизвестно, но на гауптвахте Воейков отсидел.
Ф.И. Тютчев как цензор-практик и теоретик цензуры
Еще в первой биографии Ф.И. Тютчева И.С. Аксаков выражал надежду, что молодые помощники Тютчева по цензуре известные поэты А.Н. Майков и Я. П. Полонский расскажут о его деятельности в Комитете цензуры иностранной (в дальнейшем —КЦИ), но этого не произошло. Пробел несколько восполнил в своем известном «Дневнике А. В. Никитенко — литературный критик, публицист и цензор. Уже после 1917 г. о Тютчеве-цензоре писали Г. Чулков и М. Брискман. Если статья Г. Чулкова базируется на переписке Ф. И Тютчева и И.С. Аксакова, сообщение М. Брискмана -краткий комментарий к публикуемым отчетам КЦИ. Пожалуй, только К. В. Пигарев серьезно подошел к теме «Тютчев-цензор», правда, и в его блестящей монографии деятельность Тютчева-цензора рассматривается скорее как эпизод биографии.
Наконец, определенное место Тютчеву-цензору, его участию в защите печати от цензуры, взглядам его на печать отведено в статье В. А. Твардовской «Тютчев в общественной борьбе пореформенной России». Ссылаясь на М. Врискмана и К. В. Пигарева, она даже считает, что «служба Тютчева в Комитете иностранной цензуры достаточно изучена» . Однако знакомство с литературой о жизни, деятельности и творчестве Ф. И. Тютчева заставляет усомниться в этом выводе В. А. Твардовской.
В жизни и деятельности Ф.И.Тютчев предстает как бы в грех ипостасях — как политик-дипломат и публицист, как поэт и как цензор. Сразу отметим, что в каждой из них он был талантлив, интересен и значителен, в каждой из них оставил заметный след. Для своих современников Ф.И.Тютчев в первую очередь — тонкий политик, занятный, остроумный собеседник и мыслитель. Хорошо об этом сказал И. С.Аксаков: «Выдающейся, преобладающей стихией в Тютчеве была мысль, а мысль, по самому существу своему, не то что вечно юна, но вечно зрела или, точнее сказать, не ведает возраста»181. «Но мыслью обнял все, что на пути заметил», - писал в стихотворении «Памяти Ф.И. Тютчева» А.Н. Апухтин .
Вероятно, нет смысла противопоставлять ипостаси Тютчева. Если к ним приглядеться повнимательнее, то можно понять, что они не так уж отделены друг от друга. Тютчев — мыслитель и аналитик ощутим в каждой. Необходимо учитывать, что светские салоны в социальной жизни общества тех лет были, в переводе на современный журналистский язык, «тусовками» верхушки общества, чинов и чиновников, представителей света, политиков, дипломатов. Это были настоящие «лаборатории управления» социальной жизнью общества.
Через них проходили апробацию многие идеи. Салон, где свободно обращались политические идеи, дополнял журналистику, зажатую в тиски цензурой и не имевшую возможность открыто обсуждать многие политические вопросы. Авторитет Ф.И.Тютчева в светских салонах был довольно высок. К его мнению прислушивались, с ним считались. Это отражалось и в его цензорской деятельности.
Вся его деятельность и участие в общественной борьбе свидетельствуют о том, что Тютчев к своему долгу относился серьезно, а не формально. Сошлемся на мнение близких ему людей. Его сестра Д.И. Сушкова писала Е.Ф.Тютчевой 8 апреля 1858 г.: «Я рада, что Федор охотно занимается должностью» . Осенью этого же года его жена Эрнестина Федоровна замечала в письме к своему брату барону К. Пфеффелю: «Мне кажется, что мой муж весьма занят своими обязанностями по службе»184. Сослуживцы Тютчева по цензурному ведомству считали его образцом для себя. А. Н. Майков (1821-1897), отдавший цензуре почти всю жизнь (он проработал 45 лет с октября 1852 г. в КЦИ, став в 1875 г. начальником этого комитета), говорил: «Мне ничего более не надо, я и умереть хочу, как и Тютчев, в дорогом своему сердцу Комитете».
К середине XIX в. цензурное дело иностранной литературы было поставлено на широкую ногу. Общий алфавитный список книг только на французском языке, запрещенных иностранной цензурой с 1815 по 1855 г.. имел при издании 387 страниц186. Цензуру осуществляли все высшие чины государства: царь и его министры, синод, наконец, специальный цензурный аппарат: комитеты, отделения, цензоры и др. Комитет цензуры иностранной (1828-1917) был составной, важной частью цензурного аппарата, осуществлявшего, по подсчетам академика и цензора этого периода А. В. Никитенко, 12 видов цензуры.
Первые годы своего цензорства Ф.И. Тютчев совмещал с публицистической деятельностью, получившей широкую известность. 12 апреля 1848 г. он диктует жене статью «Россия и революция», одобренную впоследствии императором. Она выходит в Париже в мае 1849 г. под названием «Записка, поданная императору Николаю после Февральской революции одним русским чиновником высшего разряда Министерства иностранных дел». Журнал «Revue des Deux Mondes» поместил в своей хронике ее изложение; многие французские и немецкие газеты цитировали это произведение. У Тютчева рождается замысел создать большой историко-философский трактат «Россия и Запад», в который статья «Россия и революция» входила бы как глава. Но он ограничился написанием еще одной статьи «Папство и Римский вопрос», появившейся на страницах «Revue des Deux Mondes» 1 января 1850 г. Публицистика Тютчева имела большой резонанс (уже после смерти Ф.И. Тютчева полемика продолжалась около 30 лет). В немецкой, французской, английской, итальянской, бельгийской прессе появилось, по свидетельству Рональда Лэйна, до полусотни откликов на нее . Редактор «Revue des Deux Mondes» Франсуа Бюлоз писал 3 января 1850 г. к Пфеффелю: « ..автор, писатель с очень большим дарованием, владеющий с поразительной силой нашим языком...»188. Вся публицистика Ф.И. Тютчева написана на французском языке. По справедливому утверждению В. Кожинова, «можно без всякого преувеличения сказать, что в статьях Тютчева Европа впервые непосредственно услышала голос России» .
Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: «русская идея» в контексте духовной альтернативы
Рассуждая о взаимоотношениях творческой личности и цензуры в ушедшем столетии, нельзя не учитывать особый характер социального слома, происшедшего в нашей стране. Репрессивный аппарат XIX века советскому человеку вполне мог показаться мягким и чересчур гуманным, ведь «писательская ошибка» и «личная смерть» оказались связаны воедино. Если цензура царской России, несмотря на самые разные «преувеличения», оставалась в русле защиты (пусть, и по-особому понятых) национальных интересов, то в СССР идеологизация всех сфер речевой деятельности привела к искусственному, но очень прочному соединению понятий «партийная целесообразность» и «истина».
Популярность творчества М.А. Булгакова, не уменьшающаяся с годами, показывает не только характер взаимодействия писателя с читающей публикой, но и тот факт, что нравится прежде всего то, что является запретным или находится на границе с ним. Больше всего эта мысль относится к роману «Мастер и Маргарита», который закономерно оказывается в центре первого раздела третьей главы.
Конец 20-х годов был для Булгакова кризисным временем. К роману о Боге и дьяволе писатель обратился, когда понял, что театр перестал приносить радость. В пьесах говорили персонажи, авторская идея передавалась через музыку чувств. Такая односторонность естественна для драматурга, но для прозаика, для романиста гибельна. К тому же стремительно назревала первая, самая страшная и болезненная катастрофа—изгнание со сцены, обозначавшее для Булгакова смерть его театра.
И он вернулся к прозе, выбрал свободный и вместе с тем предельно требовательный к автору жанр романа и удивительную, находящуюся в полном несоответствии со всеми тогдашними литературными лозунгами, исканиями и требованиями тему - о Боге и дьяволе. Булгаков искал и нашел, точнее, придумал тему, которая спасла, возродила к новой творческой жизни его самого, да и его театр тоже, ибо роман помог пьесам устоять, многое им дал и в свою очередь позаимствовал идеи и образы у драматургии. Идеи двигались, развивались, меняли форму, перетекая из одного жанра в другой. И потому для автора «Мастера и Маргариты» так важно было начать работу над романом в предверии стремительно приближающейся театральной катастрофы 1929 года.
Да, в тогдашних булгаковских письмах правительству СССР и официальным лицам звучат болезненная напряженность и ноты отчаяния, и все же это не безнадежность тупика, писателю мрак собственной души удалось развеять (иначе его постигла бы печальная судьба мастера) и дорогой ценой выполнить свою задачу. Еще в 1923 году Булгаков записал в дневнике: «Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним - писателем. Драматург и писатель—понятия разные и весьма далековатые. Драматург - слуга двух господ, театра и литературы, писатель - одинокий охотник, знающий лишь свое дело. За все он платит жизнью, такова цена независимости».
И еще одно важное обстоятельство, похожее на закономерность: в 1929 году Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской, впоследствии его женой и незаменимой помощницей, столь много значившей в судьбе книги и ее творца. В 30-е годы жизнь писателя не стала легче, но это время расцвета его таланта, пора трудной, часто прерывавшейся работы над «Мастером и Маргаритой». Сам Булгаков писал в 1931 году Сталину: «После полутора лет моего молчания с неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы... замыслы эти широки и сильны». Это сказано и о работе над романом. Слова его, искренние и прочувствованные, быстро стали делом, обрели плоть. Созданы блистательные, всем ныне известные булгаковские произведения: биографическая книга для горьковской серии «ЖЗЛ» «Жизнь господина де Мольера», пьесы «Кабала святош», «Блаженство» и «Иван Васильевич», «Пушкин», «Адам и Ева», «Дон Кихот», остроумнейший памфлет «Театральный роман», оперные либретто, инсценировки и киносценарии. Произведения эти не печатались, запрещались, не принимались к постановке, укладывались автором в ящик письменного стола. Они долго шли к нам, дожидаясь своего часа. Автор безмерно страдал, был подавлен и оскорблен. Но вместе с тем нельзя не заметить, что в конфликт с цензурой Булгаков вступал сознательно.
Роман «Мастер и Маргарита» мы рассматриваем как феномен преодоления социально-политической цензуры и как феномен преодоления цензуры духовной, о которой нет смысла забывать даже тогда, когда христианство (как в булгаковское время) переживает великое унижение. Булгаковский роман не имел шансов быть напечатанным на рубеже 30-х-40-х годов, и нет никакого сомнения в том, что сам автор запрограммировал такую судьбу своего главного произведения. В центре романа оказались герои, чьи жизни едва ли можно было ассоциировать с главной линией советского прогресса. Мастер и Маргарита - персонажи, лишенные не только политического чувства, но свободные от любого социального контекста, непригодные ни для одного из видов советского строительства, готовые покинуть Советскую Россию и в финале совершающие именно этот шаг. Начиная с самой первой сцены на Патриарших прудах, в сюжет романа входит осуждение официальных советских лиц, достойных не только осмеяния, но и уничтожения, что и происходит с Берлиозом. Главным объектом булгаковской сатиры становится советский человек, и это не частное отрицание тех или иных «неполадок» в системе, а неприятие советского человека как типа личности, загубившего свою душу в потоке личных глупостей и социального идиотизма. В «Мастере и Маргарите» на протяжении всего произведения не появляется ни один положительный герой, представляющий достоинства нового строя жизни. Читателю, который несомненно отчужден от Булгакова хорошо представляемой им цензурой, было бы не трудно сделать следующий вывод: Воланд приходит ни в Америку, ни в Париж, а именно в Москву, потому что в столице СССР можно наказывать всех без разбора, не опасаясь задеть невиновного. Сюжетная линия «Иешуа-Пилат», занимающая в романе центральное место, реабилитирует Мастера, написавшего крамольный роман, выставляет на всеобщее осуждение Латунского и компанию, повинную в травле невинного человека. Но самое главное заключается в другом: советский человек (если бы он прочитал роман в булгаковское время) вынужден наблюдать за тем, как исключенная системой Библия возвращается как полностью оправданная история, без которой невозможна нравственная оценка человека. В самом явлении Иешуа можно рассмотреть и протест против репрессий, и оправдание личности, осуждающее «царство Кесаря», независимо от его территориального расположения. Такого романа официальная цензура пропустить, конечно, не могла.