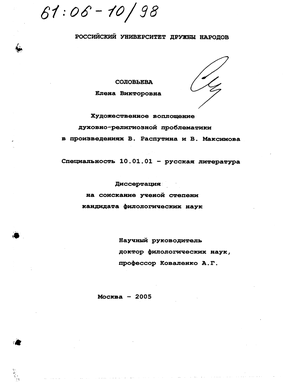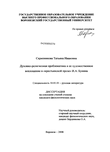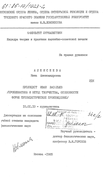Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ.. с. 3
ГЛАВА 1.Проблема «крестьянской веры» и «народного» православия в творчестве В. Распутина (повесть «Прощание с Матерой»)
1. Повесть В. Распутина «Прощание с Матерой» в
литературоведении и критике с.28
2. Духовная атмосфера общества в период созда
ния повести с. 33
3. Миф в повести В. Распутина «Прощание с Ма
терой» с. 40
4. Христианский аспект повести В. Распутина
с. 62
ГЛАВА П. Синтез религиозного и социально-исторического начал в прозе В. Максимова (роман «Ковчег для незваных»)
1.Творчество В. Максимова в литературоведении
и критике с. 102
2. Творчество В. Максимова и процесс возвраще
ния христианского сознания в России с. 107
3. Духовные поиски В. Максимова в романе «Ков
чег для незваных» с. 110
ЗАКЛЮЧЕНИЕ с. 158
БИБЛИОГРАФИЯ с. 165
Введение к работе
Значительная часть произведений русских писателей В.Распутина и В.Максимова была создана в тот период, который именовался «политическим застоем» общества — от середины 70-х до 80-х годов XX столетия.
По-разному сложились их жизненные пути: одного из них (В.Максимова) судьба сделала политическим эмигрантом, уехавшим на Запад не по своей воле, другого (В.Распутина) — оставила на родной земле, в Иркутске.
Но если застойное время и было затишьем, то это было затишье перед бурей: приближался конец социалистической системы, и писатели, наиболее остро чувствовавшие его приближение, не могли не реагировать на это, в первую очередь, в своем творчестве.
Советская же литература 70-х — 80-х годов представляла собой своего рода айсберг, верхняя часть которого была образована двумя совершенно различными пластами: первый — литература, написанная, что называется, по «официальному заказу» властей, второй — литература, созданная «по заказу» собственной совести.
Писателей, избравших путь официальной, «заказной», литературы, было довольно много, но их имена не стали достоянием литературы и отошли вместе с ушедшим строем (Г. Марков, А.Чаковский, драматург А. Шатров и др.).
«Их сопровождали соответствующие привилегии: повышенные гонорарные ставки, миллионотиражные издания — да еще перед этим одновременная публикация параллельно в нескольких толстых и тонких журналах; высокие премии; уходящие в бесконечность кино- и телесериалы; театральные инсценировки, бодро сколоченные христопродавцами на подхвате»1.
Отмечая неоднородность существовавшей в 70-е годы литературы, В. Распутин критически отзывался об этой ее ветви: « <...> литература, частью полезная, талантливая и все-таки сторонняя, но большей частью составляющая произведения печатного станка — требовательная, навязчивая, пресмыкающаяся и злая. Как всё, что не имеет чести быть родным и на этом основании требует отменить родственность»2.
Но была и другая сторона видимой части литературно-го айсберга — та, что в зарубежных журналах именовалась «третьей литературой» (первой была официальная, второй — диссидентская, о которой речь будет ниже), а позднее в отечественной критике была названа «стержневой словесностью»4 . Эмигрантская литературная критика могла говорить об этом вслух еще в те годы, для нее самой было откровением то, что в «застойной» социалистической России «произошло чудо — родилась целая богатейшая литература. Невероятно? Невероятно, но факт <...>. Тем и замечательна
1 Иванова Н. Смена языка // Знамя. -1989. № 11. С. 221
2 Распутин В. Мой манифест //Наш современник. - 1997. № 5 - С. 5.
3 См. об этом: Шнеерсон М. Разрешенная правда//Континент. - Берлин. 1981. №28. —С. 361-380; Маль
цев Ю. Промежуточная литература и критерий подлинности // Континент. - Берлин. 1980. № 25. - С. 285 -
321.
4 Бондаренко В. Стержневая словесность // Наш современник. - 1989. № 12. - С. 165 - 177.
покинутая нами страна, что в ней все возможно, даже то, что совершенно невозможно»5.
«Объективность требует, — пишет С.Людкевич, - окончательно отказаться от не полностью еще изжитого взгляда, что советская литература в прошлом <...> - это сплошная пропаганда, подхалимство к власти, нудная назидательность, нищета мысли и чувств, однообразная серость. Ведь можно сказать, пожалуй и без преувеличения, что в истории советской литературы не было периода, когда потоп литературной макулатуры уничтожил бы свежую струю, то более слабую, то более мощную, оригинального, подчас талантливого творчества, понимающего свой долг быть совестью людей и времени, непокорно не поддающегося унификации»6 .
Об этой же литературе с восторгом говорит и А. Солженицын: «Русская литература всего больше меня поразила и порадовала именно в эти годы, когда я выслан. И не в свободной эмиграции она имела успех<...>, а у нас на родине, под мозжащим прессом. И создался этот успех даже именно на главном стержне русской литературы, который в советской критике полупрезрительно называют «деревенской литературой»7.
Эмигрантский литературный критик Ю. Мальцев, также отмечая особую роль этой «третьей литературы», называет в числе ее представителей Ф. Абрамова, В. Белова, В. Распутина, В. Астафьева, Б. Можаева, В. Шукшина, В.
5 Шнеерсон М. Указ. соч. С. 379-380.
6 Цит. по: Вертлиб Е. Василий Шукшин и русское духовное возрождение. - New York. 1990. - С. 53.
7 Цит. по: Шнеерсон М. Указ. соч. С. 362.
Тендрякова, особенно выделяя при этом В.Распутина: «У него боль о России и русском крестьянстве высветляется страстной верой в оздоровительную силу христианства, верой в возрождение русской нации путем возврата к духовным ценностям. Христианский пафос у Распутина выражен с наибольшей силой»8.
Об этом же говорит и другой западный критик Д.Шток: «Творчество таких писателей, как В. Белов, В. Распутин, В. Лихоносов, Евг. Носов - новое явление в истории русской литературы. <„.>Русская классическая литература посвятила «деревне» , «мужику» немало страниц <...> И всё же — не будем кривить душой, - как бы ни были талантливы наши классики, но эта тема им не удалась: деревенская жизнь, «мужицкая» психология оставались «белым пятном», раздражающей загадкой. <...> И это было неизбежно, ибо волею судеб существовавший житейский и психологический барьер между писателем и описываемой им средой был непреодолим .
Недавно появившаяся в России плеяда писателей, вышедших из самой гущи народа, знаменует своим творчеством новый этап в развитии русской литературы именно потому, что для них этого барьера не существует: их устами «деревня» говорит сама о себе. И читателю, давно уже пресыщенному разного рода формальными «новинками», сетующему на оскудение и упадок художественного уровня литературы, почти смирившемуся с тем, что она уже «исчерпала» себя и ничего нового в наш атомный век больше не «придумает», - в произведениях этих писателей вдруг
8 Мальцев Ю. Указ. соч. С.288.
открылся совершенно особый, неведомый еще литературе мир
- кладезь глубочайших духовных ценностей, из которого
еще черпать и черпать...»9.
На эту заслугу «деревенщиков» в том, что в их произведениях деревня говорит «сама о себе», указывал и А. Солженицын: «Такого уровня во внутреннем изображении крестьянства, как крестьянин чувствует окружающую свою землю, природу, свой труд; такой ненадуманной органической образности, вырастающей из самого народного языка,
- к такому уровню стремились русские классики, но не
достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже Тол
стой. Потому что они не были крестьянами. Впервые кре
стьяне пишут о себе сами»10.
Правда, западный критик Е. Вертлиб отмечает, что по этому вопросу завязалась полемика между А. Синявским и А. Солженицыным на международной конференции «Русская литература в эмиграции: третья волна» (14 — 16 мая 1981 года).
«Андрей Синявский сравнил «версию» Солженицына с вульгарной теорией пролеткульта, согласно которой новую пролетарскую литературу должны создавать сами пролетарии, которые лучше всех знают производство и свой родной станок. Формально прав Синявский, а сушностно — Солженицын. И Достоевский, скорей всего, «солженицынского» мнения: он признавал заслуги Островского, Тургенева, Писемского и Толстого — первопроходцев, однако не забывал при этом, что и «они все вместе взятые взглянули на народ
9 Шток Д. Земля моя родная // Грани.Франкфурт-на-Майне. - 1978. № 10. С. 182 - 198.
10 Цит. по: Вертлиб Е.Указ. соч. С. 50.
вовсе не так уж слишком глубоко и обширно» <...> Солжени-А, цын похвалой «деревенщикам» бросил вызов неверам в русскую духовную состоятельность»11.
Определяя эту «третью литературу» как стержневую (так же, как и А. Солженицын) ,. В. Бондаренко отмечает, что всегда, «даже под страшным гнётом властителей всех мастей русскую литературу определяла стержневая словесность, идущая от глубин народного самосознания»12.
Он подчеркивает, что если сейчас, в настоящее вре-|^ мя, перечитать книги тех лет таких авторов, как Ф. Абрамов , В. Шукшин, В. Астафьев, то можно «увидеть, к стыду своему, что всё нам было сказано. И о беде народной, и о долгом пути к выздоровлению»13.
О том же говорит и Е. Вертлиб: «Борьбу за безотно
сительное человеческое добро ведут и современные «дере
венщики» — могучая кучка «пахарей», вернувшихся к пита
тельной родной почве <...> Осознание ими исконно русских
М начал и преданность вере предков создают сильнейшие
предпосылки для водворения на Руси «старозаветных» норм жизни - в Боге, добре, красоте. <...> Будучи христианской в основе, новая русская культура религиозно-нравственная <...> «Деревенщики» — краса и гордость современной русской словесности, самое серьезное направление в ней»14. И.А.Солженицын, и Е.Вертлиб, и Д.Шток, и В.Бондаренко отмечают главное в этой «третьей литературе» — её связующую роль с литературой классической, обеспечивающую
-Ф* п Вертлиб Е. Указ. соч. С. 74.
12 Бондаренко В. Указ. соч. С. 165.
13 Там же. С. 167.
14 Вертлиб Е. Указ. соч. С..50,73.
непрерывность истинной русской литературы, несмотря на особенности общественного строя. Е. Вертлиб и Ю. Вознесенская подчеркивают также особенность пути этой «третьей литературы»: «Солженицын «Матрёниным двором» перекинул <...> мостик от «деревенщиков» к самой что ни на есть «кровью проверенной» диссидентской литературе. И русская литература пошла не тем путём, на который загоняли её больше полувека литературно озабоченные партийцы, но и не тем, которым вёл ее жертвенный и одинокий «самиздат-чик». Видно, неисповедимы пути и литературные»15.
Об этой же важнейшей связующей роли «стержневой литературы» пишет и Митрофанова И.А.: «Решая философские, религиозно-этические вопросы о смысле человеческого существования, о вере, нравственном совершенствовании, духовных исканиях человека, «деревенская проза» восстановила нарушенную, прерванную традицию русской классической литературы»16.
То есть, и в те, «застойные» годы был возможен «честный, прямой, талантливый разговор о сложнейших проблемах нашей жизни»17.
При этом важно заметить, что писателей этой группы отнюдь не прельщала возможность диссидентства. Напротив, сами выходцы из глубин российских, в годы застоя они стремились не на Запад, в открытую эмиграцию, а назад, в родные места, создавая себе своеобразную «внутреннюю» эмиграцию, подальше от центра. Об этом их «нестремлении»
|5Вертлиб Е. Указ. соч. С. 57.
16 Митрофанова И.А. Мифо-фольклорная и древнерусская традиции в повестях В.Г.Распутина.Дис... канд.
филол. наук. - М. 1991. - С. 7.
17 Иванова Н. Указ. соч. С. 222.
к диссидентству говорил в 1998 году В. Матусевич, рассказывая о своих впечатлениях о В. Распутине: «Всё время , глядя на него (В.Распутина — Е. С. ) , я испытывал ощущение, будто постоянно страдает он, мучится <...> за Россию, русский народ. Слышал, будто Анастасия Цветаева начала было с ним переписываться, хотела, видимо, приобщить его, самого талантливого, к диссидентскому движению. Он вначале горячо откликнулся, но после двух-трёх писем переписка оборвалась»18.
Из таких вот противоположных по сути частей (первой - официальной и третьей — истинной литературы) и состояла верхушка литературного «айсберга» тех лет.
Но была ещё и скрытая его часть — та самая «вторая» литература, в виде произведений самиздата и литературы русского зарубежья, тех писателей-эмигрантов, которые оказались на Западе, но продолжали писать о России.
Как пишет Т.П. Буслакова, «Протест вызывала творческая несвобода, обусловленная партийным контролем над писательским организациями и жестким цензурным режимом. Попытки преодолеть их выразились в конце 1950-х годов в появлении таких понятий, как Тамиздат и Самиздат.
Тамиздат, публикация запрещенных произведений на Западе, возник в 1957, когда в Италии был опубликован роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго»19. Понятие Самиздат «стало употребляться с 1966 года для обозначения художественной и публицистической литературы, которую удалось
Матусевич В. Записки советского редактора // Новое литературное обозрение. - 1998. № 29. — С. 314. Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья. Курс лекций. - М. 2003. - С. 293.
выпустить частным образом, в обход цензуры»2 . О самиздатовской, «неподцензурной» литературе много сказано, например, в сборнике «Семидесятые как предмет истории русской культуры» (М.- Венеция, 1998), где называются имена таких писателей, как В. Гроссман, Ю. Алешковский, В. Войнович, Саша Соколов, В. Марамзин и др. Разумеется, и эта часть «айсберга» не была однородной21 .
Как пишет Н. Иванова: «Насильственному отторжению от читателя подвергались произведения А. Солженицына и Л. Чуковской, Г. Владимова и В. Максимова, В. Корнилова и Б. Чичибабина, С. Липкина и Н. Коржавина и многих, многих других»22.
Многие писатели-эмигранты, утрачивая родную почву, утрачивали и способность писать. Как замечал В. Максимов: «Мы же — дети России, слепленные из восточного теста, лишь взошедшего на западных дрожжах, зачастую сами того не сознавая, вывозили оттуда, вместе с самими собою свои индивидуальные острова собственной родины и продолжаем здесь жить на этих островах, не сливаясь с окружающим нас миром. Мы живем памятью»23 .
Так жили и творили такие писатели, как В Максимов и А. Солженицын. С другими же, увозившими с собой не столько любовь, сколько ненависть к оставленной стране,
20Буслакова Т.П. Указ. соч. С. 294.
21 См. об этом подробнее в ст.: Мальцев Ю. Русская литература в поисках форм . // Грани. - Франкфурт-на-
Майне. - 1975. № 98.С. 159-221. Более того, И.Синявин в статье «Потуги сатанизма» (Новый журнал. -
Нью-Йорк. 1977. — С. 262-272) весьма отрицательно отзывается о творчестве участников сборника «Аполлон
- 77», относя произведения Ю. Мамлеева, В. Марамзина, Г. Сапгира, Гаврильчика, Кузьминского и др. к
«сатаноарту».
22 Иванова Н. Указ. соч. С. 221.
23 Максимов В. Собр. Соч. в 8 томах, т. 9, Публицистика. - М. 1993. - С. 149.
происходило следующее: «Отрясая с ног своих прах ненавистного и деспотичного отечества, обличая и проклиная его невыносимое уродство, бежали многие русские люди в Европу, «страну святых чудес», бежали навстречу свободе, равенству и братству. Но проходило немного времени, и в душе тех же самых людей возникало безотчетное, неожиданное для них и нежеланное чувство какой-то невосполнимой утраты, и многие из них понимали, что дело здесь — не только в непривычной среде или чужом языке <...>, а в чем-то ином. Постепенно «страна святых чудес» начинала казаться им «мерзостью запустения», а собственное существование в ней, часто вполне благополучное — призрачным и фантастичным <...> Здесь лежит разгадка духовной- природы знаменитой и загадочной русской ностальгии, этого необъяснимого чувства утраты целого, без которого, оказывается, невозможна для человека полноценная жизнь»24.
Таковы были основные пласты русской литературы периода конца 70-х - 80-х годов.
Кроме того, в более широком масштабе конец 70-х годов был уже не только предчувствием конца определенной системы, но и надвигающимся концом XX столетия и, шире, второго тысячелетия. Как отмечал С. Залыгин, «всё происходящее сегодня в мире — это не что иное, как смена цивилизаций. Заканчивается цивилизация, которая исходила из принципа «человек — царь природы», приходит другая, она понимает, к чему привел этот принцип, но все еще не
Борисов В. Личность и национальное самосознание // Вестник русского христианского движения. - Париж-Нью-Йорк-Москва. 1974.№ 112-113.-С. 240-241.
понимает, каким образом следует перестраиваться» . Это само по себе не могло не вызывать определенных размышлений, часто апокалиптического характера, у писателей, ибо подобный временной рубеж заставлял вспомнить о проблемах не только частных, но и планетарных, общечеловеческих. Отсюда часто проистекала и тяга к философским размышлениям у ряда писателей, т.к. «обостренное внимание к общечеловеческим вопросам — объективная предпосылка для расцвета философских жанров»26.
А помимо этого, помимо философских размышлений, писателей настоящих начали занимать и вопросы духовно-религиозные , хотя религия в те годы еще и находилась под спудом. Но именно в те годы из-под этого спуда, «из-под глыб» и появлялись первые «ручейки» не просто философского, но именно духовного осмысления жизни.
И именно в эти годы в среде интеллигенции стали появляться первые религиозно-философские кружки, издаваться первые религиозно-философские сборники. Происходило то, о чем писал в первом издании сборника «Из-под глыб» В. Борисов: « <...> то, что случилось сейчас, подает первую надежду: что близится конец безапелляционным марксистским решениям и предначертаниям ее судеб, что ее искалеченные душа и тело отныне сами начнут искать путей своего исцеления»27.
В 1978 году Б. Дынин в статье «Религия и идеология» отмечал, что «религиозное возрождение в России еще
25 Залыгин С. Литература и природа. // Новый мир. - 1991. № 1. - С. 17.
26 Ершов Л.Ф. Современная социально-философская проза (1970 - 80-е годы). - Л. 1989. - С. 3.
27 Борисов В. Указ. соч. С. 229. В сборнике «Из-под глыб» участвовали также А. Солженицын, И. Шафаре-
вич, М. Агурский, Е. Барабанов и др.
не является статистически массовым, но духовные явления статистически не измеришь. Среди советских людей, не обращающихся к религии, укрепляется уважение к ней, ощущение, что в ней заключены проблемы нашей жизни, которые
коммунизм не разрешил и разрешить не может» .
Как раз в эти годы приходят к христианству В. Распутин и В. Максимов. И если духовной основой атеистической культуры был марксизм, то духовной основой возрождающейся русской культуры могла стать лишь Православная церковь в силу исторического консерватизма Православия в отличие от, например, западного христианства, в котором «сознание остается расколотым на религиозную и секуляр-ную сферы, и секулярное отношение к человеку и миру здесь все более укрепляется»29.
А потому именно церковь «оказывается единственной основой для преодоления релятивности нашего сознания, единственной основой для различения добра и зла, истины и лжи, красоты и уродства в нашей жизни, единственной основой для определения того отношения к коммунизму, которое формируется нашим жизненным опытом»30.
Но это «духовное брожение» вызывало и иные точки зрения. Так Д. Поспеловский отмечал, что если «у одних поиски увенчиваются нахождением некоей мистической Святой Руси, а вместе с тем и источника этой святости — Православной церкви», то «другие приходят к отталкиванию от собственной страны и ее прошлого, находят в ней толь-
Дынин Б. Религия и идеология //.Грани. - Франкфурт-на-Майне. 1978. № 110. - С. 230. Там же. С. 226. Там же. С. 226.
ко отрицательное, а в ее народе - только плохое. Амальрик приходит к выводу, что русский народ чужд религии, нравственности, понятию свободы и одержим только завистью и нигилизмом. Померанц называет русскую душу «салической» на том основании, что в России ХУП века имела хождение «Повесть о мутьянском воеводе Дракуле» <...> Шра-гин же договорился до утверждения, что нет у нас истории , да и в прошлом ее было маловато»31.
Таким образом, поиски духовной опоры, духовных основ у писателей названного периода времени, в особенности у ряда писателей «второй», диссидентской, литературы, происходили в различных направлениях.
Так в целом выглядел тот литературный «айсберг», что сложился к концу 70-х годов XX столетия из трех условно выделенных «литератур».
Памятуя о том, что «по плодам их узнаете их», по тому, как сложилась дальнейшая судьба этих трех различных по характеру «литератур» названного периода, мы можем судить и об истинной значимости каждой из них. Выделим лишь основные моменты. Итак.
«Первая» — официальная, ориентированная на социальный заказ, - литература умерла вместе с ушедшим строем.
«Вторая» — диссидентская и эмигрантская — развивалась по двум направлениям. Первое: диссидентская и определенная часть эмигрантской литературы во многом обусловили появление нынешнего литературного андеграунда32.
31 Поспеловский Д. Русский национализм, марксизм-ленинизм и судьбы России.// Грани. - Франкфурт-на-
Майне. 1979. № 111 - 112. - С. 408-409.
32 См. об этом подробнее в кн.: Николаева О. Современная культура и православие. - М. 1999.
Как заметил В.Асмус, после перестройки «все ждали, когда заговорит в полный голос искусство неофициальное, потаенное, гонимое. И вот, по мере падения цензурных оков перед нами стали все более и более явственно вырисовываться уродливые очертания этого «нового» искусства. <...> Мы видим разложение и гибель не отдельных художников, но человечества — той его части, что вовлекается в апостасию. <...> началось уравнивание в правах добра и зла, добродетели и греха<...> Духовное понимание современного искусства раскрывает страшную правду о человеке, о
тех «глубинах сатанинских», в которые он устремился» .
Другим направлением развития «второй литературы», а именно той ее части, что, по выражению В.Максимова, «жила на островах собственной памяти», не сливаясь с зарубежьем, стало ее духовное сближение с «третьей литературой», возраставшее, правда, на иной художественной почве. Это сближение отечественной («третьей») и части эмигрантской («второй») литератур происходило на единой духовной основе. Как писал в свое время В. Ходасевич, эмиграция для лучшей части русских писателей была «миссией по сохранению духовных ценностей русской культуры»34. О сохранении духовных ценностей русской культуры, о проблемах своего рода духовной экологии беспокоились и писатели «третьей литературы», жившие на родине. Эта общая цель и явилась главным моментом в сближении двух ветвей русской литературы, располагавшихся по разные стороны границы России.
33 Цит. по: Николаева О. Указ. соч. С. 3 - 5.
34 Ходасевич В.Ф. Литература в изгнании // Ходасевич В.Ф. Литературные статьи и воспоминания. - Нью-
Йорк. 1954.-С. 261.
«Третья» же литература явилась тем самым недостающим и связующим звеном с русской классической литературой, которое и продолжило основные ее духовно-нравственные традиции. При этом следует учитывать и ту духовно близкую «третьей литературе» ветвь эмигрантской литературы, без которой картина была бы неполной. Как замечает Т.П. Буслакова: «Восстановить рассыпанную, разбитую на мозаичные фрагменты картину русской культуры XX века можно, соположив идейные и жанрово-стилистические искания ее деятелей, разделенных государственными границами»35 .
В настоящей работе, оставив в стороне «первую» — официальную - литературу, далекую от духовных исканий, обратим свое внимание на лучших представителей «второй» (В. Максимов) и «третьей» (В. Распутин) литератур, в произведениях которых нашли свое отражение названные выше процессы, происходившие в литературной и духовной жизни.
Есть и еще один важный вопрос, на котором необходимо остановиться, прежде чем перейти к конкретному анализу повести В. Распутина «Прощание с Матёрой» и романа В. Максимова «Ковчег для незваных». Это вопрос об условных формах и - уже - вопрос о мифе в произведениях писателей 1970-80-х годов, который имеет непосредственное отношение к произведениям обоих писателей. Повесть В. Распутина «Прощание с Матёрой» (1976 г.) и роман В. Максимова «Ковчег для незваных» (1976 - 78 г.г.) были написаны в одно время, хотя и по разные стороны границы. В
35 Буслакова Т.П.Указ. соч. С. 356.
#-
советском же литературоведении этого времени происходили весьма показательные события: вдруг (со статьи Л. Аннинского36) началась дискуссия о мифе в советской литературе. Вопрос о мифе возник в тесной связи с усилением интереса к проблеме художественной условности, одной из форм которой и является миф.
Следует сказать, что вопрос о правомерности использования условных форм и приемов в литературе социалистического реализма вставал неоднократно на протяжении всего пути развития советской литературы. Специальное теоретическое исследование данной проблемы в советском литературоведении и критике началось еще примерно с 1959 года. В это время происходила дискуссия на страницах журналов «Вопросы литературы», «Театр», «Творчество». Главной чертой дискуссий 1959 — начала 60-х годов была резкая поляризация отношений к условным формам в искусстве.
Обсуждались вопросы о «первичной», т.е. присущей искусству вообще, и «вторичной», т.е. сознательно используемой автором условности как способе художественного обобщения, средстве образной выразительности, противостоящем внешнему правдоподобию, но в то же время служащему для выражения «художественной правды».
Однако в этих дискуссиях вопрос о художественной условности решался, прежде всего, на теоретическом уровне. Материала для практических исследований в достаточной мере литература того периода ещё не давала, и во-
Аннинский Л. Жажду беллетризма // Литературная газета. - 1978. № 9.
прос о возможности использования условных форм в советской литературе так и остался тогда, в основном, сугубо теоретическим в отношении именно литературы (театр, как иная форма искусства, имел некоторые подобные примеры).
Новый подъем интереса к данной проблеме произошел нескоро — в конце 1970-х годов, когда пищу для споров об условности дала уже именно сама литература. И вот тут, наряду с такими условными формами, как аллегория, символ, метафора и проч., чаще всего в литературоведческих статьях стали появляться слова: миф, мифологизация, ми-фологизм, мифологема, мифема. Вопрос об условности в советской литературе тех лет, поднятый Л. Аннинским, перерос в вопрос о мифе.
Л. Аннинский высказывал мысль, что основная черта советской прозы тех лет — чрезмерная насыщенность символикой, аллегоризмом, мифотворчеством, стремлением «выпрыгнуть в сверхреальность» из прозы жизни. Критик связывал это явление с увлечением орнаменталистикой, «стилевым надсадом» и объяснял его, по сути, писательским волюнтаризмом.
Аналогичные выводы делал и А. Кондратович37, другой участник дискуссии, открытой Л. Аннинским. Но, приводя в пример «Районные будни» В. Овечкина как образец добротной реалистической прозы, критик не объяснял, почему в 50-е годы появление подобного произведения было возможным, а условного — нет.
Кондратович А. Муза в тумане?.. // Литературная газета. -
1978. №15.
В целом же критики полагали, что обращение отдельных авторов к условным формам являлось проявлением определенной тенденции, которую одни считали авторским произволом или подражанием латиноамериканским авторам, в частности, Г. Маркесу, как раз в то время написавшему свой роман «Сто лет одиночества» и др. 38
Другие называли множество иных причин появления этой тенденции: и воздействие НТР, и сложность международной обстановки, и углубление историзма и философичности как существенных особенностей современного художественного мышления, и нравственно-этические поиски, связанные с проблемой гармонически развитой личности, и пошатнувшаяся позиция непреложности авторского слова в современном мире и связанное с этим использование иных источников опыта и знаний о мире и пр39.
Это множество ответов означало, в сущности, отсутствие истинного ответа и некоторую растерянность критики. Действительно, писатели в самом деле испытывали на себе воздействие всех вышеназванных причин, осознанно или неосознанно, и все эти причины в комплексе побуждали их искать свой выход, свою дорогу. Но все же причины обращения ряда писателей в эти годы к условным формам и, в частности, к мифу лежали глубже. Но критики их еще тогда не могли понять, а потому искали не всегда то и не всегда там (или не могли искать в то время по определенным причинам).
38 См. переводы его романов на русский язык.
39 См., например: Ильницкий М. Второе возвращение // Дружба народов. - 1978. № 1; Козьмин М. Наша ли
тература и становление коммунистической цивилизации // Вопросы литературы. - 1981. № 3; Бочаров А.
А причины, называемые различными критиками, скорее, можно было рассматривать как общие причины художественных поисков, приводящие к условности только тех, кто имел для того соответствующие предпосылки.
Что же касается качества произведений, в которых использовались условные формы, то большинство критиков единодушно высказывались, что не «всякая условность, символика, сказовость хороши и не обязательно знаменуют собой непременный шах1 вперед»40; отмечались некоторая заданность, трезвый расчет, рассудочность подобных произведений; ставилась под сомнение уместность использования условных форм и их необходимость в каждом конкретном случае и, естественно, говорилось об индивидуальном мастерстве каждого автора, поскольку как «абсолютный реализм», так и «абсолютная условность» не являются гарантами художественной удачи автора.
В то же время некоторые исследователи впадали в крайность, пугаясь появления подобных произведений41, боясь «аллегорического тромбоза» (по выражению Л. Аннинского) .
Использование условных форм становилось, по мнению критиков, своего рода стилевой инерцией, которая не могла продолжаться слишком долго.
Кроме того, во всех статьях на эту тему отсутствовала терминологическая четкость. Зачастую наблюдалось
Взгляд на закономерности // Литературная Россия. - 1982.№ 50; Анастасьев Н. Диалог. // Вопросы литературы. - 1983. № 3 и др.
40 Кондратович А.Указ. соч.
41 См., например: Еланский Н.П. К проблеме сравнительной эффективности художественных систем жизне-
подобия и условности. - Калинин, 1980.
просто замещение термина «условность» термином «мифоло-хтсзм». Имела место своего рода терминологическая синекдоха — перенесение свойств одной части на всё целое. При этом термины «мифологизм» и «мифотворчество» использовались без теоретического обоснования, как нечто данное и общеизвестное, а в результате происходила подмена понятий, к произведениям мифологического характера относились произведения, содержащие условные формы иного рода, - сказку, притчу, гиперболу, гротеск, сатиру, иронию и проч.
Заметим попутно, что в дальнейшем, чтобы не допускать смешения терминов, мы будем исходить из следующего их понимания: определяя миф) как рассказ, созданный человеческой фантазией для объяснения явлений окружающего мира посредством доступных средств, а при их отсутствии -с помощью вымысла; близкие к мифу понятия «легенда» и «предание» — как обросшие вымыслом, фантастическими подробностями события некогда реальной: действительности; сказку - как явное порождение человеческой фантазии, не служащее для объяснения мира, а, скорее, стремящееся отразить определенные жизненные представления человека, его мечты и стремления или послужить образцом назидательным, что в какой-то мере сближает сказку с притчей (по функции), которая, в свою очередь, представляет собой краткий рассказ иносказательно-поучительного характера с рекомендацией определенного образца поведения. Подробнее эти понятия анализируются во многих работах42.
42 См.: Лосев А.Ф.Античная мифология в ее историческом развитии. - М., 1957; Аверинцев С.С. Притча. БСЭ. - М. 1975. - С. 599; Вейман Р. История литературы и мифология. - М. 1975; Токарев С.А. Что такое мифология? // Вопросы истории религии и атеизма, вып. X. - М.. 1962. -С. 338 - 375; Вирсаладзе Е.Б. Ми-
Вместе с тем, анализу общих предпосылок и выводов отводилось значительно больше места, чем конкретному анализу произведений, что создавало впечатление обилия материала «мифологического» характера. В данном случае используемый некоторыми критиками своего рода дедуктивный метод приводил к тому, что появлялись лозунги типа «Жажду беллетризма!» (Л. Аннинский), боязнь «мифологического бума», которого так и не произошло.
Недостаточное внимание к анализу собственно художественных текстов, к специфике использования мифа в каждом конкретном случае, к функциям мифа в отдельном произведении приводило к тому, что в одном стилевом ряду назывались совершенно разнородные произведения. К числу «мифологических» были отнесены вещи с совершенно иной структурой, а «обойма» писателей - «мифологов» кочевала из статьи в статью порой без каких-либо изменений, в одном и том же порядке. В ряду писателей, обратившихся к условности и, в частности, к мифу, называли Ч. Айтматова, Т. Пулатова, Г. Матевосяна, И. Друцэ, многих грузинских авторов (А. Сулакаури, Т. Бибилури, Н. Думбадзе, О. Чиладзе), писателей младописьменных литератур (В. Санги, Г. Ходжера, Ю. Рытхэу) и некоторых других. В эту же «обойму» попал (за использование мифа) и В. Распутин и неминуемо должен был бы попасть (но по причине эмиграции не был включен в литературный процесс) и В. Максимов (за использование библейских мотивов и образов).
фы. Сказка. - Грузинское народное поэтическое творчество. - Тбилиси. 1972.- С. 210-268; АнастасьевН. Диалог// Вопросы литературы. - 1983. № 3. - С. 62 - 104 и др.
Необходимо заметить попутно, что «зачислялись» писатели в эту «мифологическую обойму» часто по простому принципу наличия в их произведениях каких-либо условных, метафорических, мифологических или библейских мотивов, образов или деталей. О теоретической точности формулировок мало кто особо задумывался, понятие «миф» делали практически безграничным, называя мифом подчас абсолютно разнородные явления43.
Однако главным в дискуссиях тех лет была констатация того факта, что ряд совершенно разных по стилю, по традициям, по духу писателей обратился к мифу, а точнее, к ряду условных форм.
Что же касается «кочующего» списка авторов, то уже и в те годы нельзя было не почувствовать, что В. Санги, Ю. Рытхэу, Ч. Айтматов — это один ряд, а тот же поздний Н. Думбадзе и О. Чиладзе - совсем иной, ибо представители младописьменных литератур еще тесно связаны с национально-фольклорным наследием, с мифами и легендами, активно бытующими среди их народов, то есть условность их произведений не нарочитая, это не сознательный прием, а естественная потребность. Во втором же случае обращение к условным формам, ив частности, к мифам , имеет иные корни. Тут литература и миф далеки друг от друга во времени. Миф не является непосредственным предшественником создаваемых произведений, а представляет собой, по выражению А. Эбаноидзе, своеобразную «игру ума»44. Бо-
43 К теоретической точности призывали позже Аре. Гулыга (От мифа к мудрости //Литературная Россия.—
1982. № 38); А. Бочаров ( Взгляд на закономерности //Литературная Россия. - 1982. № 50; Н. Анастасьев
(Диалог// Вопросы литературы. - 1983. № 3. С. 62 - 104).
44 Эбаноидзе А Не храм, а мастерская // Вопросы литературы. - 1978. № 5. - С. 80.
лее того, заметим попутно, что использование языческих и библейско-христианских мотивов и символов Н. Думбадзе («Белые флаги», «Закон вечности») и О. Чиладзе («Шел по дороге человек» , «И всякий, кто, кто встретится со мной») во многом определялось теми же духовными поисками, что и у В. Распутина и В. Максимова, но эта тема требует отдельного исследования.
Тогда же так и не было дано ответа - почему вдруг в одно время произошел этот «мифологический всплеск». Уже позднее, в постперестроечные годы, критика вновь вернется к этой проблеме, пытаясь разобраться в ней45. И тогда Н. Иванова напишет: «Внимательно, и уже свежим глазом перечитывая собственный текст, написанный в 1981 — 1982 годах, я обнаружила, что многое зашифровано. В «застойные» времена принцип кода был «sapientis sat» — «умному достаточно». <...> чтобы обойти цензурные запреты, необходимо было выработать свой язык, свою знаковую систему, дабы высказаться и избежать цензурных рогаток. <.„> что же было делать писателю, который прекрасно отдавал себе отчет — то, что он пишет, обречено на строжайший контроль?»46Н. Иванова отмечает, что одним из способов высказать свою мысль стал эзопов язык, который не был изобретением советской литературы эпохи застоя, поскольку еще в 20-е - 30-е годы на нем писали такие замечательные художники, как М. Булгаков («Роковые яйца», «Багровый остров», «Собачье сердце», «Кабала святош»,
45 См., например, об этом: Белорусец А.Интерес к бесконечности. // Новый мир. - М.1986. № 3. - С. 223 -240; Кардин В. Мифология особого назначения. // Знамя. - М. 1989. № 3. - С. 208 - 220; Семенова С. Всю ночь читал я твой завет... //Новый мир. - М. 1989. №11.- С. 230-243; Гордеева Г. Свободная тайна, или Давай улетим // Новый мир. - М. 1990. № 7. - С. 230 - 239; Чупринин С. Предвестие // Знамя. -1989. № 1. -С. 210-214 и др.
«Мастер и Маргарита») и А. Платонов ( «Котлован», «Че- векгур»)47.Таким образом, «цензурные рогатки сыграли роль стилистического фермента в развитии русской литературы», поскольку «цензура невольно обусловливает ускорение метафорического языка»48.
Это было верно, но было еще и другое: совершенно справедливо прозвучали слова М. Новиковой о «мифологической прозе»: « <...> было во вспышке подобного «неоязычества» нечто иное — интуитивное и неподдельное. Сном -духом о такой функции не помышляя, «неоязычество» <...> исполнило функцию духовного тамбура (выделено мной — Е.С.). Перехода от сознания начисто десакрализованного, полностью утерявшего «чувство тайны», - к сознанию, в котором это чувство смутно просыпается, ища мировоззренческих, поведенческих и художественных форм для своего воплощения»49.
Похоже, это были своеобразные «дрожжи», на которых л должно было подняться иное тесто. Это было не просто осмысление тем «Человек и природа», «Природа и НТР», о чем писали тогдашние критики, не только философия и не просто нравственность - за этим стояла у ряда писателей еще до конца не осознанная (а у таких, как В. Распутин и В. Максимов, вполне осознанная) потребность духовной опоры иного порядка, о которой долго молчали, потребность высшего смысла жизни, постижение ее закономерностей.
Щ 4б Иванова Н. Смена языка // Знамя. - 1989. № 11. - С. 221.
47 Там же. С. 222.
48 Там же. С. 223.
49 Новикова М. Христос, Велес- и Пилат// Новый мир. - М..1991. № 6. - С. 245.
У В. Распутина же и В. Максимова эта потребность была отнюдь не случайной, и их обращение и к мифологии, и к реминисценциям и параллелям из Священного Писания носило совершенно иной характер, чем у писателей «мифологической обоймы»: они оба искали путь, который для обоих оказался в итоге одинаковым по сути, хотя и разным по форме. Потому и выпадал из этого «мифологического» списка В. Распутин и не мог бы вписаться в него и В. Максимов, что не просто миф, да и не столько миф или библейские параллели и аллегории интересовали этих писателей. О том, что же лежало в основе их духовных устремлений, и пойдет речь в данной работе.